Текст книги "Гармония – моё второе имя"
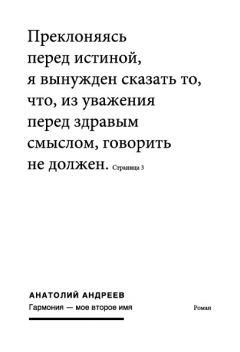
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Она понизила голос, и дальше Герман разобрал только одно слово: Маргарита.
– Девки спорили в метро… – огрызнулся Учитель.
– Больше не значит лучше, – очевидно, не осталась в долгу Элеонора.
После обмена любезностями Учитель удалился, а Элеонора предложила выпить за внезапно вспыхивающее чувство между мужчиной и женщиной, яркое, похожее на любовь, которое, возможно, вскоре пройдет, однако жизнь наша настолько коротка, что и это блеснувшее чувство оставит свой след. Надо жить красиво, ибо красота, как выразился Достоевский, спасет мир… Больше добра и ласки – меньше агрессии, ревности. Разве нет?
Это был даже не тост, а инструкция, сопровождаемая пожатием руки и короткими поглаживаниями. Романов не имел ничего против тоста-инструкции; он возражал, во-первых, против «чувства между мужчиной и женщиной, яркого, похожего на любовь», а во-вторых – против того, что это глупое слащавое изречение о красоте приписывают Достоевскому. Герман испытывал чувство другого рода: его собирались использовать, грубо и откровенно, а он отчего-то был не против. На него нахлынуло сложное переживание: смесь отчаяния с равнодушием.
Они выпили, и Романов потерял ощущение пространства и времени. Элеонора подливала ему водку и шептала:
– Сейчас многие уйдут: Баба Яга со своей неаппетитной, поверь мне, половинкой, рассосутся Шкло, Талгатик… Останутся только избранные. Мы ведь останемся, не правда ли?
Герман решительно кивнул головой.
– Сходим в спортзал, заглянем к Юрику в кабинет; у него есть диван, скрипучий, как Маргарита, но жить, и жить регулярно, можно. Сходим?
Он кивнул головой так, что она у него чуть не отвалилась.
– Хороший мальчик, хороший. Ты ведь поцелуешь свою Леру? Уж полночь близится…
Как они выбрались из подвала, Герман не помнил. Полная грудь Элеоноры и ее аккуратные, но жадные, ласки почему-то не оставили сильного впечатления. Но вот сцена в кабинете Учителя отчего-то врезалась в память навсегда.
Юрий Борисыч, хищно оскалившись, по-волчьи припал пахом к рыхлому белому заду Маргариты, сотрясая ее тело мощными толчками. Она, оперевшись руками о спинку кресла и выгнув спину (поза непременно должна быть красивой, это каждая женщина знает от рождения; чем красивее – тем развратнее), крупно вздрагивала и всхлипывала; грудь у нее болталась жалкими тряпичными комочками, живот отвис большими жирными складками. Марго повернула искаженное болью лицо, блудливо утонувшее в растрепанных волосах, и они встретились глазами.
«В этот знаменательный, великий для нас день», – крутилось в голове у бедного Германа.
…В эту ночь, когда отмечали День учителя, у меня пропала вера во что бы то ни было. Мне казалось, что все вокруг нагло врут, не стесняясь друг друга. Но мотивы этого зажигательного коллективного безумия были мне не ясны. Мне казалось, что все от меня скрывают что-то очень простое, но крайне важное.
Самым же большим лжецом, лгущим себе так, что хотелось уважать себя до слез, представлялся мне Федор Михайлович Достоевский.
Я почувствовал себя безумно одиноким на празднике жизни.
3. Урок для учителя
На следующее утро Герман, вопреки обыкновению, почти опоздал на работу: вошел в вестибюль со звонком. Видеть коллег в учительской не хотелось, но за журналом надо было забежать.
Маргарита Петровна уже была на посту и с укором поздоровалась первой. На спортплощадке бодро рокотал баритон.
Ничего не случилось.
– Где положенное возрасту рвение, Герман Львович? Праздник – это не повод расслабиться до неприличия; это повод настроится на работу.
Очевидно, ему давали понять, что увиденное им вчера не может быть поводом для сближения, для сколько-нибудь чувствительного разрыва дистанции между директором и учителем. Он посмотрел на ее грудь: она казалась большой и упругой. Пышная прическа идеально уложена, прядь к пряди. Разница между вечером и утром была впечатляющей.
– Маргарита Петровна, разрешите обратиться.
Перед ними стоял Юрий Борисыч – сама сосредоточенность, свежевыбритая, благоухающая своим фирменным одеколоном и дышащая несколько в сторону. Герману Львовичу он сухо протянул руку, и даже не посмотрел на него.
– Слушаю вас, – сказала Маргарита Петровна.
– Докладываю: Лаврик Константин отказывается переодеваться в спортивную форму и работать на уроке. Я ставлю ему неявку. С аттестацией за четверть у него будут большие проблемы. Придется ему отрабатывать: будет помогать мне проводить уроки в младших классах. Вместе с Викторией.
– Я все поняла. Лаврика ко мне. Герман Львович, берите пример, – показала она на то место, где еще секунду назад с достоинством стоял Учитель в позе подчинения.
Маргарита Петровна смотрела на него ясным взором, не отводя глаз.
– Я все понял. Разрешите приступить к уроку?
Она позволила себе что-то вроде улыбки.
– И впредь не опаздывайте.
Он уже развернулся, направляясь к лестнице, когда она, смягчив интонацию, по-матерински поинтересовалась:
– Утром было тяжело? То-то же. Учитель – это сила воли. Вам понравился вчера наш праздник?
– К стыду своему, я плохо помню то, что было ближе к полуночи. Вторая половина праздника смазалась. Кажется, я был пьян.
Маргарите ответ явно понравился.
– Но выглядите вы молодцом. Мы сделали вынужденную перестановку. Вы пойдете на замену в 10 «Б». Физик, между нами говоря, после вчерашнего просто не в состоянии. Я отправила его домой. Выручайте, Герман Львович. Скажите ученикам, что я вас задержала.
Урок начался с того, что Пашка Кузнечик по кличке Гусь, злобный доходяга, влюбленный в Машу и потому ревновавший ее к Германну за тот интерес, который девушка с полной грудью проявляла литературе, заблеял нудным козлетоном:
– А мы не хотим слушать басни о проститутке Сонечке, это аморально; мы хотим Пол Баба Яги. Всего только Пол Бабы. Мне в институт поступать, мне нужна физика с математикой. Я правило буравчика готовил. Где Пол Бабы?
– Павел, успокойся, – невозмутимо парировал Герман Львович. – Будет вам физика с математикой. Но не сейчас. Маргарита Петровна попросила меня заменить физику. Приношу извинения за опоздание: она задержала меня в своем кабинете.
– А мы думали, что вы задержались потому, что провожали домой Элеонору Георгиевну, – брякнул Пашка как ни в чем не бывало.
Герман густо залился краской от неожиданности; кроме того, краснеть действительно было за что. Особенно неприятно было то, что Вита смотрела на него во все глаза, будто выискивая на лице его следы лжи. Надо было достойно выбираться из ситуации.
– Павел, не выдумывай ерунды. И не хами.
– А я не хамлю. Вас видели ночью сначала возле школы, а потом возле ее подъезда. Я в том же самом доме живу. Скажете, вас там не было? Да вы не бойтесь, я не собираюсь рассказывать, чем вы там занимались…
Очевидно, Гусь уже успел растрезвонить о пикантной сенсации в деталях и в лицах, не жалея красок, поэтому классный бомонд, группировавшийся вокруг смуглой Майки, с удовольствием реагировал на дуэль в меру неприличным смешком.
– А чем мы, собственно, занимались?
– Герман Львович, ведь я могу и повторить в подробностях, мне не трудно. Мы все живем так скучно, а у вас все было так ярко…
– Ты словно пугаешь меня. Я не собираюсь оправдываться в том, что поздним вечером проводил коллегу домой; скорее, мне было бы стыдно, если бы я этого не сделал. А на твоем месте я бы подумал о том, чем может обернуться ситуация для выпускника, распускающего грязные сплетни про учителей. За это придется отвечать.
Гусь повернулся лицом к классу – длинная шея, плоский нос – и тихо прогнусавил что-то такое, от чего все мальчики, считающие себя мужчинами, сочли нужным громко заржать. Майка улыбалась, с интересом наблюдая за схваткой, Вита опустила глаза.
Настала минута, требующая решительных действий. Сейчас неважно, прав ты был или нет; важно было, как ты себя поведешь.
– Павел Кузнечик, выйди из класса, – тихо, чтобы предать голосу уверенности, сказал Герман Львович.
– Не выйду, – выкрикнул Гусь.
– Выйдешь. Ты срываешь урок. У меня нет выбора, я вынужден отправить тебя на свидание к Маргарите Петровне.
– Пошли, подумаешь. Я под присягой все повторю.
Они вышли в пустой коридор. Во всех классах шли занятия, почти в каждом из них стояла школьная рабочая тишина – за исключением кабинета напротив, где Талгатик уныло, будто муэдзин, уговаривал детей, которым следовало сплотиться в хор, спеть что-нибудь про родину из Кабалевского. Дети веселились от души, стучали крышками парт, распевая про зелененького кузнечика, который сидел в траве; сложной полифонией в тему о кузнечике вплеталась баллада про Мурку.
Неожиданно для самого себя Германн развернулся и всадил плотно сжатым левым кулаком Гусю в область печени. Удар получился резким, коротким, Германн вложился в него всем корпусом. Гусь отлетел к стене, схватился за живот и сполз на пол, растопырив ноги, как подбитый кузнечик.
– Что ты там видел, урод? Что ты мог разглядеть в темном подъезде, мразь липкая?
Ножом блеснули глаза Германна, в которых горели собачьи ярость и ненависть. Теперь эффект неожиданности сработал против Пашки. Он насмерть перепугался: язык улицы, который сидел у него в печенках, заставил его съежиться и привычно искать аргументы слабости против не рассуждающей силы.
– Это не я видел, это мне Пенициллин рассказал.
– Запомни: брешет твой вшивый Пеня. А ты засунь буравчик себе в одно место и сиди смирно. Кто вчера напустил дыму в спортзал через шланг? Юрий Борисыч уже ищет того, кто это сделал. Может, подсказать ему, а, зелененький? Я ведь видел это собственными глазами. Пару «горячих» охладят твой пыл.
Герман, конечно, не видел никакого дыма; Гуся «сдал» Учителю (который и поделился информацией с Германом) все тот же Пенициллин, Пеня, получавший, кажется, особенное удовольствие от зрелища казни. Но эта новость поразительно отрезвила Кузнечика.
– Сейчас извинишься за клевету перед всем классом – или пойдешь на ковер к Маргарите. Элеонора…
– Георгиевна.
– Да, Георгиевна, я думаю, еще к родителям твоим зайдет. Выбирай.
– Я извинюсь.
– Громко, четко, передо мной и перед Элеонорой Георгиевной.
– Я извинюсь.
Герман потушил пламя в глазах, вошел в класс и, как ни в чем не бывало, сказал:
– Сонечка – проститутка только формально, надеюсь это всем понятно? На самом деле она принимает страдании за униженных и оскорбленных. Я хочу, чтобы мы разобрали с вами сегодня такой момент: отчего Раскольников признался в своем преступлении прежде всего ей? Это во-первых. И во-вторых: в чем, собственно состояло преступление Родиона Романовича? Уголовный аспект преступления ясен. Но только ли в нем дело? Не совершил ли Родион Романович еще и философского преступления?
На мгновение зависла тишина. Маша подняла руку, встала из-за парты и детским голосом, заставлявшим отчего-то обращать внимание на ее грудь, спросила:
– А Достоевский может научить нас тому, как стать счастливыми?
В ту же секунду в класс ввалился с действительно зеленоватым лицом Павел Кузнечик и громким голосом покаянно произнес:
– Это я виноват.
– В чем ты виноват, Павел?
Теперь Герман Львович без колебаний брал реванш. Грубо, цинично, сполна.
– В том, что оклеветал. Вас и Элеонору Георгиевну. Приношу свои извинения.
– И все же: расскажи, что ты видел. Народ изнывает от любопытства.
– Я ничего не видел. Это мне Пенициллин лапшу на уши навешал.
Класс, который еще несколько минут назад готов был насладиться унижением Германа Львовича, теперь дружно загудел против раздавленного Гуся.
Герману расхотелось вести урок дальше. И дело было вовсе не в Гусе. Что Гусь? Всего лишь деморализованное забитое существо, которое, кстати, и вины-то за собой никакой не чувствовало. Его застукали на месте преступления – он и лапки кверху; а не застукали – ходил бы гусем. Это тебе не Раскольников…
Перед Германом на задних лапах сидела молодая энергичная стая, которую укрощать надо было не рассуждениями, а волей, проистекавшей из абсолютной уверенности в своей правоте. Они верят только твоему чувству правоты. А вот с этим у Германа, кажется, намечались большие проблемы. Чему их учить? Тому, что вина, по Достоевскому, искупляется страданием? Тому, что счастья, не исключено, вовсе нет, а есть покой и, возможно, воля?
Тут же растеряешь весь свой авторитет, который три месяца зарабатывал по крупицам.
В этот момент Вита встала и выскочила из класса. Глаза ее красиво были унизаны бриллиантами слезинок.
– Что случилось? – растерянно спросил Герман Львович.
– Как будто вы не знаете, – пробубнил Пашка. – Она влюблена в вас, вот и переживает. Я правду говорю, не смотрите на меня так; спросите любого, это всем известно.
– Гусь, ты хоть что-нибудь, хоть раз в жизни слышал о человеческом достоинстве?
– А что Гусь? Я же извинился!
– Ты скотина, Гусь, и сильно подозреваю, что это от рождения и навечно. И о Достоевском я с тобой не буду говорить никогда. Даже если меня завтра уволят.
Было видно, что Пашка Кузнечик просто не понимает причин гнева учителя русского языка и литературы. Он сидел, опустив голову и поглаживая правую сторону живота.
Герману стало тошно.
На перемене он вошел в кабинет к Учителю и сказал:
– Я только что избил Пашку Кузнечика. По всем правилам неформальной педагогики.
– Свидетелей не было?
– Нет.
– Внешних следов не осталось?
– Нет. Я удачно тыкнул ему в живот.
– Мои поздравления, сэр. Кажется, я в тебе не ошибся.
– Но остались внутренние следы.
– Ты о своей так некстати потревоженной совести? Все вздор. Сила воли плюс характер. Муки душевные прекратятся ровно через три дня. Проверено. Это как невинность потерять. А этот дебил примет еще пару «тепленьких» на то место, которым он привык думать, и ему окончательно полегчает. Что ни говори, твое посвящение в педагоги надо бы отметить. Я выпишу Талгатику увольнительную, он слетает за «Рислингом». Гений организации застолья. Нет равных, потому и держим в школе. Одна нога здесь, другая там, где надо. Все принесет, закусочку организует оптимальную, посуду уберет, перемоет. Нет равных. Кстати, Элеонора попросила после «Рислинга» оставить тебя с ней наедине. Чего не сделаешь для любимой некогда женщины! Да, Герман, слышал новость? Говорят, Брежнев то ли умер, то ли при смерти.
Я пожал плечами.
Учитель, сутулясь, нависал над столом, чем-то неуловимо напоминая отца народов Джугашвили-Сталина. Усами?
За его спиной на стене располагались Почетная грамота то ли городского, то ли министерского уровня с формулировкой «за выдающиеся педагогические достижения», спортивная рапира и тот самый кед, невинно замаскированный под спортивную обувь.
– А рапира зачем? – рассеяно спросил я.
– Рапира – это холодное оружие. Укрепляет боевой дух. Длина клинка – девяносто восемь сантиметров. Крепкая сталь. На этом образце нет боевой заточки, но ее легко сделать. Именно на таком оружии тренировались дуэлянты. Хочешь подержать?
– Нет никакого желания.
– Держи, корнет! Ощути, что чувствовал поручик граф Ростов. Мужчина должен уметь фехтовать. Это тебе не членом размахивать.
Я взял рапиру в правую руку. Легко представилось, как увесистая холодная сталь пронзает теплое живое тело. Стало не по себе.
– Почувствовал? Верни оружие в надежные руки. Перед тобой мастер спорта по фехтованию. Вот смотри!
Учитель взял рапиру, встал в позицию (в глазах блеснул стальной огонек) – и, согнув ноги в коленях, сделал змеиный выпад, пронзив чучело, услужливо стоявшее в углу. Низкорослое чучело в шляпе с широкими полями чем-то напоминало Наполеона. Дался им этот коротышка корсиканец!
– Раз! Уноси готовенького! Теперь ты.
– Не хочу.
– К барьеру, корнет!
Он вложил мне в кисть рукоятку, обмотанную синей изолентой. Ребром ладони подогнул мне колени – и я, как краб, вцепился ими в пол. Стоило взять рапиру в руки, и воинственные токи разбежались по телу. Учитель поправил мне рапиру – слегка приподнял тонкий конец вверх – и скомандовал:
– Делай – раз! Целься в корпус. Сталь сама найдет робкое сердце. Ну!
Внутри меня щелкнул курок, пружина сорвалась – и я, чувствуя себя то ли началом, то ли продолжением рапиры, с криком «на!» выстрелил вперед.
Рапира пропорола ткань чучела. Я был несколько озадачен обнаруженным в себе запасом агрессии.
– Молодца! – сказал Учитель. – Вот теперь самое время хлебнуть шампанского, то бишь «Рислинга». За здоровье избиенного Пашки, а также за твое посвящение… в корнеты. Идешь к детям или к женщинам, педагог, – возьми в руки плеть. Так говорил Заратустра. Кликнуть мне денщика Талгатика!
…Странно. Столько лет прошло, а я с тех пор ненавижу вкус «Рислинга»; мне не нравятся также короткие прически у женщин и сладковатый одеколон мужчин. Еще что-то не нравится…
Фехтование. К нему у меня особое отношение.
Да, и еще… Достоевского с тех пор я практически не перечитываю для себя лично.
Только для дела.
4. Слезинка ребенка
Мама время от времени рассказывала мне забавную историю из моего детства, которую я и сам помнил, правда, смутно, но вместе с тем ярко, и всегда дополнял ее какими-то новыми подробностями; наверно, просто выдумывал.
Я ходил тогда в детский садик № 17, располагавшийся, кажется, по улице имени славной дочери то ли болгарского, то ли казахского народа (а может, вообще индийского? Надо посмотреть старую карту Минска). Однажды девочка с длинными светлыми волосами (наличие длинных волос делало любую девочку, девушку или женщину в моих глазах писаной красавицей) по имени Оксана предложила мне стать ее мужем. Поигрывая волосами, она быстренько объяснила мне причины такого экстравагантного предложения. Дело в том, что у ее мамы не было мужа, и Оксана, очевидно, решила, что уж она-то заведет себе мужа обязательно. И чем раньше – тем лучше.
Я сначала заколебался, в мои планы не входило жениться в столь нежном возрасте; но когда выяснилось, что свадьба у нас будет настоящая, что это событие мы всей группой отпразднуем с размахом – организуем застолье со вкусным печеньем и кексом (а кекс в то время был главным удовольствием моей жизни, пожалуй, он вполне мог конкурировать с длинными волосами прекрасной Оксаны; да и сейчас мне трудно устоять перед поджаристой корочкой, отдающей мягким ванильным ароматом, из-под которой проглядывают гроздья набухшего темным янтарем изюма) – я поспешно согласился.
И вот я сидел во главе стола рядом с девочкой с распущенными длинными волосами и уплетал кекс за обе щеки. Это был миг настоящего счастья, который я пронзительно помню до сих пор. Ванилин, изюм и желтоватое рыхлое тесто – это вкус счастья; девочка с длинными волосами, трогательно контролирующая процесс, касающийся самой сути счастья (чтобы кекс у тебя никогда не кончался), – это образ счастья.
– Все, теперь ты будешь любить меня всегда и никогда не бросишь. Правда?
Я энергично кивал головой, строго следя за тем, чтобы рот у меня был набит до отказа.
– Нет, ты скажи, чтобы все слышали, – настаивала Оксана.
– Да, – сказал я, сделав краткую паузу ради своей жены.
– Вот видите, – сказала Оксана, – он сказал «да».
Я еще раз кивнул, подтверждая сказанное. После этого попросил газированный напиток «Буратино».
Вот и все, что я помнил, если не считать улыбчивых солнечных бликов, круглого лица воспитательницы, да еще странного выражения глаз моей мамы, которой сообщили, что сын ее единокровный отныне скоропостижно женат.
Впрочем, все это я мог уже и выдумать.
Мама моя живет только в детских моих воспоминаниях, которых сохранилось совсем немного. Вот одно из них.
Мама тяжело заболела, и я сидел возле нее с не детски серьезным выражением лица. Она решила, что ее женатый сын сильно переживает за маму, и стала меня утешать, тронутая той самой слезинкой ребенка.
– Все будет хорошо, мой сынуля.
Я понимаю Достоевского, который детей-ангелочков сделал символами чистоты и неиспорченности. Я бы только уточнил: они являются символами святой простоты, да-да.
– Мама, а с кем я буду жить, когда ты умрешь? С папой? – заботливо поинтересовался я. Что-то подсказывало мне, что папа, которого держала в семье только болезнь мамы, никак не сможет ее заменить. Так оно, собственно, и произошло.
При этом я точно помню проявление деликатности, которое растрогало меня самого: я ни словом не обмолвился о проблеме изобилия кексов, которая вполне могла ожидать меня в будущем. Я подумал, что нехорошо думать о кексах в тот момент, когда маме плохо. И еще я подумал о том, что наверняка веду себя как хороший мальчик, вполне заслуживающий похвалы мамы.
Любил ли я маму?
Конечно. Несомненно. Однако моя любовь к ней была тесно переплетена с эгоистическими интересами; я любил ее свято и беззаветно, но при этом с большой пользой для себя; с детства, когда я еще толком не научился врать, во мне честно закрепилось ощущение: любить – значит, бороться, в случае удачи – подчинять, в идеале – побеждать. Любовь была неотделима от соперничества, изворотливости, хитрости. У взрослого «дяди» все сложнее – в том случае, правда, если у него появляется чувство собственного достоинства (как результат любви, заметим). В этом случае он храбро и мудро воюет не только со всем миром, не только с любимой, но прежде всего – с самим собой. Любовь – это большая наука.
Мамы не стало, и с тех пор для меня главной проблемой стала проблема любви. Я ревниво наблюдал за тем, как чужие родители любят своих детей, как они делают вид, что любят чужих детей, как дети любят своих родителей и позволяют себе капризничать, уверенные в том, что их не бросят. Если я чему-то и завидовал, то именно этой уверенности. Я чувствовал себя страшно одиноким (мне не с кем было бороться, некого было душить в объятиях!), к тому же беспомощным и беззащитным дитятей, хотя все вокруг твердили о том, как быстро я повзрослел и стал «все понимать». Им просто выгодно было считать меня взрослым, ведь это ребенок требует к себе повышенного внимания, а человек самостоятельный – уже нет, вот они и миндальничали со мной как со взрослым. А я не торопился во взрослую жизнь, хотя и детская жизнь моя оборвалась явно раньше времени. Кексы и длинные волосы, как у мамы, – вот и все мои детские слабости.
«Чувство между мужчиной и женщиной, яркое, похожее на любовь», нас с Элеонорой, разумеется, так и не связало. Моя философия любви в тот момент базировалась вокруг немудреного постулата: скажи мне, кого ты любишь, и я скажу, чего стоит твоя любовь. Любить Элеонору?
Пошлость я чувствовал нутром уже тогда.
И я, подчиняясь чувству ностальгии, смешанного с чувством мечты, отправился в тот самый детский садик, где когда-то благополучно женился на Оксане.
Странно, но мне удалось заполучить ее адресок, правдами и неправдами. «Главное – результат», – как любила поучать Марго. И я его добился. Я купил цветы и отправился на свидание с женой своего детства. Зачем?
Спросите у Достоевского. Захотел – и все тут.
Дело было под вечер. Перышко луны нерешительно зависло в синем небе. Я пытался представить себе лицо и фигуру Оксаны – но у меня ничего не получалось. Девочка с длинными волосами никак не превращалась в моем воображении во взрослую барышню. Да и вообще моя затея стала казаться мне все более и более нелепой. Даже где-то пошлой, что в моем тогдашнем понимании было величайшим грехом. Излишняя наивность или наигранный романтизм – это яркие оттенки в спектре пошлости. (Позже, много лет спустя, когда я стал трактовать пошлость как неосознанную ложь, я понял, что был прав в своем бессознательном отношении к пошлости.)
Дверь, обитую потрепанным, каким-то ржавым дерматином, открыла озабоченная девушка с русыми волосами, забранными в хвостик.
– Оксана?
– Да…
– Меня зовут Герман, Герман Романов. Я человек из вашего детства…
На ней был фартук, и от нее пахло густым кухонным духом: жареным луком, вареным мясом. Она смотрела на меня, на букет и долго не понимала, о чем я говорю. Правда, следует отдать ей должное: ей становилось неловко оттого, что я просто корчился от неловкости.
Потом она приняла цветы и растерянно держала меня в прихожей, не зная, как со мной поступить. Что ни говори, а детская история со свадьбой – наше общее забавное прошлое – должна была сближать нас; я уже считался не человеком с улицы, а старинным знакомым.
Но нам было решительно не о чем говорить. Бывает так, что с человеком сразу становится интересно, а чаще случается – наоборот: через минуту делается ясно, что мы напрасно теряем время.
И тут Оксана удивила меня: вопреки одновременно уловленному нами ощущению бесперспективности наших отношений, она решительно сдернула с себя фартук, оставшись в вылинявшем сарафане (она была в том возрасте, когда шмотка любого покроя и фасона только подчеркивает прелести женской фигуры), и коротко указала мне на дверь в гостиную. Ее уверенные жесты смутно напомнили мне девочку из чудного детсада № 17.
Я осторожно переступил порог. На полу, покрытом зеленой ковровой дорожкой, сидела девочка с длинными волосами и складывала теремок из разноцветных кубиков.
– Ты кто? – спросил я.
– Я Рита, мамина и бабушкина дочь, – ответило мне милое существо голоском девочки Оксаны из моего прошлого.
– А в садик ты ходишь?
Она молча кивнула, продолжая серьезно играть.
– А воспитательницы у вас хорошие? – отчего-то поинтересовался я.
– Тетя Маша хорошая, добрая, а тетя Зина плохая, злая.
– Понятно. А хочешь знать, как меня зовут?
Девочка Рита отрицательно качнула головой.
Настоящее Оксаны тоже становилось мне более-менее понятным.
– Меня зовут Герман, и я учу детей в школе. Учил, гм-гм.
– А чему ты их учишь? Чтобы они тебя слушались? – спросила Рита, любуясь теремком.
– Славная малышка, – как воспитанный взрослый сообщил я Оксане, которая вошла в комнату с откупоренной бутылкой «Рислинга» в одной руке и двумя узкими фужерами в другой (подчеркнутую независимость, а может, и страх обрести зависимость, кто знает, я читал в каждом движении). Из уважения к гостю она набросила на себя светлую блузку, больше не изменив в своем облике буквально ничего. Уважение к гостю подозрительно напоминало форму уважения к самой себе. Во всяком случае, я не чувствовал, что именно меня собираются радовать свежим нарядом.
– Мы одни растем, без папы, нам положено быть славными, – сказала она спокойно, без вызова, разливая вино.
– Интересно, а наши воспитательницы были хорошими? Я их совершенно не помню. Помню только чье-то круглое лицо. Круглое почему-то считается добрым, а вот если морда клином…
– Я не помню вообще ничего из раннего детства, даже нашей свадьбы, извини. Хотя и верю, что она была.
– Хороших воспитателей и учителей не помнят. А вот монстров запоминают навсегда.
– Какой смысл пить за прошлое, которого не помним, верно? Давай выпьем за будущее, которого не знаем.
В этот момент Рита попросила включить ей телевизор, чтобы посмотреть «Спокойной ночи, малыши». Но передачу отменили: Брежнев все-таки умер. По всем каналам звучала изысканно скорбная музыка. Весь классический траурный репертуар мира был у ног звездного генсека.
Мы выпили, и я сказал:
– Мне кажется, я знаю свое будущее. Я его чувствую.
И ни с того ни с сего добавил:
– На днях я ухожу из школы.
– Почему?
– Потому что фактически я убил ученика.
– Как это убил? В буквальном смысле, что ли?
– Буквальнее не бывает.
– Так ты злой?
Я пожал плечами и зачем-то рассказал ей, незнакомому человеку, историю Пашки Кузнечика, которому я сначала кулаком отбил внутренности, и он начал на глазах желтеть и вянуть; а потом Учитель из педагогических соображений добил его своим кедом.
– Сейчас Пашка в реанимации. Что с ним – определить не могут. Он просто гаснет. Юрий Борисыч, само собой, поспешил донести на меня Маргарите Петровне, и та, не дожидаясь конца истории, попросила меня написать заявление об уходе «по собственному желанию». Что я и сделал.
– А может, он умирает и не из-за тебя вовсе; может, он чем-нибудь болеет.
– Я до сих пор косточками кулака чувствую противную мягкость его ливера…
– Совесть мучает?
– Интересный вопрос. Если Гусь умирает действительно из-за моего кулака, то мне ужасно не по себе. Но если он загибается по какой-то другой причине… Нет, радости я не испытываю; мне просто все равно.
На самом деле для меня во всей этой истории поразительнее всего было то, что Гусь никому, ни единой душе не обмолвился о том, что я двинул его в живот в коридоре, как бог черепаху. Это вызывало у меня не уважение к Гусю, вовсе нет; это обостряло то, что Оксана назвала «муки совести». Словно я ударил больного или упавшего человека, не зная при этом, что он болен или упал.
Но бежать к Гусю и каяться…
Я чувствовал фальшь и ложь такого поступка в стиле какой-нибудь Марго. Возможно, они и ждут от меня такого поступка. Тем более не пойду. На похороны, возможно, явлюсь, а вот в больницу любоваться страданиями усыхающего, то бишь усопающего, – увольте.
– Как ты думаешь, ты – сволочь, Герман?
– Думаю, что нет. Вряд ли. Вот Учитель – сволочь. И Марго тоже.
– Ты же не жениться на мне пришел, верно?
– Сразу не скажешь, зачем я пришел. Иногда я понимаю причины своих поступков годы спустя. Но действовать надо уже сегодня. Вот так и живем, слегка вслепую… Самые ответственные решения приходится принимать в молодости, когда не понимаешь ни себя, ни других. Молодость – пора принятия зрелых решений… Это похоже на насмешку.
– Кто над нами смеется, Герман?
– Да никто. И от этого насмешка кажется мне особенно гнусной. Над тобой никто не смеется – а насмешка вот она, до ушей. Чепуха какая-то.
– Ты мне понравился. Не зря я выбрала тебя в детском саду.
– Ты уверена, что это ты меня выбрала? Я ведь тебя тоже выбрал.
– Ну, уж нет, Герман Львович. Я же себя знаю. Мужчина выбирает после того, как выбрала женщина.
– Почему же тогда всегда и во всем виноват мужчина?
– Не надо было соглашаться, милый. Женщины часто ошибаются.
– Ты мне тоже понравилась. Но женюсь я на Вите.
– Кто такой Витя?









































