Текст книги "Гармония – моё второе имя"
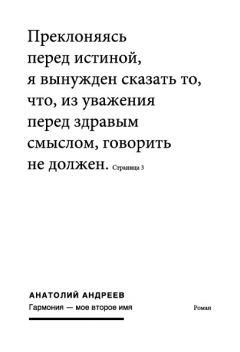
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
6. История четвертая. Обыкновенная история
На следующий день Пенициллин, он же Вениамин Петрович, получил обещанные пять нулей «наличкой», а также видеописьмо – кассету, на которую был записан монолог Вики, снятый на видеокамеру.
Вика выговорилась всласть. В одной руке у нее была бутылка, в другой сигарета. Она не позировала, и даже не плакала. Она вспомнила свое детство, долго говорила о своем отце Вилене, которого убила местная шпана недалеко от школы им. Ф.М. Достоевского. Его убили за то, что он любил свою жену, маму Вики, Клавдию Семеновну. Надо же было такому случиться, что местный авторитет (кличка – Кабанера) всю жизнь ревновал соседку Клавку к ее собственному мужу. Кабанера, возвращаясь на постылую волю после очередной отсидки, просто не мог видеть Вилена, который запросто спал с Клавой. Он воспринимал само существование Вилена рядом с грудью, животом и бедрами Клавы как личное оскорбление. Уверенная походка прораба Вилена, его манера прикуривать (огромные ладони неторопливо укрывали пламя от спички, которое разгоралось и трепетало), молча смотреть в глаза собеседнику просто доводили Кабанеру до бешенства.
Вилена убили. Кабанера издох где-то в лагерях. Клавдия Семеновна вышла замуж за известного скульптора Филиппа Кудесника, некурящего, носящего аккуратную бородку на удлиненном лице. Мама ненадолго расцвела, а для Вики началась двойная жизнь. Черная полоса наступила тогда, когда она пошла в восьмой класс. Филипп просил ее позировать для скульптуры, которая должна была украшать фасад физкультурного института.
– Я не буду, – сказала Вика.
– Вика, ты должна помочь Филиппу, – уговаривала ее мать – Это крупный заказ, у нас появятся хорошие деньги.
– Посмотри на мальчиков, которые тебя окружают, – говорил Филипп во время сеансов, трогая ее за подбородок своими холодными пальцами. – Прыщавые, нечистоплотные, похотливые. Шваль. Скоро ты отдашься одному из них в грязном подъезде. И у тебя заберут то, в чем они ничего не понимают, девочка моя.
– Вам-то какое дело? Это моя жизнь. Буду распоряжаться собой, как сумею.
– Мне за красоту обидно. Ведь со мной будет все иначе. У тебя появятся деньги, красивая одежда, тебе все будут завидовать.
– Вы мерзкий тип. Почему вы не боитесь, что я обо всем расскажу маме?
– Не смеши меня. Мама тебе не поверит. У тебя сейчас такой сложный возраст. Вы все врете, выдумываете, фантазируете. Нежный возраст. И потом… Здоровье мамы пошатнулось, ее нужно беречь. Разве не так? И потом… Если разобраться, я не предлагаю тебе ничего плохого. Ты узнаешь страсть зрелого, внимательного мужчины. Я подготовлю тебя к жизни во всех смыслах. А жизнь, деточка, – это сплошной курятник: надо забраться как можно выше, чтобы клюнуть ближнего и обосрать нижнего. Не хочешь думать о себе – подумай о маме. Зачем мне увядающая больная женщина? Мне нужна ты.
Во время войны мама, тогда еще маленькая светловолосая девочка, оказалась в гетто недалеко от городка Любча, что на Гродненщине. Она уцелела только потому, что оказалась похожей на дочь немецкого офицера. Он доставал фотокарточку, плакал пьяными слезами, гладил маленькую Клаву по голове и что-то бормотал на страшном языке, тыкая пальцем в глянцевое фото. Однажды утром маленькую Клаву вытолкали из гетто, и она, даже не удивившись, пошла в деревню искать свою маму. Сзади раздались крики, потом выстрелы, опять дикие крики, команды на страшном языке и опять гром выстрелов. Клава побежала, не оглядываясь. Она боялась даже плакать. Она летела по кочкам, и ощущение упругого ветра, который она раздвигала своим худеньким тельцем, осталось с нею на всю жизнь (в ее снах всегда дул тот самый ветер). Потом она спряталась в темный курятник и просидела там трое суток, боясь высунуться наружу. Выжить-то она выжила, мир не без добрых людей, но вот здоровье осталось где-то в гетто, в курятнике, в холодных комнатах детдома.
А потом мама встретила папу.
А потом…
Однажды Вика вернулась со школы в спортивном трико и спокойно сказала Филиппу:
– Маме нужны дорогие лекарства, сами знаете, какие. Ей нужна операция на сердце, а после этого – восстановление и санаторий. Сделаете это – получите то, что хотите.
– Нет, детка, сначала я получу тебя.
– Сначала – удачная операция. А потом вы будете жрать меня до тех пор, пока не подавитесь. Хотите меня – молитесь на здоровье мамы.
– Ты начинаешь торговаться – это нехорошо.
– А соблазнять падчерицу – это хорошо?
В этот вечер она впервые позволила Пене поцеловать ее и погладить ей грудь. А на большее он не отважился. У нее же чувств еще не было.
Здоровье мамы постепенно шло на поправку. Ночью Вика плакала, после того, как Филипп переставал ее ласково терзать (он любил наслаждаться ее позами при свете роскошной чешской люстры; она же – вот дура! – из непонятного чувства приличия старалась предстать в наиболее выгодном ракурсе), а утром свысока (презирая себя за это еще больше) смотрела на одноклассниц и загадочно улыбалась: ей казалось, что она столько знает о жизни, о мужчинах, о тайнах тела и души. Юрий Борисыч сразу же заметил перемену в ее поведении и прилепился к ней, как пес к сучке, нашептывая на ухо такое, от чего ее подруги попадали бы в обморок мокрыми курицами. Ее действительно не смущали похабные реплики Учителя – а его самого реакция юной женщины и ее разгоряченное после уроков физкультуры тело доводили до исступления. Вика почувствовала свою власть над мужчинами. Назло Филиппу она готова была переспать с кем угодно, чувствуя, что именно этим может причинить своему палачу настоящую боль. Ей хотелось отомстить ему, устроить ему адово пекло, пусть даже ценой еще большего презрения к самой себе. Сама мысль о том, что она поневоле верна Филиппу, что она его женщина, что она остается его «чистой девочкой», доводила ее до ярости. Ей хотелось стать грязной шлюхой, чтобы только досадить Филиппу, а еще лучше испортить ему жизнь.
С Филиппом же творилось что-то странное. Наверное, он действительно начинал любить Вику, боготворить ее, и потому начинал страдать. У него тряслись губы, она читала обожание в его светящихся виноватых глазах. Он был счастлив, когда они были вместе, и начинал ревновать ее, когда она долго не возвращалась из школы. В его мастерской на видном месте стояла скульптура обнаженной Вики (которая, сказать правду, ей очень нравилась).
А Вика думала только о том, что лучшего момента для мести и придумать невозможно.
Ей не хотелось втягивать в свою нечистую авантюру Пеню, который казался ей маленьким мальчиком с большими мечтами. Он даже не предполагал, в каком мире жила его Вика, которой при слове «любовь» хотелось хрипло смеяться и грязно ругаться. Но с Пеней она себе этого не позволяла.
А Юрий Борисыч… Многие девчонки были в него влюблены, о нем ходило столько сплетен. Лестно видеть у своих ног этого сильного человека. Он ей не нравился (она вообще не могла себе сейчас представить, как могут нравиться мужчины), но отношения с ним могли быть только грязными, а лучше этого подарка для Филиппа и придумать было невозможно.
Конечно, это должно было случиться рано или поздно.
– Вика, зайди ко мне в кабинет, – властно бросил на ходу Учитель.
– Зачем? – спросила Вика, вытирая пот со лба. Настроение у нее было замечательное: они только что выиграли в баскетбол у соперниц из 10 «А». К тому же на дворе стоял май.
– Ты мне нужна как женщина. Надо забрать мячи из женской раздевалки.
Он блеснул своей знаменитой улыбкой.
– Хорошо, – ответила Вика как послушная ученица. – Когда?
– Сейчас.
– Хорошо. Переоденусь и зайду.
– Не надо переодеваться, – сказал Учитель, не в силах отвести от нее тяжелого взгляда.
– Хорошо.
Учитель закрыл кабинет и быстро повернулся к ней. Ни слова не говоря, сорвал с нее майку и бюстгальтер. Тело было влажным. Плотные девичьи груди слегка подрагивали. («Какая форма!» – стонал всегда Филипп; она сопротивлялась тем, что отдавалась ему покорно, отвернув голову и не закрывая глаз. Ей казалось, именно так поступают бесчувственные проститутки. Хотя в последнее время дыхание ее уже сбивалось и глаза закрывались сами собой. Где-то глубоко внутри зарождалась нежность. Она злилась на себя и заставляла сердце биться ровно. Но это возбуждало еще больше… Вика научилась выдавать свое возбуждение за раздражение. Иногда она верила самой себе.). Она улыбалась и тоже молчала. За стеной галдели школьники: бурлила большая перемена.
– Снимай все. Мне нравится, когда в шаге от нас бегают люди, не подозревая о том, что творится за дверью. Добавляет адреналина.
– Я уже почти голая.
Учитель толкнул ее на диван, схватил ее за волосы, попыхтел немного и вошел в нее с отвратительной силой. Борода Филиппа показалась ей приятнее усов Учителя. Вика стала злиться и пыталась думать только об одном: как она придет домой и во всех подробностях выложит все гнусному Филиппу. Она попыталась сосредоточиться на новых ощущениях, но Учитель сделал ей так больно, что в голове у нее помутилось и слезы сами выступили на глаза. Он кончил яростно и быстро. Ее тело в этот момент напряглось и одеревенело. Внутри все горело.
– Больно? – спросил он совсем не интимным, а тренерским тоном, словно на уроке. Так он общался на спортивной площадке, когда у его воспитанниц не получался бросок в корзину. В его тоне была грубоватая ирония.
– Очень больно, – сказала Вика, которую просто трясло. – У вас очень большой член.
То, что было у Филиппа, показалось ей просто идеальным.
– Я знаю, – сказал Учитель грустно и совсем без улыбки. – Маленький член – маленькие проблемы, большой член – большие проблемы. Со второй женой из-за этого развожусь. Она не спит со мной уже целый год. Не могу найти себе женщину по размерам, понимаешь? Целая катастрофа. Второй раз любая баба мне уже не дает. Проклятье какое-то. Вот и ты тоже мокрощелка оказалась. А жопа большая…
Ей стало жалко Учителя.
– Девчонки только и мечтают, что о больших габаритах…
– Дуры вы все. Что вы знаете о больших достоинствах? Ничего еще в жизни не видели. Самое большое достоинство – это все в меру.
– Хотите, я сделаю вам все до конца по-другому? Только не входите в меня больше. Пожалуйста. Мне больно…
– Ладно, будешь сосать. А тебя кто трахает? Отчим? Так я и думал. Давай, выкладывай. Я никому не скажу. У него, наверное, поменьше моего?
Она заплакала. Ей стало так плохо, как не было еще никогда в жизни. Хотелось пожаловаться Филиппу, найти у него защиту и одновременно сделать ему больно, очень больно.
Дома у нее поднялась температура, и ее забрала скорая.
– Что случилось? – спросил осмотревший ее гладко выбритый врач. – У вас, девочка моя, сплошные разрывы. Вас не изнасиловали? Уже третья школьница за неделю.
– Нет.
– Будете рассказывать, что случилось?
– Нет.
– Я вынужден сообщить об этом происшествии в милицию.
– Не надо. Пожалуйста. Я была с любимым человеком.
– Надо аккуратнее, девочка…
Вечером в больницу приехал Филипп.
– Что случилось?
– У меня открылось кровотечение. Может, потому, что ты меня насилуешь каждый день, может потому, что у моего нового любовника член оказался в два раза больше, чем у тебя. В два раза, представляешь? Но мне было очень сладко. Я наконец-то почувствовала себя женщиной.
Глаза ее лихорадочно горели. Филипп ничего не сказал. Он молча встал и вышел из палаты. Вика проплакала всю ночь.
У Филиппа случилось два инфаркта подряд. Больная Клавдия Семеновна ухаживала за ним до самой его смерти. Но обнаженную скульптуру Вики не простила ему никогда.
После этого Вика стала просто бояться мужчин. Все эти истории о сладкой интимной близости, о небывалых восторгах стали казаться ей выдумками. Кроме того, она забеременела от Учителя и вынуждена была сделать аборт. Слова любовь, муж, женское счастье потеряли для нее всякий смысл. Она сделала аборт любви: вырезала зародыш чувства на корню. Пене как лучшему другу она поведала об этом без утайки. Он хотел стать ее любовником. Она не согласилась.
– Теперь я проститутка, Пеня, – говорила она в камеру, допивая бутылку. – Я опять беременна. Меня имеют по пять козлов за вечер, Пеня. Я дорогая рабыня. Помоги мне вырваться отсюда. Это хуже гетто. Тот немецкий офицер кажется мне образцом гуманизма. Вот тебе адресочки… Вот тебе имена и клички… А может, не надо мне помогать? Сдохну – и все. А, Пеня?
Она долго сидела перед камерой, опустив лицо.
– Помнишь нашего учителя литературы, Германа Романовича, нет, кажется, Львовича? Он был хорошим. Честным. Хотела бы я спросить у него: зачем писать книги, если человек такое говно? А Филипп меня любил. Может, я зря от него ушла? А? Самое страшное, мне кажется, что и я его полюбила.
Вениамин Петрович взял кассету и пошел к начальству.
– Забудь об этом, – произнес полковник тихим голосом и одними гласными звуками. Особый навык: если бы их записывали враги с расстояния одного метра, никто бы ничего не разобрал. – Забудь о том, что видел и слышал. Ничего не было. Понял? Иначе нам с тобой не сносить головы. Понял? Ты хоть что-нибудь понял, капитан?
Пеня вышел из кабинета начальника и направился в камеру к Учителю.
Через пару часов надзиратели, влетевшие в кабинет капитана на звук выстрела, обнаружили два трупа. Заключенный, превращенный огромным резиновым кедом в кровавую отбивную, еще хрипел, но был без уже памяти. Его палач, забрызганный кровью, застрелился. Предсмертной записки не оставил.
Почему заключенный Щеглов Ю.Б. не издал ни звука, пока его избивал следователь Родионов В.П.? Помощь была рядом, за дверью. Заори, как мужчина, как раненный вепрь, и жизнь спасена. Зачем было терпеть и молчать?
Для всех это было неразрешимой загадкой.
7. История пятая. Философ на свалке
– Сеня, как так получилось, что ваш Бог воскрес вместе с развалом СССР? Боги уже давно облюбовали себе обломки империй. Задворки. Они живут на свалках истории. В очагах разложения.
Я был язвителен и беспощаден. Сеня Горб смирно сидел на лавке у покосившегося забора.
– Ты же был умный мужик, Сеня. Что случилось? У меня такое впечатление, что кто-то из нас двоих сошел с ума.
– Если угодно, можешь считать меня действительно сошедшим с ума. Я поумнел настолько, что отошел от ума, перестал делать ставку на разум человека. Остается душа, Герман. Сошедший с ума, обретает душу. В ней великая истина и правда.
– В чем правда, Сеня? В том, что мир свихнулся, и это хорошо?
– Оставь свой ум, Германн, посмотри правде в глаза. Живи малым, маленьким, малюсеньким. Именно этим велик человек.
Он повел рукой, предлагая разглядеть великое в малом. Ржаво-рыжее светило, щеголяя каленым малиновым отливом, лениво сползло за горизонт. Бледно-желтые, ярко-желтые и оранжевые бархатцы в малиновых лучах замерли, словно завороженные; белые хризантемы, кокетничая каждым лепестком, также застыли, гордо вскинув свежие ухоженные кроны.
Солнца не стало. Все сразу же поскучнело и окуталось легким мраком.
Все свершилось так, словно было неотразимым аргументом в пользу новой Сениной философии.
Он продал свою городскую квартиру и жил теперь в большой деревне, где над местностью возвышалась недавно возрожденная церковь. Выращивал только цветы. Удил рыбу. Молился. Читал по-прежнему много.
– Ты уверен, что не испугался самого себя, Сеня? Когда мы с тобой возились в кочегарке, в самом кромешном аду, – черный уголь, кровавое пламя – нам казалось, что стоит нам всплыть на самый верх, и мы будем в дамках. Мы не боялись верха, потому что нас не сломал низ. Но ведь многие всплыли кверху брюшком. Не выдержали испытания свободой, деньгами, славой. Критиковать социальные пороки – еще не значит разбираться в человеке. Люди не поменялись, Сеня. И знаешь, какова их константа? Глупость. Глупый человек всегда живет в аду.
– Варлам Шаламов считал, что ад – это тюрьма; Сергей Довлатов полагал, что ад – это мы сами. Я же считаю, что и рай – это мы сами.
Он вновь повел рукой, напоминая какого-нибудь великого схимника.
Меня этот жест стал раздражать.
– Спутать рай с адом может только бывший умник. Рай – всего лишь форма ада. Я считаю, что ад – это психика, вооруженная интеллектом, которая возомнила себя разумом. Ад есмь вотчина глупости. Интеллектуальный болван все превращает в ад. Рая на земле вообще не существует; зато есть нечто большее: счастье.
– Ты стал злым. Это и есть лучшее доказательство того, что ты не прав. Я тоже когда-то был злым.
– Сейчас ты стал добрым, и это, разумеется, лучшее доказательство того, что ты прав.
– Я не столько добр, сколько гармоничен. До добра мне еще далеко.
– Ты не столько гармоничен, сколько благостен. И это форма классической капитуляции личности. Слабоумие.
– Злость, блеск ума, железно-стальная логика… Багровое пламя… Это все мы уже проходили. Это разрушительно. Надо быть добрее, полагаться на интуицию и постигать сердцем. Слабый ум – не порок.
– Скажи уж прямо: слабый ум – пророк. Поклоняться идиотизму… Дожили… А по-моему, нет ничего более разрушительного, чем благоглупость. По Сеньке и шапка… Извини. Мне так обидно терять единомышленника. Почти друга. Духовного собрата. Я остаюсь совсем один.
Он в третий раз повел рукой, давая понять, что если чувствуешь себя одиноким в мире, где царит несравненное благолепие, – пеняй на себя, на свой ум.
Этим мирным жестом он жестоко вышвырнул меня из своей жизни. Нам оставалось только по-джентльменски завершить партию, в которой каждый из нас считал другого безнадежно проигравшим, даже если каждый из нас получал мат. Два человека сидели на шаткой скамье как положено – на пятой точке. Однако мне казалось, что Сеня сидит вниз головой. Он, не сомневаюсь, также видел лапти вместо моей головы.
– Что ты сейчас читаешь? Что вообще сейчас читает продвинутая русскоязычная интеллигенция? – спросил я как вежливый, воспитанный человек, владеющий навыком искусно поддерживать светскую беседу.
– Это смотря куда продвинутая: на запад или вглубь, в почву. Демократическая интеллигенция или ничего не читает, или читает Вальзера. Преимущественно Роберта Вальзера. Иногда Людмилу Улицкую. Недавно я вот грешным делом заглянул в роман Эльфриды Елинек «Пианистка», да, да. Недемократическая интеллигенция тоже ничего не читает, потому что читать ей нечего. Почва перестала плодоносить. Смотрят фильмы Михалкова.
– А как же Солженицын?
– А что Солженицын? Вещает…
– Александр Исаевич, при всем уважении к его отвращению к успеху, сильно смахивает на удачный христианско-социальный проект. Это не судьба – а именно спланированный и просчитанный проект. Гений долговременной конъюнктуры. Писатель неплохой, но уж, конечно, не гениальный. Отнюдь, что бы он там о себе ни возомнил и как бы ни убеждал в этом других.
– Ты, я вижу, специализируешься на том, чтобы не стесняться в выражениях. Хотя… Во многом я с тобой согласен.
– Забавно слышать от тебя такое, – сказал я. – По-моему, Солженицын феноменально неинтересный человек. Героическое начало его сгубило.
– По поводу твоей лютой неприязни к героике я готов с тобой поспорить.
– С некоторых пор я не спорю. Вообще. Ни с кем. Ни по какому поводу.
– Ты? Да ты только и делаешь, что полемизируешь и воюешь. Со всеми, по каждому поводу.
– Это только кажется. Форма подачи материала такая. На самом деле меня волнует философия позитива, и мало трогает мнение тех, кому кажется, что они способны иметь мнение. В этом смысле я не интересуюсь диалогом. А ты, я вижу, зря время не теряешь. Ты остался демократом, я правильно уловил?
– Я остался верен себе. Читал и твою спорную работу о Никите Михалкове. Зло написано, потому и талантливо. Это все привлекательность зла. От лукавого. Михалков, конечно, не демократ, его надо бы пожурить; но я не пойму, с какой стороны ты дуешь… Ты тоже не демократ. А я сейчас стихи пишу[1]1
Здесь использованы стихи А. Жданова, взятые из книги «Западный полюс земной». – Мн, УП «Технопринт», 2003
[Закрыть]…
– Почитай свои стихи, Сеня Горб.
И он сразу же без рисовки стал колдовать тихим голосом, растворяясь в вечернем сумраке, лучше сказать, вписываясь согбенным силуэтом в обретающий плоть мрак. Создавалось впечатление, что это импровизация, что стихи рождаются сию же секунду моим соседом – милым бубнящим привидением. Нас приветствовала с небес холодная пятиконечная звезда Пентагон (это было мое маленькое астрономическое открытие, которое, само собой, никто в упор не замечал). Рядом с Венерой, наискосок от Марса, крупнее Сириуса, алмазом в семьсот каратов. Не видите? Оставьте микроскоп, наденьте очки, загляните к себе в душу. Видите, мерцает в пустоте?
Но что же это делают со мной?
В какие игры пробуют вовлечь?
И марсианский опыт за спиной,
И русская взыскующая речь.
Но псевдо-людям нужен лже-язык.
У рас и наций редкостный задор.
И будущее – черный грузовик,
Гремящий, заползающий во двор.
Ползет продолговатый небоскреб,
Скрежещет, как Вселенная в тоске,
Похож на непонятной формы гроб
С табличкой на ничейном языке.
Шизоид возомнил, что он – пророк,
Пророк уверен: он с ума сошед.
Из чьих расщелин, из каких берлог
Трепещущая явь вползает в свет?
Мир долго собирался стать иным,
Но стал таким же – все наоборот.
Я притворялся тяжелобольным
За гаснущий в агонии народ,
За гибель рода в море выпивох,
За полное лишение примет.
Но в свете параллельности эпох
Моей болезни оказалось – нет.
И, пустомеля из числа притвор,
Я буду в неизбежности изъят
Из нынешних, учетных, этих пор
Перемещен в «ничто» – и буду рад.
– Еще?
– Еще.
Будет время – себе не простишь
Ни минуты, что прожита зря.
Заалела заря из-за крыш,
Из-за крыш заалела заря.
Изнурительный запах жилья:
Провоняли людские дома.
В закромах суматошного «Я»
Замирают остатки ума.
Бу-бу-бу, бу-бу-бу: я здесь отвлекся на свои мысли, которым было задано поэтическое направление. И вдруг Сеня заставил меня вслушаться:
Не имею ни смысла, ни сил:
Тает сердце, легчайший кристалл,
Словно дождь моросил, моросил
День и ночь – а к утру перестал.
– Еще.
Бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу…
В артели – районной, не минской,
Бродячей, без точного места,
Пошью себе хвост сатанинский,
Зеленое чувство протеста.
Бу-бу…
Маленькие, никчемные людишки! Скромняги, вашу мать! Сколько же понадобилось таланта и усилий, чтобы выразить свою малость! С ума сойти! Это же надо умудриться так бездарно скроить судьбу, чтобы профукать жизнь. Где самое главное в жизни? Где дерзкие мечты, любовь и «познай себя»? Где когито эрго сум? О любви мы не пишем, о любви писать тяжело и страшно. Ответственно. Масштабно. Чтобы испытать это чувство, надо иметь много силы. Это культурный подвиг. Мы вот забились в щель со своей карманной лирой и гениально прозябаем, ловя лунные лучики. Щелевое поколение, утерянное поколение, закатившееся, словно грязный резиновый мячик, в темный пыльный угол. Хотя – что такое поколение?
Демографическая волна. Она смело смывает предыдущие останки и сама растворяется в песке с грустным шипением, оставляя после себя серенькую пену, – которую накрывает следующая волна, бессмысленно энергичная. Поколение рождено, дабы родить личность, культурное оправдание поколения. Нет личности – прощай, волна. Здравствуй, грусть.
Раствориться в волне, в порыве ветра, в шелесте дождя, в запахе ирисок… Это позволено только тому, кто сумел стать личностью. Это надо заслужить. В противном случае – это форма капитуляции. Паскудство. Унизительное проявление слабости человеческой.
Тоже мне, нашел форму протеста: любоваться дождичком в чистый четверг. Четвертого числа, в четыре с четвертью часа…
Маленькие чувства рождают великую ложь – протест против культуры. А это самое большое преступление из всех известных человечеству (которое по досадному недоразумению, рассеянности или близорукости евангелистов не внесено в перечень Библейских смертных грехов). Вы ведь спутали преступление с наказанием, великий Федор Михайлович, да, да, – и так лихо замели концы, что легиону интеллектуальных инквизиторов вовек не распутать. Вы и есть Раскольников от культуры, вы ведь свой портрет написали, чей же еще. Иначе откуда столько страсти и огня? Духовная энергия высвобождается только тогда, когда сознание укрощает психику, а кажется, что наоборот…
Моя злость была бы высочайшей культурной пробы, если бы не одно корявое обстоятельство: я злился тем больше, чем сильнее ощущал, как зацепили меня дьявольски талантливые поэтические откровения Горба.
На обратном пути в Минск я разбушевался внутренним монологом, цель и смысл которого состоял в том, чтобы доказать всем, что я действительно не узколобый демократ. И не щелевой сверчок. И вообще я не подхожу ни под одну масть. Слушателей для подобного монолога мне в жизни не найти, поэтому я под железный рокот и перестук электрички выплеснул свои злые мысли на бумагу. Строчки были косыми, кривыми, рваными. Вот что получилось.
* * *
«Крупнейший писатель ХХ века Роберт Вальзер», – шумит интеллектуальная элита человечества.
Мизерабль Вальзер, изумительно обогативший формулу «литература – это художественный текст минус личность», интересен, как и почти все примечательное в ХХ веке, не сам по себе, а как антикультурный феномен, которому навязывают статус высокой, утонченно-изысканной культуры.
Опарыш Вальзер не жил, а копошился (мило, разумеется, и неуклюже копошился, стесняясь жить); он просто не способен был испытывать нормальных человеческих страстей или амбиций, умных чувств или философских прозрений. Он культивировал нулевое человеческое измерение, психологию лакея, которой специально обучался в специальном учебном заведении для слуг.
И вдруг шиза Вальзер, соривший разрозненными заметками, как-то невзначай стал велик. Отчего же? Что произошло?
Вальзер, разумеется, обожал Достоевского, и был, кто бы сомневался, предшественником бесподобного Кафки. Что объединяет всех вышеназванных писателей, а также всех тех, кто связан с ними явной или неявной связью (из легиона которых – Улицкая, Елинек…), всех, кто аплодирует черными квадратиками ладошек крошке Вальзеру, – и тем самым превращает реальных культурных героев в шутов гороховых, ибо точкой отсчета в культуре провозглашается опарыш?
Прежде всего: они не переносят света разума. Они создают не просто «альтернативную культуру», где господствует свое, альтернативное понимание «свободы» и «достоинства»; они, рабы натуры, отстаивают свое право опарыша вырваться из-под «гнета и террора» репрессивной культуры. Они бессознательно обслуживают самые темные и сомнительные уголки коллективного бессознательного, выполняя сегодня роль наркотика, усыпительного порошка, галлюциногенного грибка, этой сладкой плесени, что волшебно искажает реальность. Мыслящий грибок Вальзер.
Свобода, как и производное от него понятие достоинство, как и связанное с ним счастье, – безальтернативны, ибо являются производными от разума, ориентированного на универсальную систему ценностей.
Вальзер с его блошиным смирением в этом контексте превращается если не в инструмент борьбы с разумом, то в мелкое, мелкопакостное существо – разносчика духовного СПИДа. Именно такие, как Вальзер, ни на что не претендующие тихони, безнадежно закомплексованные и живущие в ненормальном, с ног на голову перевернутом мире, и оказываются в авангарде самоуничтожения.
Вопрос: почему же ничтожный Вальзер стал сегодня популярен среди художественно чутких интеллектуалов?
Ответ: единственный «культурный» резерв цивилизации, изо всех сил блокирующей выходы к культуре, заключается сегодня в потенциале художественного (не научно-аналитического) сознания. Делайте что угодно, но явите мощь и элегантность креативного бессознательного. Пусть Вальзер прочирикает гимны глупости в темпе вальса.
Иными словами, такие, как Вальзер, мелкий Вельзевул, способствуют тому, что литература окончательно превращается в инструмент бессознательного. Говорим литература – подразумеваем бессознательное, и тем самым отлучаем литературу от культуры, от сознания.
Тут уже не в литературе и не в бессознательном дело; тут дело в том, что вальзеровский человек никогда не сможет стать субъектом культуры. Если Вальзер гений – то человек ничтожество. Знакомый мотив, не правда ли?
А с ничтожества какой спрос?
Вальзер от литературы позволяет развязать руки вальзерам от экономики, политики, науки; вальзеровщина позволяет «маленькому человеку» стать величиной, с которой приходится считаться всем, кто еще способен мыслить. Поскольку «маленький» (не способный отделить причину от следствия) человек стал субъектом демократии, сервильный от природы Вальзерабль пришелся весьма кстати. Вот уж услужил так услужил! Нуль превратил в точку отсчета.
(Хе-хе-с, милостивый государь Достоевский! Сей сюжетец вполне в вашем духе, не так ли? Кто был ничем, тот станет всем, то есть абсолютным ничем. Вскормили монстров-ничтожеств, и теперь залепетали о милосердии. А ведь так божественно начинали – со слезинки ребенка… Кончили культом опарыша.
И не надо лохматить бабушку. Кому козни дьявола – а по мне так суровая диалектика.
А не блуди!)
Виват мегачисло – нуль!
Обнулим историю, стократ распнем сократов!
Да здравствует бесполый микроб Вальзер!
Тьфу!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































