Текст книги "Гармония – моё второе имя"
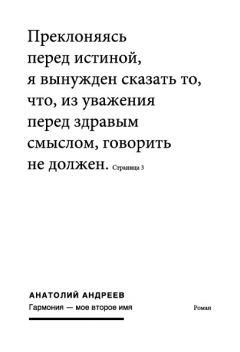
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
4. История вторая. Ах, Вика, Вика, или Красная Шапочка для Синей Бороды
Забеременев от Юрия Борисыча (или от Берии: тут возможны были варианты: иногда за вечер она позволяла себе переспать сразу с тремя разными, но весьма состоятельными, мужчинами; рекорд был – четыре (пятый просто отрубился); прикольно), Вика поняла, что жизнь преподнесла и ей не самый желанный сюрприз.
Зачем дети молодой амбициозной женщине, привыкшей уже складывать мужчин штабелями у своих стройных ног и ощутившей пьянящий вкус свободы, которую дают деньги (несметные количества которых водятся только у богатеньких мужчин, тех, что в штабелях)? Дети – досадная помеха на празднике жизни. Дети – источник соплей, для начала. Источник трагедии. Комедии. Фу. В общем, эта радость не для приличных людей.
Или дети – или деньги.
То есть – аборт. На абордаж!
Казалось бы, здесь и обсуждать нечего, однако в этой проклятой жизни не все так просто. Было дело, отец Вики требовал от ее мамы сделать аборт (квартиры не было, зарплата – кот наплакал), но мама настояла на своем и родила Вику (за что отец, в конце концов, и полюбил маму насмерть). Если бы мама дрогнула и согласилась на аборт, Вики бы не было. Получается, что у Вики перед жизнью и мамой образовался своего рода должок. Это во-первых.
А во-вторых, у нее был еще один должок перед мамой, которой уже, к несчастью, нет на этом свете. Это давняя история, но почему-то она не забывается. Ее мама во время войны, когда она была еще совсем маленькой девочкой Клавой, попала в концлагерь. Всех детей увозили в Германию, где делали из них подопытных кроликов. Но Клаве повезло: ее спас немецкий офицер – за то, что она напоминала ему его собственную дочь: была такой же белокурой и голубоглазой. У Клавы несколько раз брали кровь, а потом неожиданно выпустили из концлагеря. Если бы Вика родила дочь, девочку с голубыми глазами, она назвала бы ее Клавой. И уже была бы не так одинока на этом свете. А так у нее из близких людей – один замороченный сын покойного отчима, того самого «папы», который когда-то и изнасиловал Вику. Об этом знал только Юрий Борисыч, который вскоре и заменил «папика».
Так что же – рожать?
Нет. С ребенком ты никому не интересна, а без ребенка интересна всем – всем тем, кто интересен тебе, то есть тем, у кого водится бабло. И молодым, и пожилым.
Кстати, о пожилых. Крутится тут один, увивается. Кажется, неравнодушен к бесспорным прелестям. Кличут Синяя Борода или просто Синенький, хотя он похож, скорее, на безбородого Дуремара. Может, родить ему наследничка?
Как говорится, мне ничего не стоит, а ему, лоху, будет приятно.
Вечером того же дня, когда ей вместе с утренней прохладой пришла мысль о наследничке или маленькой принцессе для Синенького, Вика организовала свидание, которое должно было закончиться не банальной постелью, как обычно, а предложением руки и сердца возбужденного кавалера. Все должно было выглядеть как порыв со стороны Синей Бороды. А вот потом постель и – случайная беременность. Все по-честному.
Синенький сдался подозрительно быстро и легко. Это не понравилось Вике. Более того: насторожило ее. Серьезные люди никогда не расстаются так легко с деньгами, гарантирующими свободу.
– Ты согласен стать моим мужем?
– Конечно. Сколько?
– Что значит – сколько?
– Сколько ты хочешь за то, чтобы я стал твоим мужем?
Тут надо было или держаться версии «перед вами оскорбленная невинность, ах, за кого вы меня принимаете», или торговаться до упора.
Вика сделала ставку на оскорбленную невинность. Решила сыграть по крупному: а вдруг удастся и ребенка сохранить, и стать обеспеченной. Как говорится, и рыбку съесть, и…
Где наша не пропадала!
Синенький пожал плечами: невинность так невинность.
Вечером они оказались в его замке. Вика сразу узнала этот незабываемый многобашенный особняк, чем-то напоминающий кремль в миниатюре: еще недавно это было родовое шале бездетного Лаврентия. Она свободно ориентировалась в лабиринтах, неизменно упирающихся в укромные комфортабельные отсеки. В принципе, знала там едва ли не каждый диван.
В большом холле, в центре которого сдержанно пылал камин, сидела мужская компания. Кое-кто из присутствующих кивнул Вике как старой знакомой, остальные просто пялились на нее, как на товар в какой-нибудь занюханной лавке.
Синенький поднял левую руку, указательным пальцем подозвал к себе плотно сбитого охранника, потом вобрал указательный палец в кулак и торчащим большим указал на Вику. Он явно экономил на жестах.
Охранник подошел к Вике и тихим равнодушным голосом, почти не раскрывая рта, предложил:
– Раздевайся.
Вика, зная нравы публики, сказала, обращаясь к Синенькому, ее хозяину, изо всех сил стараясь не разрыдаться:
– Я беременна. У меня будет девочка с голубыми глазами.
– Цена повышается, – сказал после короткой паузы скромно, неброско одетый во все дорогое джентльмен, зябко протягивавший руку к камину. – Я даю десять кусков, Борода.
– Тринадцать, – произнес некто выбритый так гладко, что, казалось, лысину его, начинавшуюся от бровей и заканчивающуюся крепкой шеей, покрыли паркетным лаком в три слоя. Голова его при этом не двигалась, бегали одни большие, как у хамелеона, глаза. Можно сказать, он общался движением глаз.
Синяя Борода ничего не ответил лакированной рептилии, только слегка поджал нижнюю губу.
– Пятнадцать, – сказал джентльмен.
– Пятнадцать и один доллар, – у рептилии глаза сдвинулись до упора влево, в ту сторону, где сидел джентльмен.
– Пятнадцать и два доллара. Думаю, на этом торги мы прекратим.
Синий вернул губу на прежнее место.
После короткой паузы, джентльмен произнес:
– Я вам дарю ее. На этот вечер и эту ночь она ваша. Бесплатно. До семи утра. Только не надо портить товар. Завтра в семь вечера эта куколка будет принимать моих дорогих гостей у Танюшечки. И стоить она будет очень недешево. К утру окупится. Как тебя зовут, лялька?
Вика очень хорошо знала, что бывает, если не отвечаешь серьезным людям. Они сделают с тобой именно то, чего ты больше всего боишься – сделают не моргнув глазом и повторят сделанное ровно столько раз подряд, чтобы тебе и в голову не пришло следующий раз оказывать сопротивление. Не хочешь в анал – будет только в анал. Не хочешь минет – захлебнешься мужской спермой по самое некуда. Это называлось «сделать хороший товар» (ломать волю на корню). А если ты все же не сломалась, тебя прибьют в особо изощренной форме и выбросят на городскую свалку. Бомжи, обитающие там, даже не удивятся.
– Меня зовут Маша, – сказала Вика, улыбаясь своей самой обворожительной улыбкой. – У меня будет девочка…
– Будешь Викой, – ответил джентльмен, зябко, как истинный аристократ, протягивая пальцы к огню.
– Она похожа на Красную Шапочку: сама полезла в пасть к волку, – заметил некто с трубкой в зубах (вылитый Крокодил Гена, только не добрый). – Это уже двадцатая жена Синей Бороды.
– Значит, будет Красной Шапочкой, – решил джентльмен по кличке Серый. – Выпить хочешь? – обратился он к Вике.
– Она же беременна, – округлил глаза лысый. Оказывается, он умел общаться и бровями.
Мужчины смеялись долго и от души.
5. История третья. Мне отмщение, и аз воздам
– Хорошо, – сказал Вениамин Петрович, – я готов рассмотреть ваше коммерческое и, чего греха таить, несколько незаконное предложение. Мне оно кажется интересным. Ради таких предложений честные следователи работают годами. У каждого свой бизнес. Возможно, с вас снимут все подозрения, если вы сдержите свои обещания. Но…
Юрий Борисыч ловил каждое движение худощавого, но физически отменно развитого Пенициллина, от которого – кто бы мог подумать! – зависела судьба Учителя. Воистину неисповедимы пути Твоя… Твои…
А проще сказать – не плюй в колодец, Идиот.
– Но это все возможно только при одном условии.
– При каком условии, Вениамин Петрович?
– Продайте мне тот кед, Учитель. За тысячу долларов. А лучше подарите. С автографом.
– Зачем он вам?
– А вы не догадываетесь?
– Нет.
– Я думал, вы противник поинтереснее. Подумайте, зачем мне тот кед, которым вы меня пороли в юности, который стал для нас символом школы. Можно сказать, знаменем юности. Не ручка, не пенал, не галстук пионерский – именно кед. «Пеня, готовь жопу»: помнишь, Учитель?
– Разве не благодаря мне ты стал человеком?
Юрий Борисыч инстинктом опытного наставника почувствовал, что настала именно та минута, когда следует расшевелить что-нибудь душевное в этом окаменевшем представителе органов правосудия, так сказать, сыграть на струнах души.
– Благодаря тебе я стал тем, кем стал: тем, кого сам почти презираю.
– Как дела у Гудини?
– Лучше всех. Он уже давно на кладбище. Был жалким наркотом и педофилом. Твой кед ему не помог.
– А Вику помнишь? Ты ведь был влюблен в нее. Я мог бы организовать вам встречу… Она выглядит потрясающе.
– Вика рассказала мне о том, как ты ее изнасиловал.
– Это неправда. Ее хотел изнасиловать отчим. Он с восьмого класса предлагал ей стать его любовницей.
– Вика доверилась тебе, а ты как благородный человек воспользовался ситуацией.
– Если говорить начистоту, то она меня любила.
– Ей было просто плохо в то время, она запуталась и ничего не понимала. А ты трахал ее и заставлял делать аборты.
– Это она тебе рассказала?
– Ты трахал ее, а я стоял под стенами школы и плакал. Я все знал.
– У нас был роман. Я не виноват в том, что она любила меня, а не тебя.
– Она тебя боялась. А ты пользовался этим.
– Хочешь сказать, что ты бы на моем месте поступил иначе? Почему же ты на ней не женился, мистер честь и достоинство?
– После общения с тобой она боялась верить даже себе. Ты просто сломал ее. Она не могла даже мечтать… Ты хоть представляешь себе, что ты с ней сделал?
– Получается, во всем виноват я. Я – монстр, палач, убийца. А вы все – просто ангелы.
– Ты не монстр; ты ублюдок.
– Ладно. Пусть будет ублюдок. Хоть горшком назови – только в печь не ставь. Какой смысл ругаться? Это не я такой; это жизнь такая. Давай вернемся к моему предложению. У тебя же все хорошо в жизни. Скоро ты станешь состоятельным человеком, мы откроем новое дело. У меня сохранились связи… У тебя дети есть?
– Дела здесь начинаю или закрываю я, и только я. И вопросы задаю тоже я. Теперь мы заключим пари на моих условиях. Я тебе пропишу десять «горячих», и если ты выдержишь их, я дам тебе шанс скрыться, умотать из страны. Как в детской игре, помнишь? Кто не спрятался – я не виноват.
– А если я не соглашусь?
– Я посажу тебя в камеру, где тебя «опустят» за десять секунд по полной программе.
– Я согласен. Конечно, я уеду.
– Но сначала я получу свои деньги. Завтра. Много. Много – это что-нибудь с пятью нулями.
Пеня выбросил перед собой руку с растопыренными пальцами.
– Торговаться нет смысла, Учитель.
– Как же я организую вам деньги и кед, если я сижу в кутузке, Вениамин Петрович?
– Это твои трудности. Сила воли плюс характер, старина. Выше знамя советского спорта.
– Но как, Вениамин Петрович, как?!
– Я позволю тебе сделать пару деловых звонков. А там – пеняй на себя, – сказал тот, кто некогда был просто Пеня. – Свободен.
– Кстати, – вонзил он бумеранг в спину Учителю, – у меня есть дети. Двое пацанов. И я луплю их от бессилия так, как порол нас ты. Чему их учить, а? Может, ты знаешь? Они вырастут, и им, по крайней мере, будет кого ненавидеть: меня. Вот за это ты получишь своих десять «горячих». Желаю тебе выжить.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
4
Раскольников, как мы уже говорили и ещё не единожды будем говорить, по своей душевной отзывчивости, «христианскости» был человеком уникально одарённым, что в романе признавали самые чуткие или прозорливые люди. Вспомним реакцию Сонечки, этого ни разу не сфальшивившего христианского камертона: «Вдруг, точно пронзённая, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.
– Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.
Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на неё:
– Странная какая ты, Соня, – обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь.
– Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! – воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике».
Смысл её бессознательных истерических причитаний прост, как вера с точки зрения психоаналитика: он совершил преступление именно потому, что по натуре своей исключительно чист и непорочен. (Вспомним: Наташа Ростова поступила «дурно» в истории с Анатолем Курагиным именно потому, что она была очень хорошим человеком.) Это всё шпильки в сторону заносчивого разума: умом, дескать, не понять, а на колени встать хочется. И то, что «непонятно», но «хочется» – становится составом «наказания».
Может быть, ещё более впечатляет характеристика праведника с червоточинкой, с душевными окаменелостями (Петр – «камень» (греч.)), умного следователя Порфирия Петровича: «Изверились, да и думаете, что я вам грубо льщу; да много ль вы ещё и жили-то? Много ль понимаете-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то всё-таки не безнадёжный подлец. Совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошёл. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль бога найдёт. Ну, и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. (…) Знаю, что не веруется, – а вы лукаво не мудрствуйте: отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, – прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почём знаю? Я только верую, что вам ещё много жить. (…) Ещё бога, может, надо благодарить; почём вы знаете: может, вас бог для чего и бережёт. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а, ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!»
Между прочим, Порфирий Петрович в одном, далеко не самом продолжительном своём монологе, выболтал всю концепцию романа. Больше-то и добавить нечего. Но – обратим внимание – концепция выболтана тогда, когда художественно она уже воплощена. Откристаллизованные Порфирием смыслы растворены в ткани романа, придавая ей некий интеллектуальный отлив. Достоевский, конечно, прав; не будем и мы путать концепцию как таковую с романной концептуализацией, философию с литературой, психику с сознанием, разум с душой; не будем выяснять, что лучше: именно такая постановка вопроса и оглупляет роман, а вовсе не отсутствие подлинной философии. Требовать от романа ума – это в свою очередь глупость. Но это так, к слову.
Итак, именно то, что Раскольников по своим задаткам и был рыцарем милосердия, подвигнуло его на идейную «подлость». Холостые диалектические обороты мыслей, знакомые уже нам по роману «Война и мир», очертили тот порочный круг, который Раскольников собирался разорвать при помощи всё той же мысли. И если исходить из того, что мир устраивается волею и возможностями людей, то Родион Романович был прав. Он был прав до тех пор, пока не выздоровел, не прозрел и не принял как должное, что мир устроен иначе, не людским хотением и произволом, а тем, что Сонечка называла «что ж бы я без бога-то была». Вот эта надуманная правота и была преступлением Родиона Романовича. Преступление его состояло в том, что он безотчётную веру решил заменить на регуляцию от ума, и тем самым разорвать порочный круг (глупым умом же и заданный). Иначе говоря, само вмешательство в фундаментальные принципы мироздания и есть преступление, неверие же в Бога – преступление преступлений.
Ведь что произошло: Родион Романович Раскольников не вынес страданий других. Он несколько раз был на грани решительного срыва, отказа от логической каторги, но страдания «униженных и оскорблённых» питали его преступную «предприимчивость». Вспомним: увидев живую старуху, которую предстояло убить, Раскольников уже почувствовал, что готовит себе Голгофу. Он готов был отказаться от преступных замыслов, следуя, как Сонечка, непосредственным движениям души («отдаться жизни прямо, не рассуждая»), но на беду (или к великой радости?) он знакомится с несчастным семейством Мармеладовых…
Под пером знающего своё дело повествователя судьба маленького человека и ничтожного чиновника, титулярного советника Семёна Захаровича Мармеладова превращается в притчу обо всех обездоленных, которым просто «идти больше некуда». Сладкая фамилия Мармеладов иронически подчёркивает горечь и беспросветность его положения, его «скотское состояние». Старшая дочь его, Сонечка, уже на панели, две других дочери, шести и девяти лет, очевидно, стоят в очередь туда же. Жена Катерина Ивановна, «из благородных», сгорает в чахотке. Дилемма, замыкавшаяся в железный порочный круг, была проста, как решение Сони стать проституткой: является ли преступлением помощь «мармеладовым», даже если помощь эта может быть оказана только ценой реального преступления? Разве сделать вид, что «мармеладовых» не существует – это не преступление, может, ещё более мерзкое, ибо бесчеловечное бездействие есть форма согласия на массовое истребление беззащитных?
Всё это повествователь позднее определит как «тоску», которая «нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения». Прав, конечно, был Порфирий Петрович (или монологически сработанный роман: это уж кому как угодно).
Если переводить «общие» рассуждения в конкретную плоскость, то на одной чаше весов оказывается жизнь кряхтящей «сухой старушонки» «с вострыми и злыми глазками» и «белобрысыми», между прочим, «мало поседевшими», «жирно смазанными маслом» волосами, «тонкой длинной шеей, похожей на куриную ногу»; на другой – жизни «скорчившейся» маленькой девочки, спящей на полу, дрожащего и плачущего мальчика, другой девочки «в одной худенькой и разодранной всюду рубашке», «с большими-большими тёмными глазами» на «исхудавшем и испуганном личике»…
Да, ещё, пожалуй, к ним следует присовокупить Катерину Ивановну, «особу образованную и урождённую штаб-офицерскую дочь», «тонкую, довольно высокую и стройную, ещё с прекрасными тёмно-русыми волосами», «запёкшимися губами» и «чахоточным взволнованным лицом».
Да, ещё Соню, «дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала», что вынуждена «наблюдать» «особую» чистоту.
Да, не забудем и отца её «земного, пьяницу непотребного», который «стащил» у дщери последние тридцать копеек себе на похмелье, и пьёт, мучая себя и других.
Если разумно разложить ситуацию, то «преступное» перераспределение средств (тем более нажитых малопочтенным ростовщичеством, тем более завещанных монастырю), конкретная «адресная» поддержка вовсе не кажутся таким уж преступным «предприятием».
И душа, уязвлённая доводами рассудка, опять обрекает себя на мучение в «преступной» (в этом всё дело!) системе координат.
С точки зрения психологии, слишком ранимая душа, защищаясь, оборачивается в определённом отношении холодной расчётливостью и преднамеренной жестокостью. Но Достоевского интересует не психология вообще, а христианская психология, то есть психология, приспособленная под определённую систему ценностей, сросшуюся с ней, где законы нормальной психологии подчинены императивам абсолютов: милосердия, добра и т. п. В такой ситуации остаётся только всех жалеть – и больше ничего.
Раскольников с его нормальной, избирательной жалостью, был, конечно, ненормальным в мире, поставленным с ног на голову. Вот этот фокус – радикальную смену координат, проведённую явочным порядком на том простом основании, что абсолюты не нуждаются ни в каком и ни в чьём обосновании и никогда не меняют своего «хорошего» содержания, – исследователи Достоевского предпочитают не замечать. А в этом-то и есть вся суть вопроса. Переверните всё с головы на ноги – и перед вами окажется «пустой», бессодержательный роман. В романе было то, что могло бы быть, если бы… Если бы у меня была волшебная палочка, то…
Никто не сомневается, что мир поменялся бы в лучшую сторону. Но волшебных палочек не бывает, тогда как в «Преступлении и наказании» несбыточные волшебные пожелания априори приняты за точку отсчёта в неволшебной, земной, «гадкой» реальности.
Фокус-с.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































