Текст книги "Гармония – моё второе имя"
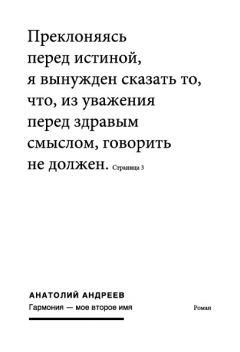
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
2. Стрельба по привязанным зайцам
И у нас была свадьба. В апреле. К удивлению немногочисленных друзей, в основном, с ее стороны, я ел только специально принесенный с собой кекс и запивал его коньяком – обжигающим нектаром, отличавшимся золотистым «нарядным цветом» с крепким коричневым оттенком.
Апрель играл с зимой, будто большая, здоровая и сытая кошка с полудохлой мышкой. Позволит ей глоток ледяной свежести с утра – робко сыпанет редкий мокроватый снежок с затянутого сереньким неба – а к полудню уже балует прогретым весенним ветерком, сошедшим с ума от запахов пробудившейся природы. Солнце в обновленном огненном оперении чувствовало себя уверенно, словно нелепый вождь индейцев, и уже никуда не спешило. Такое впечатление, что оно тоже перезимовало в берложке, как пушистый зверек, и теперь карнавально радуется свободе. Ах, это сладкое слово свобода с привкусом цианистого калия…
Это было еще тощее солнце социализма. Вскоре ему, уже более лохматому и тучному, предстояло всходить и заходить в другой, раскрепощенной стране, населенной теми же самыми людьми, которым хотелось думать, что они стали другими – свободными. Солнце то же, а люди другие. Природа не поспевала за культурой. Где натуре с ее допотопными циклами! Прошла зима, настало лето: спасибо партии за это. Все под контролем. Теперь партии не стало. Спасибо гвардии новых мучеников за идею иного всеобщего эквивалента – за бабло. Потом гвардии не стало (увы, оторвались от народа – выродились в олигархов). Спасибо всем. Несвободные люди через брюхо служат идее, свободные – только брюху. Назад, в пещеру: это и есть «даешь цивилизацию». Дальше, почему-то, перспектив не видно. Темень какая-то демократическая. Как в заднице. У доброго негра.
Времена настали веселые и лихие, а семью, ячейку общества и одновременно пещеру личности, никто не отменял. Всем по-прежнему хотелось счастья. Кусочек чего-нибудь личного, независимого от свободы и общества. А ведь счастливая семейная жизнь – это жизнь без сюжета, которая по своей предсказуемости напоминает стрельбу по привязанным зайцам; сюжет появляется только тогда, когда семью начинает лихорадить и она постепенно распадается. Всякая счастливая семья проходит испытание на прочность – переживает несколько периодов распада. Период четвертьраспада, полураспада, распад, спад, ад… Да…
Семья, ячейка и пещера, превращается в ничто. В космическую пыль, скопище отдельных атомов. Может, это нормально? История семьи – история пыли?
С другой стороны, из чего-то возникали и создавались новые семьи – может, из той же пыли, из тех же атомов?
А новое, передовое, потому как капиталистическое, общество – не из той ли пыли вылепилось, в которую превратилось, старое, социалистическое (возникшее, как известно, на обломках пещерного капитализма)? Ведь другой же пыли, иных атомов, альтернативного вещества же просто нет. Из ничего и будет ничего. Ноль. Всеобщий эквивалент пустоты. Типа «ау-у-у», однако…
Перестройка, перекройка, обновление… Почему-то распад и гибель страны, Союза нерушимого, непременно облекается в звучные названия. Перестройка – это ведь гимновое нечто. Гром среди неба. Практически пертурбация. А начиналось все так мирно: пере-стройка…
Историческая задача – обновить общество, безнадежно при этом махнув рукой на дремучую, не поддающуюся обновлению природу человека, – решалась без веры в чудеса: кроваво, скоро, хищно и безжалостно.
Это было время историй, историческое время; можно сказать, сама история гуляла напропалую, направляемая тучным бессознательным маленьких людей, сгрудившихся в огромный конгломерат, под кодовым названием народ. Чего-то делили. История – это всегда дележка пирога, когда не хватает даже тем, кто делит, не говоря уже обо всех остальных, которым столько обещано. Что взять с истории, для которой, по мифу, не существует сослагательного наклонения?
По-моему, она только и живет сослагательными наклонениями. Все, что происходит или произошло, могло бы произойти как-нибудь иначе, могло бы и вовсе не происходить. Могло бы не быть. Что толку?
У ничто нет истории; история пустоты – это даже не смешно, ибо нет предмета: над чем смеяться? История о том, как пирог не поделили… Нет, история о том, как два генерала, вышедших из мужиков, пирог не поделили, а мужик при этом остался виноват де юре и в дураках де факто. Это круто.
Под эту историю создали «новую» идеологию: необходимость служить идее была с восторгом отметена «свободным» служением брюху. Старая, как мир, брюшинная идеология была объявлена новым культурным завоеванием. В новую Конституцию Продвинутого Глубоко в Демократическую Зад…, нет, Ц, в смысле Цивилизацию, Общества пунктом Первым занесли главный параграф (теперь уже славянскими иероглифами, рядом с мантрами на латинице): отныне всякий считающий себя свободным имел право – главное право человека (не путать оного с личностью и быдлом) – не думать. Не хочет, значит, не должен. Главной обязанностью свободного человека (см. пункт Второй Конституции) была объявлена повинность смотреть футбол под чипсы, пиво и прикольную рекламу. В перерывах – попсовый мультик или сериал с любимыми «звездами». Че еще? Плодитесь и размножайтесь. Нормальному человеку больше не надо.
Все. Конец истории. Всем спасибо. Все свободны.
Вот такая история.
И эта история маленьких людей, в гордыне называющих себя «простыми», придумала себе королевскую проблему: роль личности в истории. К сожалению, пока что можно говорить прямо об обратном: роль истории малюсеньких людей в деле уничтожения личности. (Вовсе не обязательно писать это последнее, ласковое слово с большой буквы – все равно до этого феномена не дотянешься: это вам не Марс какой-нибудь. Гм-гм. На всякий случай для суперновой гвардии. Марс – это планета, а не шоколадный батончик скверного качества, употребляемый иногда вместо чипсов теми, кто пьет не пиво, а пепси-колу.)
Сколько истории, сколько блошиных, пардон, брюшинных, историй, вмещавших столько всего доисторического!
Все эти истории как-то впитались в меня, обогащая и корректируя мой духовный состав. При этом я вел напряженный диалог с Достоевским, с большим чувством раскрывшим души всех этих простых или, того жальче, ма-аленьких людей. Отверженных. Униженных и оскорбленных. Обиженных и прибитых. Верящих, вопреки всему, в доброе и светлое начало.
Иначе сказать, людей, живших бессознательной жизнью.
Знал бы Федор Михайлович, кого он прижалел. Мой мир не походил на их мир – и тем хуже было для меня: это я жил в их мире, а не они в моем. Будут ли они когда-нибудь жить в моем мире и вкусят ли прелести сознательного существования – неизвестно. Впрочем, это будет уж совсем другая история.
Месиво историй, из которых и состояло вещество будней, составили третий круг моей жизни. Зимний круг. Эти истории, хляби и топи, были в буквальном смысле почвой под ногами, по которой я бродил наощупь, проваливаясь и тут же вскарабкиваясь на новую неверную кочку, чтобы в очередной раз соскользнуть с нее в холодную жижу…
При этом я писал свою историю – историю личности.
3. История первая. У народа Берия не вызывал доверия
Звали его Лаврентий (кличка, изготовленная историей, подобралась быстро: разумеется, незабвенный Берия; если уважительно – просто Палыч). Он был закадычным другом Юрия Борисыча, большим поклонником Элеоноры, а впоследствии также и Марго. Можно сказать, шел по следам Учителя. След в след.
Время, само собой, выбрало этих ковбоев своими героями.
Они затеяли хитроумный (то есть весьма простой: шмотки, сигареты – купи-продай) бизнес и задумали преуспеть, ибо кому, как не им, было процветать в этом муравейнике, населенном жалкими тварями. Раз кругом одни дураки – грех не нажиться на их слабоумии. Не превращаться же в одного из них. Логично?
О то ж… Простая арифметика.
Берии, который сначала работал инженером в КБ и подрабатывал таксистом, а потом работал таксистом и подрабатывал инженером, повезло: старший брат его, Одиссей (имя, ставшее кличкой; кличка от клички – Одя), отсидел за убийство изверга-отца, и теперь вышел на свободу, имея в активе двенадцать лет срока, изъеденное временем честолюбие, подточенное здоровье и виды на нефтяной бизнес.
Разумеется, набиравший силу Одя не забыл о родном братце. Время позволяло брать кредиты, и Берии организовали сумасшедший кредит с таким количеством нулей и под такие смешные проценты, что герои наши вознеслись, словно влюбленные на полотнах Шагала, распираемые адреналином и разучившиеся ходить, – воспарили и над куполами церквей, и над крестами могил, и над городом, и над миром. Надо всем, что шевелится.
В одночасье жизнь Лаврентия (Палыча) и Юрия Борисыча круто поменялась. Кому война, а кому мать родна; кому катастройка, а кому рай, второй этаж ада (скоростной лифт, снующий туда-сюда, вечно перегруженный, к вашим услугам; впрочем, стали появляться и VIP-лифты: мгновенно, бесшумно, всюду благоухание и демоны, в обличье ангелов, под ваши белы ручки с нашим почтением; прогресс не остановить и не ограничить никаким пространством и временем).
Они сняли квартиру (убогую хрущобу для начала – для пробы), зарегистрировали фирму, назвали ее почему-то «Дом Достоевского» (сокращенно «ДД», – «ди-ди», если ласково, или «дабл ди», если необходима солидность) и развернули бурную деятельность. В секретаршах у них стараниями Юрия Борисыча тут же прописалась уже знакомая нам Вика из совкового прошлого, из 11 «Б», у которой была тьма подруг, желающих немало – и немедленно! – зарабатывать, но не желавших много работать. Сама Вика по квалификации и роду одаренности проявила себя как гений по оказанию массы мелких, но удивительно приятных услуг. Такие услуги оказывала!
Юрий Борисыч, наконец-то, понял, для чего он был рожден на свет божий: чтобы жадно наслаждаться чувством презрения ко всей этой копошащейся вокруг мелюзге с рабской психологией, вкалывающей со страху за жалкие пять-десять долларов в месяц. Он где-то в глубине души даже трогательно любил весь этот снующий, находящийся в броуновском движении животный мир (флору и фауну, если по-научному), ибо благодаря ему упивался оборотной стороной чувства презрения – чувством превосходства, процентов на 90 состоящим из чувства свободы.
Комплекс императора: теперь он не понаслышке знал, что это такое. Хочу казню, хочу милую. Впрочем, милую Вику он хотел всегда.
А бизнес творился до смешного легко (отсюда и презрение ко всем, кто не сумел «просечь» этот механизм): купил – привез – продал – купил – привез – продал – купил – привез – продал. До скучного легко. Однообразно. При малейшем сбое в отлаженной цепи компаньоны, Палыч и Борисыч, набирали мобильный (мобильное время породило мобильные телефоны) Одика. А тот с несговорчивыми оппонентами умел считать только до трех. Был нервным. Проблемы решались как по волшебству. Думать об укреплении и разрастании бизнеса, то есть о презренной работе, которую наемные холуи знакомых братков называли креативом, не хотелось: душа стремилась к полету.
Вещества, которым питалась свобода, а именно: денежных знаков, на которых были изображены важные пацаны, тоже президенты, – было в избытке. Стали строить загородные дома, каждому по коттеджу. Недалеко от Минска. В роще. Возле воды. Рай. Престижнее не бывает.
Мало.
Съездили за границу, побывали в Париже, заглянули на праздник пива в Германию. Эйфелева башня показалась прикольной (хотя могла бы быть и повыше), в Германии без языка – не фонтан, даже на фэсте.
Скучно.
Однажды утром им позвонили с незнакомого мобильника: сообщили, что могучего Одиссея убили злые люди. Вот взяли просто так – и убили. На ровном месте. Ни за что ни про что. Суки, а не люди. Берия обезумел. Следующая партия товара им уже не пришла, кредит вернуть они были не в состоянии, Вика стала посматривать в сторону конкурентов (к сожалению, еще одна грань ее разносторонней гениальности: умение держать нос по ветру; талантливый человек талантлив во всем).
Вчера еще незыблемая почва под ногами заходила ходуном. Вероломный Берия почему-то во всем обвинил Юрия Борисыча. Завязалась вендетта: бесконечные разборки, дележ имущества, взаимные претензии; дело дошло до прямых угроз.
Победителем, к несчастью, оказался Юрий Борисыч. По странному стечению обстоятельств, труп Берии отыскал пенсионер по фамилии Кох, выгуливавший собаку по кличке Баски. Подозрение, разумеется, пало на Юрия Борисыча. Все шло по классическому варианту: мотивчик, как говорится, налицо, перепуганный подозреваемый на месте; значит, вскоре объявится и обвиняемый.
Но гримасы иронически оскалившейся судьбы на этом не прекратились. Следователем по делу фирмы «ДД» был назначен добрый знакомый Учителя, его ученик и, не исключено, тайный поклонник Пенициллин. Пеня, он же Вениамин Петрович, встретил Учителя радушно, дал ему закурить (у Юрия Борисовича расшалились нервишки, и малодушные руки сами потянулись к отвратительным сигаретам, которые он импортировал под элитными марками), поднес зажигалочку и сочувственно произнес:
– Ну-с, говорить будем? Как известно, за преступлением неотвратимо следует наказание. Так, кажется, вы нас учили вслед за Достоевским?
– Пеня…
– Вениамин Петрович, гражданин Щеглов.
– Вениамин Петрович… Я думаю, мы договоримся.
– Возможно, Юрий Борисыч. Мы детально обсудим эту тему. Интересно, удалось ли вам сохранить тот изумительный кед, точнее, расплющенную резиновую дубинку, которой врачевали наши заблудшие души?
Изумлению Юрия Борисыча не было границ. Преступление, наказание, любит, не любит, поцелует, плюнет, добро, там, зло – это понятно. В жизни всякое бывает. Но не до такой же степени!
Тут мы и оставим наших героев (ненадолго), сверлящих друг друга по всем правилам буравчика взглядами, почти не скрывавшими яд немых укоров, а то и угроз.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
3
Итак, Раскольников и не подозревал, что весь его тернисто-тёмный путь ведёт в мир светлый. Но повествователь знал это с самого начала, и ни на градус не уклонялся от избранного выверенного маршрута. «Как бы» импровизационность и непредсказуемость поведения постоянно находившегося на грани душевного срыва Раскольникова (в романе более пятисот раз употреблено роковое «вдруг», что отражает «странную» спонтанную логику действия героев) на самом деле жестко предопределена мировоззренческими императивами повествователя. Роман, состоящий из шести частей с эпилогом (что в сумме составляет неслучайное число семь), начинается весьма и весьма многозначительно: «В начале июля (седьмого месяца года – Г.Р.), в чрезвычайно жаркое время, под вечер (где-то в районе семи, в тот час, когда, спустя сутки-другие, будет совершено преступление – Г.Р.), один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».
С самого начала читателя окунают в раскалённое пекло, своеобразную модель ада, причудливо сдабривая действо мистикой библейских чисел, не вполне ясной, но зато вполне «реально» влияющей на происходящее. Двойное отражение реальности, отражение отражения, о котором мы говорили в связи с достоевщиной, с самого начала пронизывает образную ткань произведения, сообщая нервную напряжённость всему стилю, в том числе ритму и синтаксису повествования. «Как бы в нерешимости», впавший «как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы какое-то забытьё», «чувствуя какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился», молодой человек, ещё не определивший для себя, решился он на «это» или нет, ступил из своей каморки, похожей на гроб, в адскую жизнь.
Если добавить к сказанному, что молодой человек «и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день, как уж он почти совсем ничего не ел» и что в таком состоянии он, обуреваемый «безобразною» мечтой, которую «как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил», шёл «делать пробу» «этому» (идти было «ровно семьсот тридцать» шагов), «и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее» – если попытаться все упомянутые обстоятельства принять во внимание, то можно составить себе представление о типе художественности произведения.
«Мечта» неотличима от «предприятия», всё зыбко, неопределённо, неоднозначно, и когда оно как бы есть, то неясно, есть ли оно или, напротив, ничего такого и в помине не было. То ли мерещится, то ли пророчески бредится, будто бы явь, а может быть, как бы сон – вот лучшая почва и питательная среда для перетекания бессознательного в полусознательное и, далее, в как бы осознанное, от которого всего-то один маленький шажок до исходного великого «немого» – океана бессознательного. Балансировка на грани ирреального, впечатление полуяви, дьявольски скользкой амбивалентности – вот чего добивается и достигает повествователь для того, чтобы его «рассказ» отразил больше, чем реальность, а именно: реальность ирреальной природы человека. Писатель вуалирует контртезис подтекста: грубо отразить реальность такой, какова она есть, это и значит исказить её. А вот размывая её полутонами – получаешь некоторое представление о реальности…
О реальности чего, спросим мы, вспомнив о стоящей перед нами задаче научного познания романа?
О реальности фокусов психики, о реальных законах моделирующего сознания, стремящегося всегда раскрасить реальность в близкой ему гамме ощущений.
Итак, экзальтация мгновенно достигает точки кипения, и накал страстей не спадает уже вплоть до последнего абзаца. Добро пожаловать в преисподнюю человеческой души, читатель.
Роман «Преступление и наказание», если угодно, очень и очень художественное произведение. Мы в данном случае имеем в виду не степень художественности, а качество, противоположное научной рефлексии. В романе всегда говорится одно, подразумевается другое, а на самом деле речь идёт о третьем. Подлинный роман как бы утоплен в подтекст, и его смысловой корпус действительно надо извлечь, проделав с этой целью определённую работу. Таким «романом в романе» является скрытое противостояние психики – сознанию. Сдержанное остервенение переживающей свою априорную правоту «души», бессильной при этом против убогой арифметики разума, нет-нет да и прорывается святым гневом наружу, создавая как бы немотивированные конфликты. Будем бдительны.
Раскольников «с замиранием сердца и нервною дрожью» подошёл к дому, где он собирался «делать пробу». Разговор с малосимпатичной, похожей на бабу Ягу, однако живой старушонкой, которой отводилась роль невинной, но закономерной жертвы в его «предприятии», вверг взявшего было себя в руки студента в пучину такой психологической мерзости, что шокировал переживающего всё наперёд «предпринимателя» и довёл его до состояния психо-физической прострации. «Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более и более увеличивалось. Сходя по лестнице (вниз! – Г.Р.), он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно поражённый. И, наконец, уже на улице, он воскликнул:
"О боже! Как это всё отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц… "
Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его ещё в то время, как он только шёл к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шёл по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице».
Весь отрывок посвящён описанию «невыразимых» чувств: смущению, отвращению, волнению… Если отвлечься от описания ощущений, роман съёжится до размеров бессмертной «Пиковой дамы». Следовательно, чувства и ощущения «сердца», в гибельном экстазе реагирующего на «ужас», пришедший «в голову», и составляют суть романа.
Причём – и это самое главное – не просто описанием чувств озабочен повествователь, а их логикой и динамикой: в результате создаётся впечатление концептуальной глубины. Вот как развиваются чувства далее.
Не надо быть большим психологом, чтобы предположить, что душевный маятник, дойдя до крайней точки, неизбежно качнётся в противоположную сторону. Так и произошло. Раскольников спустился, опять же, «вниз», «в распивочную» – и «тотчас же всё отлегло, и мысли его прояснели. "Всё это вздор, сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое всё это ничтожество!.." Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих» (отметим мотив «Раскольников и другие», другие как индикатор «ужаса»: чем «ужаснее» мысли, тем менее дружелюбности и более одиночества).
Однако надо быть уже незаурядным психологом, чтобы так прокомментировать улучшение состояния: «Но даже и в эту минуту он отдалённо предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная». Ведь это значит, что Раскольников предчувствовал (точнее, предчувствовал, что его предчувствия окажутся верны), что глубоко поражён метастазами… чего?
Какое «ужасное бремя» давило на него?
Бремя разума, как мы вскоре многократно убедимся. «Раздавите гадину!» – могло бы стать эпиграфом и девизом романа, ибо сражение с разумом – вот что происходит в каждом фрагменте текста даже тогда, когда происходит всего лишь смена состояний героя.
Мы воспроизвели образец типичного для Достоевского психологизма, направленного на то, чтобы вскрыть последний, окончательно последний пласт в душе, после которого не было бы уже ничего, что могло бы прощупываться «отдалёнными предчувствиями». Многослойно «устроенная» живая душа как-то ненасильственно и вместе с тем с принципиальностью святых старцев сражается с разрушительным вмешательством в её чуткую и благостную ткань инородного тела «грязного» разума. Раскольников, по Достоевскому, был действительно болен, но не в том обычно-естественном смысле, о котором говорим мы, нехудожественные человеки, а в смысле «высокой болезни», которая не поддаётся ни медикаментозному, ни психотерапевтическому лечению: он был инфицирован «преступным» по составу вирусом, который разъедал душу, толкая её к несвойственным ей извращениям. В моменты прояснения душа его «плевалась»: «грязно, пакостно, гадко, гадко!..»
Но болезнь не отпускала. Почему?
Вот ради выяснения этого жизненно важного обстоятельства и стоило писать роман.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































