Текст книги "Гармония – моё второе имя"
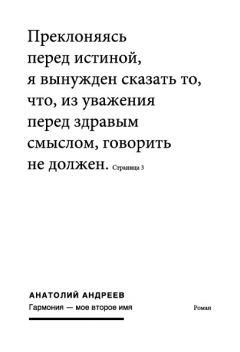
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
5. Змея в шоколаде
Ничего не случилось.
У Майки была роскошная вагина – тесное лоно капризной девственницы, и я получал удовольствие и от ее упругих прелестей, и еще больше от того, что она со мной изменяет будущему мужу, Артему, поклоннику Тарзана.
Это сложное чувство трудно описать. Собственно, удовольствие от измены получала она (втайне от одного отдается другому); я же наслаждался тем, что мог видеть ситуацию с разных сторон – и ее, и его и моими глазами. Она, такая чистая и непорочная в глазах Артема, развратничала со мной, прелюбодействовала: она наслаждалась своей двойной природой, чувствовала себя Змеей в шоколаде (что придавало ее движениям и позам порочную откровенность). С другой стороны, змеей в шоколаде чувствовал себя и я: кроме того, что Майка была смуглой (следовательно, я энергично орудовал в смуглом теле), я поверхностно знал Артема – то есть через его будущую жену я змеиным финтом проникал в его дом, гремучими кольцами сворачивался на его ложе. Если бы самолюбивый Артем, идеальное пособие по мышечному атласу мужчины, узнал об этом, он с наслаждением размазал бы по моему просторному дивану нас обоих (восточные единоборства вообще и поза змеи в частности – его настольная Библия). Это, естественно, придавало особую пикантность приключению и сплачивало нас все более и более, и более. Представлять божественно сложенного Артема, будущую кинозвезду, абсолютно уверенную в своей Майке, в тот момент, когда его избранница распластанной коричневой ящеркой извивалась подо мной в сладких судорогах…
Впрочем, в тот момент мне было уже не до него. Майке, я думаю, тоже.
Итак, мы с Майкой поступали, возможно, и не очень хорошо (с точки зрения какого-то условного архаического кодекса, о котором я, как и все молодые люди, уверенно шагавшие в XXI век, имел смутное представление), но несказанно довольны были все трое.
Вечером я шел к своей девушке Вите, будущей невесте (в непорочности которой, кстати, я был тоже абсолютно уверен, потому что порочность прививал ей исключительно я), и мы отлично проводили время. После того, как побываешь в постели с заводной Майкой, очень хотелось спокойную Виту. Здесь, в ее кроватке, я наслаждался скромностью своей подруги, предпочитавшей кошачьи повадки всем остальным. Сколько я ни приглядывался, не находил в ней ничего змеиного.
И меня опять тянуло к Майке…
Жизнь – это жизнь, называйте кошку кошкой, змею змеей, а удовольствие – удовольствием. Зачем врать? Получайте удовольствие от всего, в том числе от правды – от того, в частности, что не врешь самому себе, когда врешь другим. Вот и весь мой новейший кодекс на тот момент. От такой простоты – куча бонусов. Я получал удовольствие еще и оттого, что мой мир был устроен просто, хотя я втайне надеялся, что простота – залог надежности (и уж совсем втайне я предчувствовал, что простота – это форма сложности). Это был мой главный приз – приз за легкомыслие от какого-то Всемирного Папы, главы всех взрослых и ответственных.
Что у нас завтра?
Какая разница, если сегодня ты молод и здоров, тебе на днях стукнуло двадцать семь, а ей, Вите, около девятнадцати, кажется.
Что у нас на улице?
Октябрь. Ночная гроза. Молнии, словно ослепительные алмазные подвески, гроздьями блистали на темном небе; трескучие раскаты грома набегали волнами, замирали, и после этого слышался мягкий шелест дождя, сыпавшегося из прорех, прожженных подвесками. И вновь в той же последовательности: алмазный салют, строгий гром, как будто кто-то Ответственный грозил мне из иных миров, мягкий укор дождя. Весело.
Рядом сладко сопела моя кошечка, прислонившись ко мне спиной. Я закрыл глаза и заснул сном праведника, правота которого заключалась в том, что он был все еще относительно молод.
А как же любовь?
Что-то не хотелось мне тогда думать о любви (хотя, казалось бы, я жил и купался в любви). Я чувствовал, что мне невыгодно погружаться в философию любви.
Вот я и не погружался.
6. СПИД (SPEED)
– Герман! Геррманн!!
Голос Майки вибрировал так, что это отдавалось в трубке телефона.
– Мы пропали! Ты меня убьешь – но, клянусь, я ни в чем не виновата, ни в чем. Я сама не знала! Это все он, он, Артем!
Из всей этой белиберды я понял только одно, точнее, из осколков бреда выстроил сколько-нибудь правдоподобное предположение: будущий муж Майки узнал о том, что я сплю с его будущей женой в течение двух лет. Первый год не в счет, потому что Артема тогда еще не было на горизонте, а вот второй можно было и занести клиенту в стаж при желании. Бицепсы пришли в тонус от струи адреналина и вздулись. Появился нездоровый блеск в глазах. Мое маленькое удовольствие, кажется, заканчивалось, преступление готово было вот-вот продлиться наказанием. Катастрофа, конечно, но, с другой стороны, может и не до конца размажет, самурай накачанный. За все в жизни надо платить, понимаем…
– Герман! Что будем делать?
– Надо встретиться. Я ведь толком ничего и не понял. Артем узнал, что ты ему изменяешь со мной – так, что ли? – я прикрыл рукой трубку и вжал голову в плечи.
– Нет, не-ет…
Майка плакала, издавая звук реактивного самолетика.
– Нет? Странно. Давай встретимся. В «Березке», годится? Ты мне все расскажешь. Не плачь. Что ты ему там наплела, интересно? У меня ведь тоже скоро появится невеста. Всегда полезно знать, о чем думают невесты.
Майка стала плакать еще громче.
Как только я увидел Майку в кафе «Березка», я понял, что стряслось в самом деле что-то необычное. Майка, легкомысленная девушка, никогда бы не стала убиваться по пустякам. Я думаю, начало Третьей мировой она бы просто не заметила. Такие уж мы глупые эгоистки, так уж мы счастливо созданы.
Говорить на людях она была не в состоянии: ее трясло и лихорадило. Ее живые карие глаза помутнели и побледнели. Я вынужден был крепко взять ее под руку и увести в парк.
Бессмысленно передавать ее словами то, что она мне, в конце концов, сообщила. Сначала она кричала «Герман, лапушка!», потом «Артем, как ты мог!», потом просто выла минут десять на одной ноте. Такое впечатление, что в «ля миноре».
Время от времени я голосом доктора Айболита, принявшего дежурство в реанимации, задавал ей короткие, но убийственные вопросы, чтобы привести ее в чувство. «Ты беременна?» «У тебя умерла мама?» «Артем погиб?» «Ты не сошла с ума?» «Как тебя зовут?»
Каждый вопрос только подливал масла в огонь: она истерично кричала «нет же, нет!» и всплескивала руками. Я окончательно растерялся, поэтому в моих действиях появилась не слишком свойственная мне уверенность. Я сильно обнял ее за плечи, прислонил к себе, потом прижал, усадил на скамейку, и она мало-помалу затихла в тисках моих рук.
То, что она мне рассказала, было по-своему забавно. Если бы это случилось не со мной, веселило бы меня дня два, я думаю, не меньше.
Итак, по порядку и без эмоций.
Артем, поклонник Тарзана, заразился СПИДом половым путем («Мерзавец!» – сочно рявкнула в этом месте Майка) от порядочной девушки (имени мы не знаем), случайно принявшей наркотик через шприц наркомана. Девушке просто захотелось острых ощущений – хотя бы разок в жизни. Как будто в дальнейшем она собиралась вести обычную, пресную, унылую жизнь. Естественно, согласно элементарным законам, так некстати всегда противоречащим чуду, этот недоделанный бодибилдер заразил свою подругу, Майку, а та, в свою очередь, своего приятеля, то есть меня. По идее, я должен был заразить свою невесту, Виту. На этом, по идее, цепь должна прерваться.
– Ты меня убьешь? – спросила Майка, обессилено сморкаясь в насквозь мокрый платок.
– Я подумаю, – сказал я. – Но даже если я убью тебя, это вряд ли продлит мою жизнь. И жизнь Виты.
– Прости, – сказала Майка.
Странно: от этого бессмысленного ритуального словечка у меня стало легче на душу. Я даже зауважал Майку, и мне стало ее жаль.
Артем уж заодно признался и в своих мелких грешках: оказывается, он был гомосексуалистом со стажем. Зря я, прах его побери, переживал за его будущее с Майкой.
– Голубенький? – спросил я, подняв бровь.
– Ага, – Майка со стыда опустила голову. – Бисексуал.
– Обидно, – выдохнул я, – принимаешь заразу черт знает от кого.
– Прости, – пролепетала Майка.
– А ты уверена, что больна? Анализы сдавала?
Это было, конечно, проявлением слабости с моей стороны.
– Дважды. Реакция положительная: ВИЧ-инфекция, – сказала Майка. – Боюсь, к тебе тоже скоро нагрянут врачи.
Можно было не сомневаться: в таких делах Майка проявляла завидную практическую хватку. Если бы она хоть на йоту сомневалась, ничего бы мне не сказала. О ком бы мы ни плакали, мы плачем о себе. Это точно.
– О чем ты думаешь? – спросила Майка. Ее глаза вновь стали приобретать решительный карий оттенок.
– Я думаю о Вите, – сказал я. – Не об Артеме же мне думать.
– Давай поженимся, – предложила она будничным тоном. – Что нам терять?
И я почувствовал, что эта цветущая девушка уже примеряла на себя психологию тех, кто вынужден расставаться с жизнью. Через каких-нибудь пару часов и я стану рассуждать так же. Что ж, она права: в принципе все просто, если не врать себе. Наша психика мгновенно приспосабливается к новой ситуации. Новые чувства тут же заставляют человека принимать новую веру, а новая вера превращается в новое мировоззрение. Так можно менять убеждения каждый день, и делать это совершенно искренне. Но можно ли доверять чувствам?
А если нет, чему же тогда доверять?
Я почувствовал, что сию секунду в голове моей пронеслась в высшей степени глубокая и спасительная мысль, даже целая система мыслей, что мне ни в коем случае не следует забывать логику их сцепления. Но от мыслей осталось только ощущение того, что они в принципе существуют. Сами они обидно истаяли. Очевидно, пока что я не был готов к такой глубине. И только потрясение преждевременно (хотя – как сказать…) шевельнуло во мне ком еще не зрелых мыслей, в направлении которых я, очевидно, топал свою недолгую жизнь. Мысли связаны, конечно, с чувствами, – но как?
– А Вита? – спросил я.
Майка пожала плечами. Это можно было понять так: «Что ж, как знаешь. Вита так Вита. Тоже вариант. Но если передумаешь…»
– Через час тебе станет невыносимо плохо. Но я ничем не могу тебе помочь. Я совершенно пуста внутри. Только не спеши вешаться. А то успеешь.
Мы помолчали.
– Ты умеешь плавать? – зачем-то спросил я.
– У меня получается не тонуть, – серьезно ответила Майка. – Но я не уверена, что это называется плавать.
Я боялся, что последним словом во фразе будет «прости». Но, к счастью, я ошибся. Она сказала: «Прощай».
К счастью, и она ошиблась. Мне не было так плохо, как ей хотелось бы.
У меня, приговоренного, кому в ближайшем будущем светил полный и тотальный капут, кажется, впервые за долгое время проснулся интерес к жизни. Причем, «проснулся» здесь употреблено в значении «проснулся вулкан». Произошел своего рода тектонический сдвиг в моих недрах, состоящих из веществ ума и чувства, и – я был готов голову дать на отсечение, хотя она, судя по всему, стоила уже не очень много, и с каждым часом должна была только обесцениваться, – сдвиг этот был как-то связан с моим «бесследно» исчезнувшим прозрением.
Я бы убил в тот момент того, кто пролепетал бы мне банальщину, доступную и Учителю: дескать, чувство смерти обостряет чувство жизни. Только и всего. Не стоило ради этого заражаться СПИДом. Я чувствовал, что дело было не в чувствах. Впервые за свою сознательную жизнь я отделил чувства – любые чувства: смерти, жизни, любви – от истины и готов был сражаться за правое дело до конца. Мне уже легко было произносить про себя «до конца». В чем-то, конечно, я шел дорожкой Майки. Мы одинаково относились к жизни.
Но мы по-разному смотрели на смерть.
Ну-ка, что может предложить мир человеку свободному, в расцвете сил, без будущего и без иллюзий? Кому нечего терять, тот имеет шанс найти истину.
Что ж, не самая плохая судьба, если разобраться. Я согласен.
Вот только переживу разговор с Витой…
7. АСПИД, или Небывалый мутант
Ничего не могу с собой поделать: моя жизнь кажется мне цитатой из моего еще не написанного романа. Собственно, так было всегда, просто осознал я это относительно недавно.
Вот и сейчас, прокручивая в голове и сердце свою жизнь-роман, я с любопытством жду: а что же будет дальше?
Ведь все уже было, было и прошло, а я с огромным интересом жду от себя, Германа, больших сюрпризов. И считаю это нормальным: вот что должно бы меня насторожить.
Но не настораживает.
Вита повела себя предсказуемо: она отшатнулась от меня, как от чумного, и одним взмахом перепуганных ресниц разорвала нашу необычайно крепкую и перспективную связь без малейшего сожаления и без колебаний. Меня стало на одно отношение меньше: эту калиточку, ведущую в рай под ручку с Витой, передо мной захлопнули наглухо. Мир сократился на одно измерение – и тут же стал увеличиваться на несколько параметров: вместе с разочарованием приходило (правда, не сразу) понимание.
Вначале от этого не было легче. Я знал, что она поведет себя именно так; но я не мог себе объяснить, почему она повела себя таким образом. Срабатывал какой-то закон; но вот какой?
Я тут же позвонил Оксане, чтобы проверить смутное предположение. Кроме того, надо было внести в наши отношения окончательную ясность.
Она вежливо выслушала мою печальную повесть о подхваченной мной неизлечимой болезни, ни разу не перебила и под конец вздохнула:
– Очень жаль. Ты так понравился мне, и особенно Рите. Хорошо, что ты не успел войти в нашу жизнь: нам бы тебя очень не хватало. Удачи.
Короткие гудки.
Так завершилась история, берущая начало в детсадовской эпохе. Так сказать, усох еще один сук на древе жизни. Вся жизнь наша состоит из подобных историй; большой соблазн грамотно их расположить и связно о них рассказать. Кажется, что непременно получится захватывающий роман – вырастет огромное дерево с пышной крепкой кроной, и следы обрубленных сучьев, словно рваные шрамы, будут только украшать кору-кольчугу, напоминая о прошлом, у которого было сомнительное будущее.
Но нет, пожалуй, историй-обрубков будет маловато: утратится объемность и иллюзия жизни; из обрубленных сучьев не создашь живое дерево. Все истории держатся на стволовом смысле, понятен он вам или нет. Роман написать так же сложно, как прожить жизнь: все время движешься вслепую, наощупь… Главное, чтобы в верном направлении.
Вот, скажем, куда теперь?
У меня не было никаких обязательств ни перед кем, не считая, пожалуй, самого себя; я был готов на все, на любую авантюру или эксперимент: напомню, терять мне было нечего.
И жизнь уныло, словно по чьей-то подсказке, подбрасывала мне рецепт дешевой идеологии, ведущей к дешевому счастью: живи одним днем. Зажигай. После меня хоть потоп. Это подозрительно напоминало вариант мести. Только вот кому и за что?
Кроме того, это было скучно, ибо напоминало прежнюю жизнь. Ну, буду я жрать, пить и встречаться с девушками (сплошь красавицами, зараженными ВИЧ-инфекцией, само собой) в три раза больше, чем вчера. Будет в три раза больше счастья? Нет, будет в три раза скучнее. Мне определенно требовалось что-то другое.
Для начала я решил сходить на могилу к Пашке Кузнечику, который, были у меня подозрения, загнулся именно от СПИДа. Я проштудировал соответствующую литературку: вся симптоматика сходилась. Поговорил кое с кем из его окружения – подозрения окрепли. Не то, чтобы я решил суеверно поклониться в ножки своему будущему, с целью подленько его избежать; просто общая судьба нас как-то сблизила. Пашке, наверное, было так же паршиво, как и мне; от него, как и от меня, отвернулась Вита; а тут еще я от души врезал ему под дых.
Прости, Пашка.
Мне не понравилось, что надгробие Пашкиной могилы украшало фото жизнерадостного мордатого подростка. Это как-то снижало градус трагедии и выглядело до жути пошло. Понравилось мне, что на его могиле совершенно не было цветов: две принесенных мною пурпурных розы смотрелись сиротливо и обреченно. Меня забудут так же быстро.
Знающие люди посоветовали мне радикально впасть в буддизм. Дескать, религия для образованных, толерантных, склонных к размышлениям и романтическому диссидентству людей. Медитации удивительно врачуют душу. Просто панацея. Еще будешь благодарить Будду за то, что нарвался на СПИД. Глаза вступивших на этот путь блестели, словно обильно смазанные растительным маслом (хотелось думать, что оливковым).
Нет, лучше уж сразу в могилу. Мне надо было пробуждать сознание, а не усыплять его. Причем, следовало торопиться, если я хотел чего-то достичь.
И первое открытие на моем тернистом пути было обескураживающим: никто не знал, как следует пробуждать сознание, разум. Никто. У человечества не было культуры пробуждать сознание. Была культура развивать интеллект, была культура с помощью интеллекта запутываться в сетях веры, думая при этом, что они наконец-то обретают вожделенную свободу. Все вокруг спорили, ершились, дискутировали – но только до той грани, за которой начиналась угроза разоблачения их позиции как цитадели пустоты. Тут все интеллигентно опрокидывались в прострацию и начинали беззвучно разевать рот, как большие глубинные рыбы, которых губил избыток воздуха. Им нужна была мутная глубина; глубины в сочетании с ясностью они не выносили. Спорить с таким народом скоро превратилось в форму унижения для меня, и я быстро нашел способ не подвергать свое чувство достоинства болезненным испытаниям: я становился все более и более одиноким. И где-то даже байронически заносчивым.
Историй, которые бы подтверждали сказанное, со мной случалось множество, по нескольку раз в сутки. Вот только одна из них на тему «коварство веры».
Однажды в одной из интеллигентных, следовательно, демократически настроенных компаний, которые стали на какое-то время средой моего обитания, женщина, незамужняя, бездетная, считающая себя умной в последней инстанции, изумительно страшненькая (в то время широко было распространено заблуждение, согласно которому говорить о внешних данных умной женщины – значило глупо не замечать ее ума), завела «безумно интересный» разговор со мной, мужчиной, – то есть затеяла очередную дуэль, чтобы в очередной раз доказать себе, что все мужики глупы, как последние дуры.
– Моя близкая подруга, актриса Настенька N., приняла постриг и удалилась в монастырь, – коварно начала умная женщина.
Я молчал.
– Это подвиг. Вы не находите?
– Боюсь, что нет.
– Суметь отказаться от соблазнов – это подвиг. Разве нет?
– Я не понимаю, почему, собственно, подвигом надо считать то, что Настенька отказалась от жизни? Это всего лишь один из вариантов защиты и ухода от жизни, самый почитаемый сегодня, как и тысячу лет тому назад, но не единственный. Есть еще, например, не менее престижные: работа, кухонная борьба с догмами социализма, феминизм, альпинизм, буддизм, футбол… Много. Специально не считал. Даже тотальная забота о своем здоровье – это вариант ухода от жизни. Все это, увы, плохой способ стать хорошим человеком. Не любишь жизнь – плохой.
– Разве она не силу проявила, уйдя в монастырь? Она отказалась от всего того, без чего не могут обойтись слабые люди.
– Разве она не слабость проявила, испугавшись самой себя, своих естественных желаний, желаний зачать, выносить и воспитать детей и любить при этом мужа, что, согласитесь, непросто? Разве не слабость делать вид, что ты сильнее своей природы? Это унизительная слабость – лицемерие. И дважды унизительно – выдавать это за силу.
– По-вашему, и преподобная Евфросинья Полоцкая такая же слабая?
Этот аргумент она выдвинула весьма дипломатично: положила передо мной на стол ядерный чемоданчик. Социальный миф, проверенный временем. Дескать, давайте, отважный мужчина, сверим позиции. После этого аргумента я должен был стать шелковым и сговорчивым.
– По-моему бесподобная Евфросинья Полоцкая обязана своей славе невежеству людей. Что за доблесть сбежать в монастырь девчонкой, не познавшей жизни, и потом всю жизнь учить тому, что познание и любовь к жизни суть величайшие грехи?
– Вы переходите на личности и символы.
– Виноват, этот вы на них перешли. Вы мне лучше вот что скажите: самоубийство, то бишь радикальный уход ото всех и всяческих соблазнов, тоже, по-вашему, проявление силы?
– Отчасти, несомненно, да. Умерщвление плоти в разумных пределах – это хорошо. Крайность, такая, как самоубийство, – плохо.
– Я вам аплодирую. Вы последовательный бессознательный некрофил, каким является всякая сознательная феминистка. Но давайте заглянем дальше, давайте развернем ваш сценарий. Ели приветствовать уход от жизни и, отчасти, самоубийство, если жизнь так плоха, почему бы не приветствовать, отчасти, не только самоубийство, но и убийство, и самих убийц? Это ведь тоже вариант ухода от жизни, самый крайний и радикальный. В таком случае не Евфросинью Полоцкую, а Адольфа Гитлера хочется считать первым феминистом. Лавры, как всегда, мужчинам, извините.
– Вы подонок! Вот таких, как вы, и убить не грех!
– Безусловно, да. Именно, как вы изволили выразиться, убить. Укокошить – и баста. Брависсимо. Потому что я люблю жизнь и позволяю себе все, что любите вы, но не позволяете себе этого позволить. В силу убеждений. Веры. Плевать я хотел на веру. На любую веру!
В этот момент раздались аплодисменты – и в комнату вошла Вера.
Бурно аплодировал, будто молодежь на галерке, некто Сеня Горб, широко известный в узких кругах шут с философской чудинкой. Он был весел и легкомысленно остроумен, словно больной раком, не желающий замечать того, что осложняет «экзистенциальное существование». Возможно, он и был болен раком в последней стадии, которая случайно затянулась. Его едкие, безадресно изрекаемые истины никто не принимал всерьез в силу их какой-то всеобщей оппозиционности; все-таки в порядочном обществе, сплошь состоявшем из свободных художников – музыкантов, работавших сторожами, гениальных поэтов-грузчиков и невероятно одаренных интеллектуалов, вообще нигде не работавших, так, подрабатывавших там-сям, – приветствовалось свободомыслие с либеральным уклоном, остальную ересь терпели из уважения к свободомыслию первого сорта. И все же Сеню снисходительно принимали – пусть как единичное, но, тем не менее, материальное доказательство торжества плюрализма в порядочном обществе. К тому же Сеня считал Владимира Ленина слабым философом. Правда, Марка Шагала при этом считал бездарем, и никак не мог понять, почему сверхпопулярный рычащий Высоцкий, раскатывающий на «Мерседесе» по Европам, считается гонимым и обделенным. Сплошные неувязочки.
Моя история, которую нещадно перевирали, приписывая мне то любовницу-француженку, то любовника-поляка (и то, и другое считалось крайне лестным), наделала много шума, и я был окружен ореолом мученика, пострадавшего от гнета тоталитарного режима. Хорошим тоном было не шарахаться от меня, как это было принято в «совковом» обществе, а, напротив, горячо пожимать мне руку (плотный контакт с обреченной плотью изгоя – вот она, солидарность интеллигентов), внимательно вглядываясь в лицо с целью обнаружить на нем знаки начинающегося разложения. Отношение ко мне служило тестом на гуманность.
На сей раз Сеня, с которым мы вместе работали кочегарами («пыльная, но чистая работа», по его словам), был краток:
– Глобальная демократия породила феминизм – вот им же она и накроется. Мягким, женским.
Окружающие воспитанно сделали вид, что не расслышали бормотания юродивого.
Я же про себя зааплодировал, во-первых, походке Веры, а во-вторых, Сениной сентенции. Кажется, впервые, увидев женщину, я пожалел, что СПИД накладывает на мои отношения с прекрасным полом известные ограничения, продиктованные нравственными соображениями.
– Сеня, Шагал летит над Витебском в сторону черного квадрата или от него? – шепотом спросил я у Горба, благодаря его за смелость мысли и записываясь к нему в сообщники.
– Ты мыслишь в правильном направлении, – ответил Сеня. – В черную дыру, практически – жопу, которую эстетам угодно называть квадратом.
– Ведь он летит под музыку «Beatles», я правильно понимаю? We all live in the yellow submarine, не так ли?
– Истинно так. Эти четыре черных омарихуаненных кота, которым одновременно наступили на яйца (отсюда и вокал несравненный), славно лабают под Шагала.
– А ведь те же самые люди, которые восхищаются сказкой о голом короле, рукоплещут «Черному квадрату», пританцовывая под Битлов.
Второй раз за вечер я удостоился аплодисментов от Сени; такого признания от разборчивого кочегара-философа, как он сам мне поведал, заслужил только Шопенгауэр, которого я, признаться, откровенно недолюбливал.
Я вернулся домой и, вдохновленный глазами Веры, принялся писать, воплощать еще самому себе до конца неясный замысел трактата.
Заглавие мне понравилось сразу.
И разбег я взял нешуточный.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
1
Для разговора о Ф.М. Достоевском, одном из самых ярких и влиятельных русских писателей, необходимо создать теоретический контекст. Необходима культурологическая теория, целостно интерпретирующая личность и культуру. Я нахожусь в процессе создания такой теории; собственно, эта работа и представляет собой попытку сотворения того самого «теоретического контекста».
Художественный материал, подлежащий осмыслению, поражает своей броской оригинальностью. Так называемая «достоевщина» (употребляю это расхожее, надо признать, меткое определение не как ярлык с негативно окрашенной семантикой, а как совокупность качеств и свойств, присущих моделям писателя, как обозначение характерно достоевских идей и переживаний; отношение же к достоевщине – не личное наше пристрастие (личное пристрастие – это личные проблемы), а отношение, вытекающее из предлагаемого методологического подхода – мы будем определять не ярлыками, а всей логикой работы) оказала столь заметное воздействие на всю мировую культуру, что от «проклятой достоевщины» невозможно отмахнуться, как это позволили себе, скажем, корифеи эпитетов и метафор Бунин и Набоков. Царственный жест «нравится – не нравится» – это скорая расправа тех, кто не даёт себе труда подумать, кто не в силах преодолеть смутную и порывистую стихию эмоционального отношения, ту же достоевщину. Познавать художника способом художественным же, возможно, и эффектно, не исключено, что порой любопытно, но всегда глупо. Такое «познание» в лучшем случае сгодится как материал для познания «познающего», как, например, речь Достоевского о Пушкине, гораздо более говорящая о субъекте познания, нежели о несчастном объекте.
Механизм «достоевщины», при всей его антропологической «навороченности», достаточно прост в своих корнях и истоках. По существу, писатель специализировался на рассогласовании «отражений реальности» с реальностью как таковой, происходящем на поле сугубо психическом. Он пожертвовал духовно-физической гармонией, и даже простой нормальностью человека, дисгармонично выпятив психический компонент личности. Человек Достоевского – это человек переживающий, причём переживающий интенсивно, болезненно, замкнувшись параноидально на пунктике, которому он безо всяких на то объективных оснований склонен придавать чрезвычайное значение. Его героев не интересуют интриги социальных связей, они не получают удовольствия ни от еды, ни от нормальных душевных отношений, ни от любви или эротики, ни от ответственного мышления, они равнодушны к природе и людям – их волнуют и поглощают исключительно утончённые, зашкаливающие за грань нормы психические взлёты и падения, переживания ради переживания. Нездоровую крайность, свойственную, отчасти, всем здоровым людям, Достоевский превратил в свою золотую жилу.
Да, эта грань человека по-своему интересна, но главное – все эти фокусы с иррациональным элементарны. Психическая глубина – это псевдоглубина. Картинки и переживания поражают калейдоскопической избыточностью и вместе с тем однообразием «базовых моделей», которые лихорадочно расцвечиваются безудержными фантазиями, при этом неадекватность реальности обескураживающе очевидна. Содержание достоевщины – не реальность, а её психически-виртуальное замещение, поданное с особым, нервным градусом. Импульс надуманных переживаний выдуманных героев – не от реальности, а от первичных впечатлений по поводу реальности; переживания по поводу переживаний, фантомы по поводу фантомов – вот извилистый путь духовных исканий «философов» Достоевского.
Реальность достаточно проста, груба и пошла, она не предрасполагает к изощрённому эстетизму, хотя и не отторгает поэтизации как таковой, и даже поощряет здоровую идеализацию, которая приспосабливает к реальности (вспомним в этой связи тех же Пушкина и Л. Толстого). Всякого рода эстетизм всегда является детищем игрового, болезненно-психического отношения к реальности. Такого рода искусство, будь то романтизм или постмодернизм, всегда рождается в результате взаимодействия не с реальностью, не с миром объектов и предметов, а как итог взаимодействия с преодолённой, задвинутой, удалённой – вторичной – реальностью, итог подвига-сдвига воспалённого воображения. Повышенная психичность влечёт за собой концептуальную бессодержательность такого искусства. Оно самим механизмом творчества запрограммировано на легковесность, на абсолютизацию эстетизма, ибо когда нечего выражать, содержанием выражения становится само выражение.
Вот почему реализм (то есть искусство, моделирование реальности, ориентированное, вместе с тем, на познавательное отражение объективной действительности) – это больше, чем искусство: это деятельность моделирующего воображения, опирающегося, отчасти, и на противоположное моделирующему, научное отношение. Нереализм (в широком смысле), с точки зрения излагаемой теории художественного творчества, представляет собой чистое искусство, то есть собственно психическую деятельность, вырастающую из себя же, а не из реальности. Нет ничего удивительного в том, что реализм Достоевского стал предтечей вовсе «не реалистического» модернизма и постмодернизма. Внимание, уделяемое Достоевским болезненным психическим ощущениям и переживаниям, стало основой, на которой отрицается реальность модернизмом. А другой основы в природе не существует.
Вот почему Достоевский по «механизму» замещения реальности близок одновременно и дореалистическому нереализму (тому же романтизму) и постреалистическому сюрреализму (тому же модернизму).
Запад и Восток дружно удивляются: сколько всего пакостного и «святого» разглядел Достоевский в душе человека. А чему тут удивляться?
Удивления достойна неистребимость реалистической тенденции в искусстве, увенчанной явлением зрелого, классического реализма. Размывание же нормальной, здоровой тенденции – дело банальное. Психопатологические искажения, крайности психического экстремизма – это оборотная сторона отхода от реализма, это цена за утрату нормального, гармоничного склада личности. Если сосредоточиться исключительно на психике, на галлюцинациях, страхах и тревожных предчувствиях, то культ иррационального бреда благополучно приведёт только к отрыву от реальности.









































