Текст книги "Ковчег XXI"
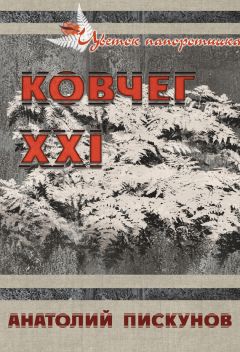
Автор книги: Анатолий Пискунов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
С возрастом
С возрастом уместнее икона, оберег, иной счастливый знак…
В оторопи утреннего клена чуткий зарождается сквозняк.
Ввысь он поднимается, срывает алого рассвета паруса.
Жаль, чудес на свете не бывает, но извечна вера в чудеса.
Душу тронет легкая досада, как порыв незримый ветерка.
Дрогнут белый свет и тени сада, и скользнут немые облака.
У костра
Всякий напрасный вздор сонно несет река.
Сладко хрустит костер косточкой сушняка.
Дрема глухой страны. Звезд надо мной не счесть!
Вызнать бы у луны, где я и кто я есть.
В темени далеко фара скользит лучом.
Думается легко. Вроде бы ни о чем.
Хрустальное утро
Утро сквозило кристальное.
Лужи трещали хрустальные.
Лес, до последнего листика,
в жесть переплавила мистика.
Так и забудутся летние —
травное великолепие
и безупречная пластика
в мелкой воде
головастика.
Венера
Дождь за окнами. Прохлада. Под охраной, в тишине
спит античная Эллада, улыбается во сне.
В зал войду, еще не зная, что пойму я наконец:
это вечности связная, это гения гонец
И растроганное зренье затуманится слегка,
лишь известное творенье вынырнет издалека.
Изменяются манеры и ваянья, и письма.
И прообразы Венеры обновляются весьма.
Паву высечет земную чья-то юная рука.
Только сердце ждет иную, пережившую века.
И понятнее, чем прежде, и заметней станет вдруг:
это памятник надежде без одежды и без рук.
Нет, она прошу прощенья, никакой не идеал.
Это веры воплощенье в неживой материал.
Славься, каторга исканий, вся в мозолях и в крови, —
та, что высекла из камня искру вечную любви!
Кто это выдумал
В. Митрохину
Кто это выдумал? Осени долгой свечение
все еще теплится в рощицах и между строк.
Облака белого неуловимо влечение.
Неба вечернего тихий, неясный восторг.
Золотом соткано знамя над всеми высотками.
Воздух такой, что не выдохнуть имя без слез.
Кто этот ловкий, кто вырезал озеро с лодками,
сладил сусальный багет из осин и берез?
Кем это создано и на мгновение созвано —
к сонному берегу вечности, кромке веков?
Тянутся тени к востоку легко, неосознанно,
и продолжается в кронах возня сквозняков.
Осенняя ночь
Ночь ходила смутная, глухая, для грехов удобная вполне.
Ударялась, чем-то громыхая. Колыхала космы по стене.
Дерево продрогшее стучалось то и дело в стылое окно.
Только почему-то не случалось то, чему случиться суждено.
Все лететь, наверно, не хотели, прятались, ленивые, вдали
легкие посланники метели – белые мохнатые шмели.
На пляже
Я начертал на зорьке письмена у берега морского на виске,
заветные вписал я имена мысками туфель на сыром песке.
Но солнце поднатужилось едва – и высох, и просыпался
песок.
Волна любовно гладила слова, за слогом перевеивая слог.
Пылает юг, и плавится восток, и запад распаляется в ответ.
И всем не до меня и не до строк – из тех, что перечитывал
рассвет.
Осенний курорт
Печаль забвенья в сквере, на газоне, печать ее на дамочке
с собачкой.
Курорт уже впадает в межсезонье, точнее именуемое
спячкой.
Ко сну приготовление включает в себя дежурный ужин
и прогулку
к ощипанному парку, переулку, большой воде, баюкающей
чаек.
Терзается вода, не замечая тебя, меня, хохлушек
с омичами.
Колеблется и слушает вполуха, о чем бурчит никчемная
старуха.
Судьба
Размечены пути в пространстве мглистом —
и в этом ушлом веке, и в античном…
Во Франции я вырос бы голлистом,
поскольку был де Голль харизматичным,
как дева Орлеанская, пожалуй.
В ее бы состоял я, верно, войске,
по-братски относился к ней, по-свойски,
хотя и преклонялся перед Жанной.
С воинственными взглядами своими
спартаковцем я стал бы в Древнем Риме.
Но если б невзначай ошибся классом,
то тут уж оказался явно с Крассом.
Тщеславие – примета не к добру, но
мы все мечту о подвиге лелеем.
И кажемся себе Джордано Бруно,
живя и умирая Галилеем.
Тепло
Безвестной воле повинуясь, оно на улицы вернулось.
Извне лилось и в мир текло телесно-нежное тепло.
И словно не было ненастья. Легки, ленивы сквозняки,
неуловимы, будто счастье, твоей касаются руки.
На воле
друзьям по перу,
В. Митрохину и Е. Винокур
Душе моей наскучили перила,
измучили оглобли, удила.
И вот она взяла и воспарила,
поскольку пару крыльев обрела.
Презревшая земного притяженья
привычную, обыденную власть,
она, едва над бытом поднялась,
почувствовала головокруженье.
Какая даль, чеканная, резная!
Свобода – без опаски не вздохнуть.
И кружится душа моя, не зная,
лететь ли ввысь, назад ли повернуть.
Времена
Где те века, что вытесаны в камне, —
грязны, необразованны, грубы?
А двадцать первый выкроен из ткани,
которой обиваются гробы.
Где время то, отлитое из бронзы?
В курганы улеглись его вожди.
Не воины теперешние бонзы,
но то же властолюбие в груди.
Где эра, громыхнувшая железом?
С кастетом и теперь она, с обрезом.
И гвозди для Христа и Спартака
куются и сейчас наверняка.
Своей эпохи кто из нас не узник?
Для новой веры нет оков и стен.
И сеют козни чьей-то телекузни
кресты и полумесяцы антенн.
Пусть разнятся иуды и герои,
одна на все столетия печать:
повязаны большой и малой кровью,
которую прогрессом величать.
Куст
Стоял – метла метлой, – облезлый, старый.
И вдруг воспрянул. И затрепетал.
Битком набитый перелетной стаей,
ночлежкой для нее, усталой, стал.
Оживший, как восточные игрушки,
покрытый шевелящейся листвой,
от самой нижней ветви до макушки
он был от удивленья сам не свой.
Внутри него ворочались, порхали,
менялись на уютные места.
Был вечер тот, наверно, эпохален
для темного сквозящего куста.
Приюта крест
нечаян был и тяжек.
Но прутья не посмели, не смогли
стряхнуть его – и никли до земли,
покачивая млеющих бродяжек.
Без ропота, унынья и корысти
с обмякшей стаей плыли в темноту.
И мнились осовелому кусту
лиловые увесистые кисти.
Непогода
Моросящего дня кабала,
ни заката тебе, ни восхода.
Безупречною осень была —
бездорожье теперь, непогода…
Сквозняками ходи по Руси,
раздувай парусами карманы,
деревянные свечи гаси,
окуная в тоску и туманы.
Золотые лампады круши,
приближая к седому пределу.
В нашем небе не стало души,
потому-то и холодно телу.
Выметай этот лиственный сор,
отзвеневший осенней сусалью.
Обезболивай сонный простор
холодов обжигающей сталью.
И крутись и вертись допоздна —
и замри на пороге с разбега.
Разъясняется даль. Тишина.
Предвкушение первого снега.
Поздняя любовь
Одежды дня кроит ирония, к лицу наряды палачам…
Твое дыхание неровное ловлю с тревогой по ночам.
При свете дня в обличье хана я – и груб, и холоден с тобой.
А ночью слушаю дыхание, пугаясь паузы любой.
Мольбы мои обычны в сумерках: не покидай меня, живи!
Считается все это в сумме как явленье позднее любви.
Сам по себе
Я сам по себе. И не ваш, и ничей.
Я беглый, как этот весенний ручей.
Свобода, свобода и только свобода —
от края оврага и до небосвода.
Рассыплется снег и пригреет едва,
как пустится в пляс молодая трава.
Кленовые почки возьмут и взорвутся —
и стайки, и строчки на зов отзовутся.
Я сам по себе. И ничей. И не ваш.
Весна это мой заполошный реванш.
На солнце земля сгоряча задымится.
В ночи соловей невзначай затомится.
И месяц потянется, легкий и тонкий,
чтоб мальчик полез целоваться к девчонке.
И ты непременно со мною поладишь.
Коль из-под скорлупки проклюнется ландыш.
Я сам по себе. Я почти что ничей,
тебя не считая, детей и врачей.
Еще не считая, конечно, внучат,
которые ножками в двери стучат.
Еще – моложавых, нержавых друзей,
которым пора к ротозею в музей.
Еще не считая
России и Крыма.
И жизни,
которая
неповторима.
Горизонт. Стихи 2001–2006 годов
Мать
Вначале было слово. Или голос,
которым слово произнесено.
Энергией любви напоено,
сквозь панцирь первозданный прокололось.
Так над собой выбрасывает колос
лелеянное почвою зерно.
То слово было с самого начала —
отсчет с него душа и повела.
В нем неизменно музыка звучала,
мелодия участья и тепла.
И становилась точною примета.
Затвердевали взгляд и ритуал.
И легкий абрис каждого предмета
значение и цвет приобретал.
В Начале было Слово. Это – правда,
ученых возмутившая придир.
…Узка плита, тесна ее ограда.
За ними ты, создавшая весь мир.
В коконе
Его качали в колыбели, когда темнело за окном,
и что-то ласковое пели, и что-то грустное притом.
Большие тени косолапо расхаживали по стене,
и керосиновая лампа плыла в заплаканном окне.
Осоловелыми глазами следил он, как над фитильком
легко приплясывало пламя дразнящим белым языком.
Считали ходики устало мгновенья тающего дня.
В стеклянной колбе трепетала душа пугливая огня.
Младенцу пели о красивом, что так далёко от избы,
и сладко пахло керосином в неясном коконе судьбы.
Пробуждение
Во тьме, в тепле душа мертвецки спит,
как зерна в почве, зноем изнуренной.
Но тут упрется в землю дождь ядреный,
вода живая душу окропит.
И вот уже без всякой проволочки
очнется жизнь в оплывшей оболочке.
Готова дерзко выстрелить ростком —
и в мир попасть, который незнаком.
Дождя! Грозы!..
Родник
Из-под корней, камней замшелых сочится крохотный
родник.
Из тьмы немыслимой пришелец на свет нечаянно проник.
Он тихо тычется в ладони слепым, доверчивым щенком,
и мир запруд, плотин и тоней ему пока что не знаком.
Еще не знает русла толком и так чиста его вода.
Но с каждым ливнем и притоком растет и движется туда,
где лозняки к волне приникли. Где солнце с ветром заодно.
Где стать ему рекой великой и к морю выйти суждено.
Туда, где ширь, тоска, свобода, закат огромен и суров,
и празден облик теплоходов, и хищен профиль крейсеров.
Оттепель
По площадям и перекресткам и с крыши каждой потекло.
Уличено в коварстве скользком асфальта мокрое стекло.
Пласты крупитчатого снега сосут, ветшая, теплоту,
и ртутный столбик без разбега берет апреля высоту.
Заборист воздух, как настойка. Но радость тем омрачена,
что это оттепель. И только. Ненастоящая весна…
Утро
Еще не слышно говора дневного.
И пасмурно, и тихо, и тепло.
Как будто утро взвешивает слово,
какое бы оно произнесло.
О месте – том осколке мирозданья,
чью пыль сейчас на обуви несем.
О времени текучем. Обо всем.
И каждый миг рассветного молчанья
заметен, осязаем и весом.
Мы движемся – летим или бредем, —
отдав себя дорогам и кликушам,
когда б остановиться и послушать
вот эту тишину перед дождем.
Счастье
От суеты большой вдали взрослели мы неторопливо.
Так вырастают корабли на грани неба и залива.
Мы той неспешностью терзались, как будто радость
это блиц.
О, деревень пустая зависть к огню бенгальскому столиц!
Повыжгло краски на планете, и синь повыцвела небес.
Мы чуда ждали, а на свете в обрез, наверное, чудес.
Нетерпеливые, спешили из отчих мест до самых звезд.
За нами шлейф тянулся пыли и прегрешений вился хвост.
О славе сладостно мечталось. Из вереницы тусклых дней
тянуло к мареву огней. Мы счастья ждали. Оказалось,
мы были счастливы, когда
металась чайка, размечала поставленные невода
и между сваями причала вздыхала, ерзая, вода.
Закат
Закат медлительный погас. Темнеют перья облаков,
и звезды светятся для нас сквозь толщу пыльную веков.
Стоит высокая луна, и веет скошенной травой.
На свете есть лишь ты одна. Мы не расстанемся с тобой.
Восходит вечность над землей и Млечным движется Путем
лишь оттого, что ты со мной, лишь потому, что мы вдвоем.
Звенят составы вдалеке, летя в неведомую тьму.
Твоя рука в моей руке, и сладко сердцу моему.
Мадонна
Поля истории во мгле. Но если честно разобраться,
то все, что было на земле, всего лишь смена декораций.
Идут века. И в тех веках живет усталая мадонна
и, стоя на крылечке дома, младенца держит на руках.
Не уяснили до сих пор мы и, может быть, поймем едва,
что бытие меняет формы, не изменяя существа.
Прикрыв махровым полотенцем тугой источник молока,
мадонна новая с младенцем на время смотрит свысока.
Закат во всем великолепии. Гляжу, взволнованно дыша.
Текут века, тысячелетия. Мадонна держит малыша.
После ненастья
К полудню плавно тучи разошлись.
Так театральный занавес отходит.
Открылись
ослепительная высь,
и даль, и капля каждая в природе.
Как славно, что ненастье позади.
Хотя тут ничего и нет такого,
но песня занимается в груди —
мелодия, сбежавшая от слова.
Воспел бы я, умей, конечно, петь,
окрестность и заоблачную область.
Я кисть бы взял, сумей запечатлеть
обласканную красками подробность.
Объяты солнцем улица и двор.
И даль ясна, и день такой хороший.
И перед самым домом косогор ликует,
одуванчиком поросший.
Выбор
Пасмурно. Тихо. Смеркается.
Впору понять и решить,
нужно грешить или каяться?
Каяться! Чтобы грешить…
В мае
В. М. Горюнову
Солнечно. И грустно отчего-то. В высь идя у мира на виду,
лемех серебристый самолета пухнущую тянет борозду.
Мне бы никуда не торопиться, не искать иных на свете
мест,
коли здесь невидимая птица теньканьем никак не надоест.
Я тут ничего не понимаю. Только разволнуется сирень,
если вдруг откуда-то по маю ласточки скользнет немая
тень.
Что же отзовется в сердце сладко? —
Птица, что в кустарнике поет?
Молнией мелькнувшая касатка?
Искоркой блеснувший самолет?..
Молодка
Покачивая бедрами, вышагивает с ведрами.
Пружинит коромысло, и напевчик легкомысленный.
По тропочке, по узенькой, восходит от реки.
Балдеют, как от музыки, юнцы и старики.
Идет она, не прячется, в селе – что в туфле гвоздь.
Горячим телом платьице просвечено насквозь.
Как будто слепнет, щурится на кралю местный сноб.
А где-то клохчет курица, и по спине озноб.
Июнь
Канва проселочной дороги. Колючки. Пыль. Чертополох.
Но если не глядеть под ноги, то этот путь не так уж плох.
Беспечен, зелен и восторжен, воркует мир со всех боков.
И нет возвышенней и строже похода летних облаков.
Стожары
Опрометчивая ночь. Обольстительная речь.
И себя не превозмочь, и тебя не уберечь.
Нет вины ли, есть вина, – это, в общем, все одно.
Заплатить за все сполна в нашей жизни суждено.
К электричке опоздать. В стороне блуждать чужой.
И Стожары опознать обмирающей душой.
В ред. 2003
В мире медленных ночей
В мире медленных ночей, где луна над головой,
то мне чудится: я свой, то мне кажется: ничей.
В мире малых скоростей засыпает шар земной.
То ль скрипучий коростель, то ли кто-нибудь иной
на листе и бересте ворожит над тишиной.
В мире милых мелочей, кукол, мишек и мячей,
засыпает детвора. Птицы спят – и мне пора.
Нездешний свет
Резкий нездешний свет в окна плеснулся, в лужи.
Лиц у прохожих нет, лишь первобытный ужас.
Ясно ли, почему рык исполинский грома,
блеск, изорвавший тьму, – сызмальства все знакомо.
Будто, бредя из снов и вековых становищ,
трубный издало зов стадо былых чудовищ.
Это пришла гроза, рвет на себе рубахи,
в наших ища глазах предков слепые страхи.
Как паникует мозг, если внезапно брошен
молнии ломкий мост между живым и прошлым.
В подземном переходе
Вверху июнь, горит закат. А тут, в подземном переходе,
безотносительно к погоде слепой колдует музыкант.
Безликой тьме наперекор, наперерез бегущей массе
толкнет лады незрячий мастер и первый выбросит аккорд.
Давай, болезный, жарче сыпь! Как тесно станет
разговорам,
когда высоким переборам добавят мужества басы.
Постой, прохожий, оглянись! В кругу тревог, забот, метаний
рванет безокий гармонист меха твоих воспоминаний.
Как будто в темном этом схроне ему, безглазому, светло.
Разбудит наигрыш гармони что в душах сонно залегло.
Напомнит давними словами, напевом, узнанным едва,
что песня, преданная нами, как родина, еще жива.
Менялись мы
Волнуясь, будто клубы дыма или полотнища знамен,
менялись мы неудержимо на лютом сквозняке времен.
Ничьих ошибок не прощали, обмана, плутовства, измен.
И лишь в себе не замечали неумолимых перемен.
Однажды с отстраненной точки в себя вглядимся,
чуть дыша.
В родной телесной оболочке чужая залегла душа.
Смерть актера
Актер умирал. Не мечом бутафорским заколот,
упав театрально и руки раскинув картинно.
Его добивали безденежье, старость и голод.
Известное дело, привычное ныне, рутина…
Актер умирал. Не на съемочной рухнув площадке,
чтоб охнули после, дивясь эпизоду расстрела.
Лежал на матрасе, как будто на мокрой брусчатке,
и запах мочи восходил от немытого тела.
Актер умирал. И совсем не в процессе старенья
таилась его преждевременной смерти причина.
Хотя навсегда изменились пространство и время,
себе изменить не сумел настоящий мужчина.
Актер умирал. Не на сцене, как это бывало,
к богам обращаясь, партеру, галерке, балконам.
Актер умирал – и сползало его одеяло
с последних иллюзий. По всем театральным законам.
Реквием
Памяти В. М. Кузнецова
Грубые трубы рыдали. Плакала пьяная медь.
Горе слепыми рядами строила строгая смерть.
Свежесть отваленной глины – запах отпетой беды.
Плыли печальные гимны, словно разорванный дым.
Залпы хрустели прощально. Будто, во мрак уходя,
резко рвалась и трещала тонкая ткань бытия.
Шаткая встала ограда из неживого венка,
чтобы колонной парада в небе пошли облака.
На Руси
На Руси как на Руси.
Паства та же. Те же боги.
На проселочной дороге
скучный дождик моросит.
Все как было. Все как будет.
Зыбкий ветер лужи студит.
Сотни верст исколеси —
на Руси как на Руси…
Кукушка
Я дома. Посажен в подушки. В окошке столетник с геранью.
Мне чудится голос кукушки. Я верю ее кукованью.
Ты вовсе не глупая лгунья, лесная гулена и врушка.
Ты помнишь? – Начало июня. Залитая солнцем опушка.
Тебя я просил не скупиться, и ты, не скупясь, куковала.
Столетье пророчила птица, вещунья лесного привала.
Не зря колдовала… В итоге спасибо хирургу Моздока:
в обмен на пропащие ноги не дал он загнуться до срока,
назначенного ворожеей крылатой из кукольной рощи.
Ведунья, скажи, неужели все было страшнее и проще?
Спасибо пернатой гадалке за скрип госпитальной каталки,
за ангела в белом халате, менявшего судна в палате.
Колдунья березовой сказки, бессмертие ты возвещала.
И лишь об одном умолчала. Насчет инвалидной коляски…
Руины
Угрюмо, хоть и солнечно, в руинах
обрушенного древностью дворца.
Гнездовье здесь испугов беспричинных,
змеящихся в бурьяне без конца.
Тут ящерки скользят неуловимо,
как тени торопливых облаков.
Легенда тут неясная хранима
в безмолвии плюща и лопухов.
Потугами земного притяженья
мгновения спрессованы в века.
Все кануло: пиры, балы, сраженья,
любовь, раздоры, горечь и тоска.
Забыты все: и кто воздвигнул стены,
и кто тут жил, и кто служил ему.
А что таится в шепоте растений,
известно только Богу одному.
И чудится, что кроме нас на свете
руины лишь и запах чебреца.
И вымощена плитами столетий
дорога без начала и конца.
Млечный Путь
Уютны летние потемки. Шумы вечерние негромки.
Фонарь зажегся на столбе. Я размышляю о судьбе.
Над холостяцкою закуской о благе думаю, о зле.
Недобрый гений мысли русской, мостится водка на столе.
Грущу о времени бегущем и звезд изогнутом ковше.
О том, что сумерки все гуще в окне вечернем и душе.
О полосе туманно-млечной, где блещет и моя звезда.
Седой тропе, рутинной, вечной, из ниоткуда в никуда.
Горизонт
Когда-то буду хром. Возможно, глух.
А может быть, еще к тому ж и слеп.
Оглянешься – захватывает дух
от бездны, простирающейся вслед.
Хотя глядишь назад как будто вниз, поверь,
тут восхожденье ни при чем.
Я знаю, что житье не альпинизм,
не шастанье с котомкой за плечом.
Пусть кажется, что пропасти озон
остуживает голову и грудь, —
увы, горизонтален этот путь.
И так недосягаем горизонт.
Поезд
На юг шальной и север строгий, усталый запад и восток
несут железные дороги ковчеги веры и тревог.
Пугая сосны и сирени, сквозняк зеленый поездов
летит сквозь чахлые деревни к перронам ветхих городов.
Плывут огромные просторы, бездумно внемля голосам
и ритмам тем, что поезд скорый диктует сонным небесам.
И вновь на каждом перегоне из запыленного окна
вся наша жизнь как на ладони во всех подробностях видна.
Мы здесь от самого рожденья. И нет ли нашей тут вины,
что полосою отчужденья мы от земли отделены.
Неугомонные колеса твердят без устали вопрос,
чьи судьбы там летят с откоса и долгим будет ли откос.
И ничего не изменить! В вагоне храп, и мат, и пьянство.
Звенит путей стальная нить, сшивая время и пространство.
На малой родине
Нам есть чем с однокашником седым за долгую разлуку
поделиться.
На кухне, как бывало, посидим, и за полночь общение
продлится.
Я выйду к загустелым небесам, извечному глубокому
покою.
Взгляну _ и не поверится глазам: я родину не видывал
такою.
Я не призна́ю родины своей! Луна переиначивает сушу,
струится Млечный Путь, и соловей отводит песнопениями
душу
Протяжное дыханье сквозняка затронуло созвездия
и травы.
И слышно, как незримые составы пронизывают полночь
и века.
Родина
Волнуются полуночные клены.
Светильники сквозят через листву,
и тени, содрогаясь изумленно,
терзают мостовую и траву,
прижавшуюся к извести заборов.
Хоронят осовелые дворы
невнятные обрывки разговоров
и вопли запоздалой детворы.
Прохожие встречаются все реже.
Все тише, все безлюдней в городке.
Последнего трамвая звон и скрежет
уносятся, стихая вдалеке.
На захолустной улочке зеленой,
где я душой, наверно, до сих пор,
усталые ворочаются клены,
ведя со сквозняками разговор.
Ни горечи не ведаю, ни гнева,
избавлен от сумятицы дневной.
Теней ночных подрагивает невод,
удерживая скользкий шар земной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































