Текст книги "Фамильная реликвия"
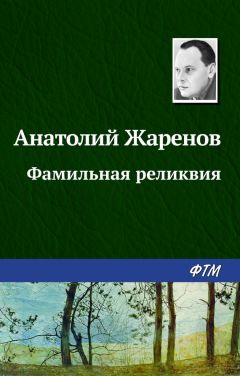
Автор книги: Анатолий Жаренов
Жанр: Повести, Малая форма
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Разговор за столом, естественно, вертелся вокруг Лиры Федоровны. Говорила, впрочем, преимущественно мама, а Валя сидела задумчивая. Когда чаепитие закончилось и мама унесла посуду на кухню, Валя сказала:
– Женщины совершают иногда очень странные поступки…
– Вы имеете в виду Лиру?
– Не только. Не знаю, поймете ли вы то, о чем я подумала.
– Я постараюсь, – пообещал я шутливо. Но Валя шутить была не расположена. Она окинула меня долгим взглядом, потом посмотрела на дельфина, словно прося у него совета.
– Женщина всегда чего-то ждет, – сказала она после непродолжительной паузы. – От жизни, от любви. Ее почти никогда не удовлетворяет существующее положение вещей. Очень часто это просто неосознанное ожидание, совершенно безотчетное. Она объясняет себе его иногда неустроенностью быта, еще чем-нибудь… Иногда даже не пытается объяснить… Но ждет всегда.
– В общем «Сказка о рыбаке и рыбке», – сказал я.
– Нет, – сказала Валя. – Скорее о Золушке и Принце. Только с той разницей, что обретенный Принц перестает быть таковым.
– Занятно вы рассуждаете.
Валя пожала плечами.
– Я знала, что вы меня не поймете, – сказала она равнодушно.
– Понять нетрудно, – возразил я. – А вот принять… Разве в мире нет счастливых женщин?
– Может быть, и есть, – сказала Валя. – Но не все женщины откровенны, как я. Считайте, что вам повезло, вы услышали искреннее признание. Я хотела вам помочь…
– Помочь?
– Да. Вы же хотите понять Лиру. Вы пришли посмотреть на ее вещи. Вы знаете, что вещи могут многое рассказать о своем владельце. Кроме того, вы хотели убедиться, стоят ли эти вещи того, чтобы человек о них беспокоился. Я угадала?
– Вполне.
– Но я не все показала вам.
– Чтобы помочь, так сказать. Это мне нравится, – заметил я саркастически.
Валя сарказм игнорировала.
Она смотрела на дельфина…
Я тоже посмотрел на дельфина…
И когда я стал кое-что понимать, Валя сказала:
– Это ведь только в сказке Принц дарит Золушке хрустальные башмачки. И только в сказке он ищет Золушку. В жизни может быть и наоборот – почему бы самой Золушке не поискать исчезнувшего Принца?
– Она искала?
– Она молчала, – сказала Валя. – Но я видела, что она ждала. Когда она жила у меня, эта фотография висела у нее над кроватью. Потом она приходила поглядеть на нее.
– Значит, Астахов…
– Астахов? – Валя как-то странно усмехнулась. – Для Лиры он был чем-то вроде лекарства от неврастении.
– Да, – протянул я. – Откровенно, ничего не скажешь.
– Вините себя, – сказала Валя. – Помните скамейку над озером? Вы тогда требовали от меня предельной откровенности. Я намекала вам, что копаться в чужом белье просто неприлично. Но вы оказались настойчивым человеком. Что ж, сегодня я предоставила вам такую возможность. А вы опять чем-то недовольны.
– Вашу аллегорию о Золушке и Принце к делу не подошьешь.
– А я и не хочу, чтобы еы ее подшивали, – сказала Валя, подчеркнув голосом последнее слово.
– Почему?
– Потому что не хочу. Я не могу утверждать: «У Лиры кто-то был… До замужества… До Астахова…» Не могу, потому что не знаю.
– Я, между прочим, вас за язык не тянул.
– Ах, оставьте, – сказала Валя. – И позвольте вам не поверить. Вы, как акула, ходите возле меня по кругу. Вам кажется, что я что-то скрываю, чего-то недоговариваю. Лира решила уволиться, уехать, и вы идете ко мне и требуете от меня объяснений. А мне нечего сказать. Нечего… Но ведь вас такой ответ не удовлетворит. Вам опять будет казаться, что я что-то утаиваю… Лира не явилась на похороны, а объясняться должна я. Она куда-то умчалась, а вы идете ко мне. Найдите ее в конце концов. Вы же умеете это делать. Или врут романисты и журналисты, когда пишут о ваших подвигах?
Она помолчала недолго, потом вздохнула:
– Хотя… Зачем это все?
Я поднялся с дивана и снял дельфина со стены…
Перевернул фотографию…
Надписи на обороте не было…
Дельфин хорошо смотрелся со стены, и я вернул его на прежнее место.
– Романисты не врут, – сказал я Вале. – Но они пишут романы, а мы с вами живем. Романисту в принципе известно, куда идут его герои, а книгу жизни пишет сама жизнь. Мы, конечно, найдем Лиру. Это, в общем-то, вопрос времени. Мне показалось, что с вашей помощью поиск можно ускорить. Я ошибся. Бывает и такое. Ну а что касается акулы…
– Я не хотела вас обижать.
– Понимаю, – сказал я. – Мысль об акуле вам внушил дельфин.
– А вам? – спросила она. – Вам он ничего не внушил?
– Служба не позволяет, – сказал я, решив, что Вале совсем не обязательно знать о том, какие мысли владели мной в этот момент. Валин Принц и худощавый брюнет из Ялты уж очень ловко слились в одно лицо. Золушка нашла Принца, и этим следовало объяснять все ее странные поступки. На первый план снова выступала любовь, а уголовщины будто и не было.
Сказав много, Валя, в сущности, не сказала мне ничего…
И Сикорский мне ничего не сказал…
И пивопивец Дукин, воткнувшийся в дело, как палка в колесо…
И десятки других людей, которые тоже что-то говорили, а потом подписывали свои показания, которые садились, вставали, улыбались, морщились, удивлялись; которые злились, что их отрывают от работы по пустякам, или, наоборот, отводили душу, перемывая косточки ближним своим. Десятки людей – и пухлая пустота папок на столе у Лаврухина.
Я вышел от Вали, когда часы показывали одиннадцать. Валина мама просила заходить, но голос ее звучал сухо, а глаза смотрели холодно. Я в общем-то понимал ее. А вот с дочкой, как думалось мне, все обстояло сложнее. Мне показалось странным, что за весь вечер Валя не задала мне того вопроса, какой я, будь на ее месте, задал бы обязательно. Я, еще собираясь к Вале, придумал ответ на него, но вопроса не последовало. Валя не спросила, почему мы так упорно занимаемся Лирой Федоровной. Больше того. Она отнеслась с полным пониманием к моему желанию узнать о Лире побольше. Правда, при этом она заметила, что я обращаюсь не по адресу, что о Лире должна рассказать сама Лира. Но сказка о Принце, которого ждут, была выдана мне ведь не за хорошее поведение. Или Валя и в самом деле хотела помочь мне и поэтому поделилась своими сомнениями. Или она знала о Лире что-то такое, что, по ее мнению, мне знать не полагалось, но поскольку я был настойчив и вел себя, как акула, учуявшая мясо, то надо было срочно заткнуть акулью пасть подходящим к случаю суррогатом. Точно так же поступил со мной и Сикорский. Не желая беседовать о Лире, он ведь и о старике Бакуеве заговорил лишь после моего намека о поисках какого-то клада этим атеистом-дарвинистом. Да и о княгине Улусовой он, собственно, сказал лишь то, что я уже знал.
Я медленно шел по темной улице – Валя жила далеко от центра, в новом районе города, где все еще было вздыблено, – шел мимо куч строительного мусора, мимо неподвижных бульдозеров, притаившихся подобно допотопным чудовищам; шел, старательно отыскивая дорогу среди ям, каких-то канав, прорытых поперек проезжей части; шел, поругивая Валю, но думая не о ней, а о своей жене, о своей семье. Если Валя права, думал я, то и у моей жены есть какой-то Принц, который совсем не похож на меня, который вообще ни на кого не похож, какой-то бесплотный призрак, которого и нет вовсе, и черт его знает, что он такое: не то ожидание с большой буквы, не то томление по несбывшемуся, не то мечта о каком-то недостижимом, но возможном счастье. И если Валя права, то этого счастья я своей жене не смогу дать никогда – между нами стоит Принц и будет стоять всегда, потому что такова уж женская психология, потому что Принц обретенный уже не Принц, а муж, которого надо кормить, на которого надо стирать и у которого дьявол знает какой ужасный характер, дрянная профессия и вообще он не сахар, а совсем наоборот.
А почему бы и мужу в таком случае не помечтать о Принцессе?
Я остановился возле штабеля теса, спрятавшись от ветра, зажег сигарету.
Кто-то, шедший сзади, тоже остановился. Хрустнула щепка, зашуршала, осыпаясь в канаву, земля.
И стало тихо…
Я мгновенно забыл о Принцессе. И подумал о Вале. Потом я вспомнил пивной павильон, коротышку Дукина и то мимолетное ощущение взгляда в спину, которое показалось мне тогда просто игрой воображения. Я никому не сказал об этом – ни Лаврухину, ни Бурмистрову. Не сказал потому, что не поверил своим ощущениям, своему шестому чувству, которое, в сущности, и не чувством было, если разобраться, а так – чем-то средним между интуицией и способностью прогнозировать, чем-то подсознательным. После удара по голове я все время ощущал, что хожу рядом с преступником. Убийца Вити Лютикова знал меня, а я его нет.
Я обогнул штабель остро пахнувших смолой досок и замер прислушиваясь.
Тишина, темь…
Померещилось, что ли? Или стоит сзади меня испуганный ночной прохожий? Боится нечаянной встречи с неизвестным. Валя? Но какой смысл Вале следить за мной? Нет в этом никакого смысла.
Так кто же там стоит, в темноте? Прохожий? Или убийца?
Подманить его не удастся. Он уже понял, что я его почуял. Если я пойду вперед как ни в чем не бывало, вряд ли он клюнет.
И я пошел назад…
Он тоже пошел назад…
Я побежал…
И он побежал…
Я понимал, что эта ночная погоня среди куч строительного мусора, машин и груд кирпича обречена на провал. У него было преимущество знания. Он знал, куда бежит, он знал дорогу. А я бежал вслепую, мне приходилось часто приседать, чтобы увидеть мелькавшую на фоне неба темную фигуру преследуемого, чтобы хоть как-нибудь сориентироваться…
Через пять минут все было кончено. Неизвестный исчез.
Я вернулся к дому, в котором жила Валя. Окна квартиры на втором этаже еще светились. Я поднялся на площадку и позвонил. Открыла Валя. На ней был тот же брючный костюм, на ногах красные домашние тапочки.
– Вы? – голубые глаза смотрели холодно и отчужденно. Дыхание было ровным. Впрочем, это еще ни о чем не говорило: у меня оно тоже выровнялось.
– Кажется, я забыл у вас свой блокнот. Коричневая книжечка…
– Вы его не вынимали, – сказала Валя, пристально глядя на меня.
– Спасибо, – сказал я. – Похоже, вы правы; я его не вынимал. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – сказала Валя.
И дверь захлопнулась.
«Кто же это был?» – раздумывал я, шагая мимо неподвижных бульдозеров и куч строительного мусора. Свет во многих окнах уже был погашен, и дорогу отыскивать стало еще труднее.
Убийца Вити Лютикова знал меня, и он был в городе – он не стремился никуда удирать. Тут все логично. Мы об этом не раз говорили с Лаврухиным. Удрав, преступник сразу выдал бы себя, потому что он не был человеком со стороны, каким-то заезжим гастролером или бывшим уголовником.
«Не та компания подобралась, – рассуждал Лаврухин, постукивая кончиками пальцев по стопке папок со свидетельскими показаниями. – Согласен со мной, Зыкин?» Я только коротко кивал в ответ. Не вписывались в эту компанию «иксы» со стороны, ходил убийца Вити Лютикова среди фигурантов дела, ходил и, быть может, посмеивался. Хотя… Тот же Лаврухин считал, что убийство Вити больше смахивает на акт отчаяния. В тупике оказался убийца, когда увидел, что я потянулся к альбому. И еще шутил Лаврухин, поддразнивал: «Может, и не было альбома, может, помстился он тебе, Зыкин?»
Но ведь звонил кто-то Вале Цыбиной, интересовался альбомом…
Вале…
Опять Валя…
«Спроси ее».
Я ее спрашивал. Она отвечала. Она говорила, что выбрала тропинку покороче, ушла через сад.
А не мог убийца ее припугнуть?
Принц… Она жила с Витей, а мечтала о Принце, который вдруг оказался убийцей. А может, не он ее припугнул; может, увидев его над трупом Вити, она испугалась и убежала. Или убийца испугался? И это меня спасло.
Но почему же она не закричала?
Потому что Принц? Да нет, не годится. Через неделю убийца позвонил Вале и спросил про альбом. Принцу ни к чему было спрашивать…
Осторожно открыв своим ключом дверь, я вошел в темную квартиру. В кухне на плите стояла сковородка, накрытая крышкой. На столе под полотенцем я обнаружил стакан кефира, хлеб, сыр. Рядом лежал раскрытый том Драйзера. Это могло означать только одно – жена ждала моего прихода.
Я жевал остывшую жареную картошку и без любопытства, автоматически глядел в книжку. «Американская трагедия». Клайд Грифитс. Клайд Грифитс обвинен в убийстве. Клайд Грифитс, так страстно жаждавший красивой жизни. Но злоключения Клайда не волновали меня. Я жевал холодную картошку и уныло думал о том, что дела мои плохи. Немного дал мне сегодняшний вечер. Совсем немного…
Часть третья
– Каково, а?… Преступница!.. Моя дочь – преступница! Ты слышишь, Томочка? Почему ты молчишь, как Валаамова ослица?
Федор Васильевич Казаков ртутным шариком катался по комнате. Его жена сидела в кресле, уставив отрешенный взор куда-то вверх. Бывший актер, о котором до этой встречи я знал только со слов Лаврухина и Пети Саватеева, оказался на удивление подвижным и довольно крепким стариком, несмотря на нездоровую полноту и мешки под глазами. А Томочка была худенькой, этакой субтильной старушкой с букольками, присыпанными серым пеплом прожитых лет. Федор же бегал молодцом и рыкал, словно лев в пустыне. И одышка не мучила. И трость ему вроде бы и не нужна была.
В углу стояла трость. Черная лакированная трость с резиновым набалдашником. Я ее даже в руках подержал. Нет, не похоже было, что гуляла эта трость по чужим головам. Но ведь и другую палку можно было взять в руки, думал я, глядя на трость, на Казакова, на его Томочку…
А Казаков витийствовал…
Да, витийствовал Федор Казаков – другого слова тут, пожалуй, и не подобрать. Петя Саватеев, правда, употребил более современную формулировку. «Старик любит выступать», – сказал он. Я бы добавил к этому, что старик еще любит играть в «перевертыши». Сознательно или бессознательно, не знаю, но он отбирал у слов и понятий смысл, присущий им изначально; он опрокидывал этот смысл, искажал, и в результате получалось что-то чудовищное, иногда глупое, а иногда и вовсе кощунственное. Валаамова ослица прославилась тем, что однажды заговорила, а Казаков спрашивал: «Почему ты молчишь, как…» Фраза: «Моя дочь – преступница!» – в устах Казакова звучала гордо, он произносил ее так, как если бы говорил: «Моя дочь – космонавт!» Валя Цыбина как-то обмолвилась, что отец у Лиры с «приветом». Но это было слишком прямолинейное и примитивное определение. Лаврухин считал, что Казаков «заигрался», что сорок лет ежевечерних перевоплощений не прошли для него бесследно. Актер вошел в образ, сотканный из обрывков ролей, из черточек характеров; Казаков не был ни Фальстафом, ни Тартюфом, ни Шмагой, но в нем было что-то и от Фальстафа, и от Тартюфа, и от Шмаги, и от десятков других персонажей, жизнью которых он жил на сцене. И от каждого он оставил что-то себе, оставил безотчетно, бездумно; просто оно само сначала впечаталось в мозг, а потом растворилось в личности Казакова.
Федор Казаков витийствовал. А Томочка, Тамара Михайловна, старушка с седыми буклями, молчала. Порой мне казалось, что и она далеко не все понимала в происходящем. Но ей было легче: Томочка знала, где кончается актер и начинается муж. Я был лишен этого преимущества, хотя и не завидовал Томочке: одно дело – смотреть спектакль в театре и совсем другое – жить в спектакле. Томочке приходилось жить. И Лирочке когда-то тоже, думал я, следя за эволюциями Казакова, который снова начал бегать по комнате и кричать…
А Тамара Михайловна молчала.
Томочка, Тамара Михайловна, старушка с седыми буклями. В юности она тоже стремилась на сцену, но не вышло из нее ни инженю, ни великой трагической актрисы. Родилась Лирочка. В сороковом году родилась Лирочка-Велирочка. А в сорок первом началась война, и театр в Заозерске перестал функционировать. Муж ушел на фронт, а Тамара Михайловна выучилась стучать на машинке. И так и стучала до пенсии, до седины в буклях, и под этот стук умирали в ней и Дездемона, и Мария Стюарт, умирали не воплощенные, не открытые, не сыгранные.
Так думал я, так мне казалось. Может быть, я неправильно думал, может, все обстояло не так, может, все было проще – без вздохов, сожалений и слез. Но когда Тамара Михайловна была Томочкой, ей очень хотелось сыграть Дездемону. Об этом она сказала сама, сказала, когда я рассматривал афиши, которыми были обклеены стены гостиной. Афиш было много, они назойливо мельтешили в глазах, они вызывали внутренний протест, потому что они превращали стены жилья в некое подобие забора; они кричали, кричали каждая о своем, мешали, противоречили, отрицали друг друга, спорили друг с другом. И в то же время эта красочная разноголосица сплеталась в некий рисунок, всматриваясь в который внимательный наблюдатель мог бы увидеть много интересного. Я уже не говорю о том, что в афишах, как в зеркале, отражалась история нашего городского театра. Любопытно было бы проследить, например, за тем, как из года в год менялся репертуар. Но так как я не был театроведом, то я этой целью не задавался. Я просто смотрел, смотрел и слушал, что мне говорила Тамара Михайловна. Мне пришлось с полчаса слушать ее и глядеть на афиши, потому что самого Казакова не было дома, когда я пришел; а мне нужен был он или по крайней мере я думал, что именно он нужен мне. Я так и сказал Тамаре Михайловне, и она повела меня в гостиную и стала показывать афиши и говорить о театре, о своих несбывшихся желаниях, о Дездемоне, которую ей когда-то хотелось сыграть, но сыграла Дездемону не она, а какая-то Надеждина.
Тамара Михайловна даже показала мне эту Дездемону – Надеждину, она показала мне также и другие фотографии, только себя она не показала, потому что роли у нее были маленькие, проходные, а вот у Надеждиной роли были что надо, отличные роли, чего нельзя сказать о самой Надеждиной, пустой в общем-то женщине и бездарной актрисе. Я слушал и не слушал Тамару Михайловну. Я смотрел на ее изрядно потертое временем лицо и думал о том, что есть чувства долговечнее любви. Здорово ненавидела Тамара Михайловна эту Надеждину. Она пронесла свою ненависть через годы, и чувство ее не только не замутилось, оно сверкало, как кристалл, в лучах воспоминаний.
Я слушал и не слушал Тамару Михайловну. Мне не было дела до ее неудач, до той самой Надеждиной. И невдомек мне было, что именно в этот момент передо мной приоткрывалась шкатулка с семейными тайнами. Невдомек мне было, что стоило только покопаться в ларце, и я бы понял, кто убил Витю Лютикова и почему, собственно, возникло темное дело, которым мы занимались.
Мне бы почитать афиши, мне бы послушать Тамару Михайловну, посочувствовать ей, позволить ей утонуть в воспоминаниях… И может быть, тогда произнесла бы она заветные слова, и я пришел бы к Лаврухину с ключом в руках.
Но, может, и не произнесла бы она заветных слов. Это сейчас мне кажется, что стоял я рядом с разгадкой. А тогда…
Тогда я просто дожидался Казакова. Мне хотелось взглянуть на него. Посмотреть на выражение его лица… Прикинуть, способен ли он бегать в ночное время по умеренно пересеченной местности…
Мне показалось, что он способен. А выражение лица… Что ж, оно мне ни о чем не сказало…
Сначала на его лице было написано негодование. Он догадался, кто я такой. Он швырнул палку в угол, шариком прокатился по комнате и закричал:
– Что, телеграмма? «Да, сэр, я все это сделал. Вот я и ответил».
Из какой пьесы он выдернул «сэра», мне было неведомо. О телеграмме я его не спрашивал. Поэтому и изумился неожиданному признанию. Старик, до сих пор отрицавший причастность к телеграмме, вдруг заявил о своем авторстве, да еще с какой-то торжественностью. Было чему удивиться. Ведь я впервые встретился с Казаковым и еще ничего не знал о его привычке ставить все с ног на голову. Впрочем, удивление не помешало мне поинтересоваться, из какого источника сведения о смерти Астахова поступили в распоряжение Федора Васильевича в тот самый день, когда случилось это прискорбное происшествие. Федор Васильевич моментально прекратил кружение по комнате и грозно спросил:
– Что?
– В телеграмме говорилось, что Астахов умер, – сказал я. – Откуда это стало вам известно?
– Что? Откуда? Послушай, Томочка, он спрашивает – откуда? Он ничего не понимает, каково, а?
И Федор Казаков снова начал бегать по комнате и кричать, что мы надоели ему с этой проклятой телеграммой, надоели, надоели, надоели… Надоели, как…
Тут он споткнулся, не найдя подходящего сравнения, приостановился и буркнул:
– Вот так.
Слова Фальстафа. Шекспир. Виндзорские насмешницы.
– А как все-таки? – поинтересовался я. – Посылали вы дочери телеграмму или нет?
Упоминание о дочери подействовало на него, как красная тряпка на быка. Казаков простер длань и продекламировал:
– Моя дочь?… Каково, а?… Преступница!.. Моя дочь – преступница! Ты слышишь, Томочка? Почему ты молчишь, как Валаамова ослица?…
Томочка молча смотрела в потолок, всем своим видом показывая, что ей крайне нежелательно уподобляться Валаамовой ослице. Ей, видимо, было известно, что любая попытка внедриться в монолог мужа, прервать его обречена на провал. И она благоразумно не вмешивалась в разговор, который, впрочем, и разговором нельзя было назвать, потому что Казаков не давал мне и слова сказать, а когда я все-таки умудрялся вставлять реплику или вопрос, то в ответ получал лишь пренебрежительный взгляд. Казаков вскрикивал: «Ты слышишь, Томочка?» – и все начиналось снова: беготня, шум, мелодекламация. Я ушел от Казаковых, не выяснив и сотой доли того, что хотел узнать, ушел с чувством, которое, может быть, и нельзя было назвать подозрением, но уверенность в том, что от меня хотели скрыть нечто важное, такая уверенность у меня появилась. Так я и доложил Лаврухину, едва переступив порог его кабинета.
Лаврухин примерял новые очки. Оправа была позолочена, стекла соединялись не только обычной дужкой, но и какой-то странной перекладиной.
– Как вторая ручка у чайника, – заметил Лаврухин, трогая пальцем перекладину. – Но красиво. Ты не находишь?
– В ней нет целесообразности, – сказал я, усаживаясь. Мне было жарко, воротничок рубашки лип к шее, и вообще после разговора с Казаковым я чувствовал себя идиотом.
– А может, мы ее просто не замечаем? – предположил он задумчиво. – Ну-ка повтори, что там тебе старик нажужжал.
Я повторил.
– Да, – проворчал Лаврухин. – Значит, мы по-прежнему не знаем, почему дочь ушла из семьи, почему разбежалась с мужем… Придется, видно, тащить сюда доцента Наумова. Кстати, и о коллекции княгининой потолкуем. Я вот все думаю, чего ради Сикорский заговорил с тобой об этой княгине…
– Не он со мной, а я с ним заговорил о княгине. Ну и к тому же ему очень не хотелось говорить о Лире Федоровне. А меня, как понимаете, воспоминания детства одолели, старичка Бакуева вспомнил. Ну и пошло слово за слово.
– Выходит, ты его спровоцировал?
– Можно и так сказать… Но учтите, выложил он, в общем, то, что мы уже знали. И после того, как я ему кое-что выдал из нашего запаса для затравки.
– Да-а-а, забавное дельце. – Лаврухин снял очки, положил их перед собой, полюбовался и снова нацепил на нос. – Весьма. С одной стороны, мелодрама сплошная – разводы, любовь неразделенная, то да сё… С другой – убийство, бегство и даже слежка. Ну зачем, окажи на милость, следить-то за тобой, Зыкин? Кино какое-то, честное слово.
– Скрытая целесообразность, – хмыкнул я. – Вторая ручка у чайника.
Лаврухин промолчал. Я подумал и решил, что будет совсем неплохо, если я поделюсь с ним кое-какими мыслями по поводу этой самой слежки. Мне пришлось углубиться в историю вопроса, вспомнить свой давний разговор с Петей Саватеевым, когда он допытывался, почему все-таки меня не отправили на тот свет вместе с Витей. Он искал смысла, но мне тогда Петины рассуждения казались чересчур отвлеченными, несерьезными и даже чуть-чуть глуповатыми. А сейчас я был почти уверен, что он попал в самую точку.
– Это как же? – спросил Лаврухин.
– Очень просто, – сказал я и объяснил, что если бы меня убили тогда, то о существовании альбома знал бы только господь-бог. А поскольку Лаврухин является атеистом, то он этого свидетеля на допрос не потащил бы. И призрак альбома не фигурировал бы сейчас в качестве наводящей детали в этом, как только что выразился уважаемый Павел Иванович, забавном дельце. Нашел бы он в кармане у Вити золотую бляшку, и пошло бы следствие…
– В общем, не знаю, куда бы оно пошло, – сказал я. – А бляшку эту, между прочим, мог и убийца всунуть Вите в карман.
– Ну, это еще не факт, – сказал Лаврухин. – Это еще доказать надо. Но мысль у тебя любопытная.
– На авторство не претендую, – сказал я скромно. – Идея целиком Пети Саватеева.
– Значит, ты считаешь, что убийце помешали, – произнес Лаврухин задумчиво. – У меня тоже мелькало что-то такое, но в связи с Цыбиной. А она в этот вариант не влезает.
Да, в этот вариант Валя Цыбина не влезала. Ее не пускало время. Когда я пришел к Вите в мастерскую, было десять с четвертью. Стукнули меня минут через пятнадцать, а Валя в десять сорок уже была на работе. В десять сорок у входа в театр Валю встретил главный режиссер и, поглядев на часы, упрекнул за опоздание. За десять минут от дома Лютиковых до театра можно было добраться только на машине. А это мало вероятно.
Мы согласились, что совсем уж фантастикой отдает и от другого варианта, в котором Вале отводилась роль убийцы. Женщина она, конечно, хладнокровная и спортивная. Кроме того, любит сказки рассказывать. Но в этом варианте она оказалась в цейтноте.
– Если, конечно, отбросить машину, – сказал я.
– И любовь, – сказал Лаврухин. – Ты говоришь, что она повесила Витину картину над кроватью, так?
– Так.
– Н-да, – протянул Лаврухин. – Значит, говоришь, убийце помешали. Намеки такие в деле имеются. Кто-то вроде из дома выбегал: то ли девка, то ли парень. Но куда же оно делось, это существо? Все Витины дружки-приятели передо мной прошли – и никаких подтверждений.
– Я подтверждение, – сказал я.
Лаврухин усмехнулся.
– Не подтверждение, а допущение. И спаситель твой предполагаемый тоже допущение. Ты из чего исходишь? Альбом – важная наводящая деталь. Но ведь пока она нас ни на что не навела…
– Все впереди, – бодро возразил я. – Может, еще и наведет.
Но бодрость моя была наигранной, и поэтому фраза прозвучала фальшиво. Я знал, что на допущениях далеко не уедешь.
И Лаврухин знал…
Портрет княгини сохранился неважно – краска на углах облупилась, но лицо можно было рассмотреть. Приятное молодое лицо с налетом некоторой таинственности или задумчивости. Печальное даже лицо, если вглядеться повнимательней. И почему-то оно показалось мне знакомым. Словно мы с княгиней Улусовой встречались когда-то, да вот забыли об этом и теперь смотрим друг на друга и вспоминаем – она с печалью, а я с любопытством.
Когда портрет доставили в кабинет Сикорского, он установил его на стол рядом с бронзовой избушкой-пепельницей и сказал улыбаясь:
– Ну вот…
Продолжать фразу он не стал, но мне все было понятно и так. «Ну вот, – прочитал я его улыбку, – говорил же я вам, что спать не будете и аппетит потеряете».
В кабинете, кроме нас с Сикорским, сидел доцент Наумов. Прямо с аэродрома мы с ним поехали в управление, посидели у Лаврухина, потом пообедали и отправились в музей. Доцент Наумов выглядел, как справедливо заметила в свое время Валя Цыбина, скорее толстым, чем худым, и был шатеном, а не брюнетом. Вежливый, корректный человек, он сначала выразил легкое недоумение по поводу вызова, а потом, когда я в нескольких словах обрисовал ему ситуацию, кивнул понимающе и сказал, что всегда готов помочь, только он не знает, к сожалению, какого рода помощь он может оказать следствию. Я этого тоже не знал, и поэтому предоставил инициативу Лаврухину. Павел Иванович поступил просто: извлек из сейфа три предмета – книжку с приключениями капитана Хватова, фотографию неизвестной дамы, которая была обнаружена нами в книжке, и золотую бляшку, называемую брактеатом. Все вещи Лаврухин разложил на столе и попросил Наумова поделиться с нами впечатлениями от этих раритетов. Доцент полистал книжку и, произнеся слово «дешевка», отложил ее в сторону. Фотографию он рассматривал несколько дольше, но в конце концов пожал плечами и заметил, что скорее всего в заведении Коркина снималась какая-то санкт-петербургская мещаночка. Брактеатом Наумов занялся в последнюю очередь. Полюбовался всадником, изображенным на лицевой стороне, и между делом прочитал нам популярную лекцию об оссуариях и зороастрийцах, словом, о том, о чем мы уже слышали от Сикорского. Потом он перевернул бляшку. И у него сразу вытянулось лицо, едва он увидел надпись:
«С любовью. А. В.»
Наумов прошептал: «Неужели?» – и посмотрел сперва на меня, потом на Лаврухина. Посмотрел так, будто его кровно обидели, оскорбили. Да, такой взгляд был у Наумова, когда он шептал свое «неужели?». Лаврухин поиграл очками, ожидая новых слов от доцента, но Наумов этих слов не произнес.
– Знакомая вещичка? – полюбопытствовал Лаврухин.
Наумов положил брактеат на книжку и отрицательно качнул головой.
– Нет, – сказал он уныло. – Эту вещичку я не видел никогда.
Он подчеркнул слово «эту». Лаврухин спросил осторожно:
– Тогда что же?
Доцент Наумов погрузился в задумчивость. Его лицо стало похоже на лицо человека, готовящегося к прыжку в водоем, глубина которого ему неизвестна.
Наконец он прыгнул…
– Мне знакомы инициалы, – сказал он. – Но и только…
– Расскажите, – предложил Лаврухин. – И желательно поподробнее.
Но Наумов не торопился вдаваться в детали.
– Я видел эти инициалы на портрете княгини Улусовой. Вы слышали что-нибудь о Бакуеве?
Мы о Бакуеве слышали.
– Тогда вам должно быть известно, что накануне смерти Бакуев где-то раздобыл портрет юной княгини, исполненный неизвестным художником.
– Почему – накануне? – спросил Лаврухин.
– Бакуев был вздорным стариком, – сказал доцент, подумав. – Но он был общительным человеком. Так по крайней мере характеризовали его те, кто знал. Жил он в общем-то скверно, не заботясь об удобствах. Имущества у него никакого, в сущности, не было. Стол, железная койка, пара табуреток да два солдатских котелка. Ну и еще бумаги. Он переписывался с музеями, архивами и с частными лицами. Чего там только не было. Я видел даже…
Наумов вдруг засмеялся.
– Невозможно поверить, – сказал он, – но я читал его заявку, которая называлась «О добыче серебра из человеческих волос». Бакуев вполне серьезно предлагал организовать сбор волос в парикмахерских страны на предмет извлечения из них серебра химическим путем. В этом весь Бакуев. Но вот что. удивительна. В своих предположениях и проектах он всегда отталкивался от вероятного. Вздор начинался уже после. В посылках Бакуева легко можно было найти рациональное зерно. Он не тащил свои прожекты с потолка, но превращал в абсурд все, к чему прикасался.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































