Текст книги "Фамильная реликвия"
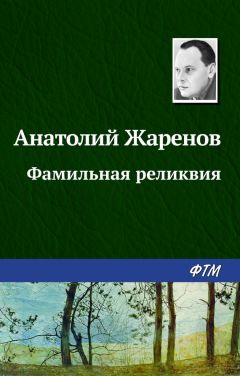
Автор книги: Анатолий Жаренов
Жанр: Повести, Малая форма
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Наумов умолк на секунду, и я воспользовался паузой.
– А Сикорский говорил мне, – возразил я, – что Бакуев всегда исходил из неверных посылок.
– Сикорский – рационалист, – сказал Наумов, нахмурясь. – У него холодный ум скептика. Но мы, кажется, отвлекаемся.
– Да, – кивнул Лаврухин. – Мне тоже это кажется.
– Вопрос в том, – сказал Наумов, – что считать верной посылкой? И как к ней относиться. Добыча серебра из волос – абсурд. Но следы серебра в волосах обнаружить легко.
Бакуев исходил из верных посылок, но пришел к неверным выводам, так считал Наумов. Это, впрочем, не помешало Бакуеву раскопать где-то портрет княгини. Он был общительным человеком и не делал тайны из своих поисков. Он чуть не каждый день бегал в редакцию местной газеты и делился с сотрудниками своими открытиями. Над ним посмеивались, его не принимали всерьез. А он искал. Он бы и портрет, пожалуй, притащил в газету, он раззвонил бы о находке, он бы кричал о ней на всех перекрестках. Но…
– Он умер от радости, – сказал Наумов. – Бывает, что люди умирают от радости.
Лаврухин усмехнулся. Он знал, что и не такое бывает.
А Наумов неторопливо рассказывал:
– Бакуев явился в Заозерск по следам княгини Улусовой, которая будто бы заезжала в город перед тем, как покинуть Россию. Нам же известно, что она сюда не заезжала и никакими родственными узами с Заозерском не была связана. Однако Бакуев был уверен в противном. Какими-то неведомыми путями к нему в руки попала часть переписки княгини с одной из ее подруг. Датированы письма были 1912, 1914 и 1917 годами. Три письма. В двух первых обычная женская болтовня, перечень светских новостей, а третье было какое-то отчаянное. И послано оно было, судя по содержанию, уже с границы. И вот в нем-то и упоминался Заозерск. Улусова писала, что покидает родину с тяжелым чувством, что она растеряна, уничтожена, раздавлена…
Наумов сделал паузу, потом продолжил:
– Короче говоря, в письме была фраза: «Ты знаешь, Натали, что все мое осталось в Заозерске. Все, что представляет для меня ценность, я оставила там. Поняла я это только сейчас. Как жаль, что ничего нельзя вернуть».
– Эти письма сохранились? – спросил Лаврухин.
– Не знаю, – медленно произнес Наумов. – После смерти Бакуева все его бумаги были переданы в музей. Там я и знакомился с ними.
– Ну а эта Натали? – поинтересовался Лаврухин. – Бакуев с ней не встречался, часом?
– Он искал ее в Москве, но Натали была уже на кладбище. Попала под бомбежку в сорок первом.
– Да, – пробормотал Лаврухин, постукивая пальцами по столу. – Иных уж нет, а те далече…
Наумов вздохнул. Глаза у него были добрые, собачьи глаза, бархатные. Влажный бархат. А губы твердые, решительные, резко очерченные. И сухие. «А ведь он волнуется», – подумал я, заметив, что доцент изредка проводит по губам кончиком языка. Лаврухин это тоже заметил. Но причина волнения была нам не ясна. Может быть, доцент волновался потому, что впервые оказался в кабинете следователя. Может, повод был другой. Он начал нервничать, когда разговор зашел о письмах княгини к этой неведомой Натали, которая жила когда-то давно, так давно, что, казалось, ее и не было вовсе, что ничего не было – ни княгинь, ни коллекций. А если что и было, так оно давно поросло кладбищенской травой.
Казалось…
– А вы? – усмехнулся Лаврухин. – Что толкнуло вас в ряды последователей этого старичка? И почему вы отказались от поисков?
– Возможно, потому, что я был молод и глуп тогда, – сказал Наумов задумчиво. – А отказался… Отказался, когда убедился в безнадежности предприятия. Теперь же… – Он помолчал недолго. – Теперь я начинаю убеждаться в обратном.
Наумов указал глазами на золотую бляшку.
– Вы все-таки поясните нам, – медленно произнес Лаврухин, – в чем тут дело? Насколько я понимаю, все эти вещи к коллекции княгини отношения не имеют. Так же как и портрет.
– Вещи – да, – сказал Наумов. – Но инициалы на брактеате… Они указывают на человека, который имел отношение к княгине. И видимо, этот человек занимал в ее жизни немалое место. Кто этот «А.В.»? В свое время я пытался это установить, но безуспешно. Сейчас я склонен предполагать какую-то романтическую историю…
Я демонстративно вытащил из кармана пачку сигарет и щелкнул зажигалкой. Я постарался щелкнуть погромче. Я был сыт по горло романтическими историями. Только их, романтических историй полувековой давности, не хватало, думал я, старательно окуривая Лаврухина.
Но оказалось – не хватало…
Я рассматривал портрет княгини. Буковки «А. В.» на полотне отсутствовали. Облезла краска с углов портрета, облупилась. И писем княгининых в музее не было. Сикорский мобилизовал весь свой немногочисленный штат на розыски этих писем. Но увы. Не пришлось мне увидеть ни писем, ни бакуевского трактата об извлечении серебра из волос. И в описях бакуевские бумаги не числились.
– Странно, – сказал Сикорский, когда последняя из искавших – хмурая женщина в сатиновом синем халате – доложила ему, что «серой папочки нигде нет». – Странно, – повторил он. – У нас никогда ничего не похищали.
Он стоял посреди кабинета, сосредоточенно вглядываясь в портрет. А Наумов, как мне показалось, приободрился, услышав о пропаже документов. В музей он шел неохотно. Он, правда, согласился отправиться туда, когда Лаврухин выступил инициатором похода за руном, как он выразился, подразумевая, вероятно, бакуевский трактат о волосах. Аргонавтом был назначен я. И ясно видел: что-то не нравилось нашему гостю из Караганды в идее этого похода, но что именно, я не знал, хотя предположение на сей счет у меня имелось. Я полагал, что Наумову не хочется встречаться с Сикорским. Ведь между ними стояла Лира Федоровна. И хоть оба они были оставлены в дураках, поскольку Лирочка-Велирочка предпочла им сперва Астахова, а потом анонимного брюнета, или сперва брюнета, а потом Астахова, тем не менее у Наумова и Сикорского были причины если не враждовать, то просто дуться друг на друга. Так я понимал это. Потом, правда, выяснилось, что я не все понимал, но тогда мне казалось, что я рассуждаю правильно. Впрочем, это не помешало мне наблюдать за Наумовым и заметить, что его обрадовало исчезновение бакуевских бумаг. Он сделался общительным, повеселел, от его унылого настроения не осталось и следа.
Зато помрачнел Сикорский. Он даже накричал на своих сослуживцев, которым, как он выразился, ничего нельзя доверить, которые спят на ходу… Ну и все такое прочее. Все, что обычно говорят в таких случаях руководители проштрафившимся подчиненным. Прав он был или нет, трудно судить. В описях-то серая папочка не значилась. Она как бы и не существовала вовсе. Я намекнул Сикорскому на это обстоятельство, но он понял меня буквально и сказал, что папочка существовала, он ее видывал не раз, и Наумов ее видывал, и даже работал с нею, а то, что она не числится в описях, то тут его вины нет: документы поступили в музей, когда директорствовал Ребриков, и занести их в опись тоже должен был Ребриков. Но Ребриков этого не сделал, вероятно, потому, что не придал серой папочке никакого значения.
– А инвентаризации? – спросил я. – Разве их после Ребрикова не было?
– Отчего же, были, – ответил Сикорский равнодушно. – Но я подписывал готовые акты. Создавались комиссии, в них входили представители управления культуры…
– Занятно, – сказал я, пытаясь представить, как воспримет эту новость Лаврухин. – А вы не помните, когда видели эту папочку в последний раз?
Сикорский потер лоб и надолго задумался. Наумов смотрел на портрет. Я тоже бросил на него взгляд и во второй раз подумал, что где-то я с этой женщиной встречался. Но так как это было практически невозможно, то я постарался выкинуть дикую мысль из головы и повернулся к Сикорскому.
– По-моему, – сказал он медленно, – эта папка попадалась мне на глаза совсем недавно. С месяц назад, возможно. Что-то мы делали в запаснике.
Он вышел на минуту и вернулся с той самой хмурой женщиной. Она уже успела снять пыльный халат и предстала теперь перед нами в мешковатом зеленом платье.
– Вероника Семеновна, – сказал он строго. – Вот этот товарищ, – Сикорский кивнул в мою сторону, – из уголовного розыска. Его интересует, давали ли вы ключи от запасника Астахову, когда он у нас работал?
Вряд ли Сикорский был телепатом. Но сориентировался он правильно. Он предугадал мой вопрос. Правда, у меня было два вопроса, потому что я сначала спросил бы о Лире Федоровне. Я спросил бы, не давала ли ключи Астахову Лира Федоровна? Оказалось – не давала. Ключами ведала Вероника Семеновна, которая глядела на меня не то чтобы испуганно, но как-то странно глядела, с какой-то потаенной опаской, что ли, и я подумал, что чувство это вызвано вовсе не тем, что Вероникой Семеновной заинтересовался уголовный розыск. Вероника Семеновна уже давала показания Лаврухину. Но то были другие показания. В них говорилось о Лире Федоровне; тогда не было речи ни о ключах, ни о серой папочке. Сейчас вопрос ставился конкретный. И ответ на него последовал тоже конкретный.
– Астахов держал кисти и краски в запаснике, – сказала Вероника Семеновна.
– А ключи? – нетерпеливо произнес Сикорский. – Ключи вы ему давали?
– Я открывала и закрывала дверь. Я никогда…
Вероника Семеновна всхлипнула, не докончив фразы.
Что ей оставалось делать?
Ходил в музей милый веселый человек – художник. Рисовал портреты передовиков для краеведческого отдела. Шутил, комплименты делал Веронике Семеновне, хоть любил, правда, другую женщину. Вероника Семеновна понимала – другая женщина помоложе была, ей и карты в руки. Да и детки у Вероники Семеновны, и муж. Но все-таки приятно, когда тебе по утрам комплименты говорят. И хмурость твоя, и озабоченность повседневностью словно в сторону уходят после комплиментов. И цвет лица лучше становится. И причесываешься ты дольше обычного, и думаешь, что и имя у тебя красивое – Вероника… Да, Вероника Семеновна, открывали вы дверь запасника, художник по утрам краски брал, а по вечерам обратно ставил. И лежала в том запаснике серая папочка, наполненная бакуевским вздором, о котором все давно и думать забыли. Лежала, пылилась. В архив ее не отправили, потому что вздор. И в описи не занесли. По этой причине или по какой другой? Инвентаризации ежегодные проводились. А папочка лежала себе, и никто ее не замечал. Чудное дельце, если подумать. Папка-невидимка. Хотя… Почему невидимка? Наумов с ней работал, Сикорский с месяц назад видел. Значит, не погребена была папка, на поверхности лежала. А ключи от запасника у Вероники Семеновны были. Хранительница…
Допустим, стащил эту папку Астахов. Допустим, что показала ему ее Лира Федоровна. Или рассказала про нее. Про мужа своего бывшего рассказала, про то, как муж клад княгинин искал. И про то, как искать перестал. Мало ли какие сказки рассказывают нынешние Шехерезады своим калифам. Приходящие Шехерезады. Приходящие вкусить лекарства от неврастении, приходящие с Принцем в голове и с пустым сердцем…
Нет, не сходятся концы с концами. Не тот калиф. И Шехерезада-Лира не похожа на соучастницу. Отделяй, Зыкин, любовь от уголовщины, ищи границу, беседуй с Вероникой Семеновной, выясняй, Зыкин, обстоятельства исчезновения серой папочки, сходи в запасник, осмотри его, составь протокол и подшей к делу. Чепуха какая-то получается у тебя, Зыкин. Сначала исчезает альбом, который тебе захотелось полистать, теперь вот папка с документами, которые никому не были нужны, да вдруг понадобились. Что ты, собственно, ищешь, Зыкин? Что ты хочешь от Вероники Семеновны, от Сикорского, от Наумова, от Лиры Федоровны, наконец? Кто-то ходит за тобой, Зыкин, кто-то от тебя убегает. Казаков перед тобой скоморошничает, Дукин в друзья набивается, Валя Цыбина про Золушку и Принца сказки рассказывает… А может, все дело в Лире? Вот только где она? Ждут ее в окошечке «до востребования», на К-9, ждут, когда она заглянет, попросит проверить, нет ли корреспонденции для Наумовой. Ждут ее… Ищут…
Что же получается у тебя, Зыкин? Не версия ли? Симпатичная версия складывается у тебя в голове, Зыкин. Не видел ты, Зыкин, правда, никогда персидских миниатюр, но ты же неглупый человек и представляешь, что это за штука и сколько эти миниатюры могут стоить. А если и не представляешь в полном объеме, так спроси. И Наумов и Сикорский назовут тебе цену коллекции, они-то уж ее знают; знают, сколько нулей надо поставить после единицы, – может, четыре, может, пять. А пять нулей после единицы – это не фунт изюму, такое и по золотому займу за один раз не выиграешь. За эти пять нулей можно и вещички бросить, вещички, нажитые за время беспорочной службы, за эти пять нулей можно и трудовой книжкой пожертвовать, а для отвода глаз письмо в почтовый ящик бросить, и заявление об увольнении подать. Отвечайте мне «до востребования», а я тем временем…
Да, симпатичная версия, но лезут в нее трое. Это как минимум. Один – здесь, два – там. Там – брюнет и Лира, а здесь – убийца, который должен замести следы. Но не слишком ли большая на него падает нагрузка? Пожалуй, слишком. В таком случае не годится твоя версия, Зыкин. Громоздкая она, неуклюжая, усложненная. И Астахов с Лютиковым в нее не хотят помещаться.
Как-то проще все должно быть.
А княгиня в Заозерск не приезжала. И предметы, которые нашлись в квартирах Астахова и Лютикова, и портрет музейный, и предметы, которые не нашлись, альбом, скажем, – все это указывает не на княгиню, а на какого-то «А.В.» На княгиню указывает лишь портрет, который этот «А.В.» написал. Но написал – это одно, написал – не значит вручил. И бляшка золотая, которая «С любовью», не обязательно должна была в руки княгини попасть. Мало ли кому эту самую любовь адресовать можно.
И выходит в итоге, дорогой товарищ Зыкин, что предположение твое о единице с пятью нулями трансформируется в большой вопросительный знак.
– Вероника Семеновна, вот акты инвентаризаций, вот ваша подпись. Объясните, как случилось, что в них нет упоминания об этой папке с документами?
– Инвентаризации производились по описям. Мы их брали за основу и сопоставляли с наличием.
– И что же?
– Не знаю.
– Но вы знали о существовании этих документов?
– Их не было в описях. Но я знаю…
– Почему эта папка не попадалась на глаза членам инвентаризационных комиссий? Неужели никто никогда о ней вас не спрашивал?
– Никогда.
– Вы не находите, что это выглядит… Ну не совсем естественно, что ли? Вы лично эту папку когда-нибудь держали в руках?
– Держала.
– Заглядывали в нее?
– Все заглядывали. Товарищ Наумов тоже.
– Астахов этой папкой интересовался?
– Нет, никогда.
– Лира Федоровна?
– Со мной она об этом не говорила.
– Кто имел доступ в запасник?
– Все. Только… Только ключи всегда со мной. И я…
– Да.
– Я несу персональную ответственность за сохранность фондов. В запаснике есть очень ценные вещи…
– Тем не менее Астахов складывал там краски…
– Он попросил разрешения. Так было удобнее. Не надо бегать через двор. Кроме того, в сарае было холодно, надвигалась зима.
Надвигалась зима… Астахов возник на горизонте Лиры Федоровны зимой. А за полгода до этого Лира Федоровна рассорилась с мужем. Серая папочка тогда лежала на месте. Наумов с ней работал открыто. Но чья-то рука заботливо оберегала эту папочку от взглядов членов инвентаризационных комиссий, кому-то не хотелось, чтобы папка попадала в описи. Ну-ка, Зыкин, тряхни хронологией. После Бакуева за музейный штурвал взялся Ребриков. Было это в пятьдесят седьмом. Ребриков – друг Наумова. И это, кажется, все, что пока о нем известно. Все ли? Ребриков был толковым организатором. Систематик. Это он смыл побелку с первородного греха. И это он толкнул Наумова на поиски княгининой коллекции. Систематик. Почему же он, этот систематик и аккуратист, не запротоколировал серую папочку? Считал ерундой? Может, и так. Но зарубить этот вопрос на носу тебе, Зыкин, нужно. И Ребрикова поискать нужно. Потому что началась эта мистика с папкой при Ребрикове. Ни Лиры Федоровны, ни Сикорского, ни тем более Астахова здесь тогда не было. Был Наумов. А Вероника Семеновна была?
– Сколько лет вы работаете в музее, Вероника Семеновна?
– С пятьдесят седьмого года.
«Значит, была»…
Так, Зыкин. Кажется, наступила пора сказать «пока» Веронике Семеновне, пожать руку Сикорскому и отправляться отсюда с Наумовым, который явно настроен потолковать с тобой. Наедине потолковать, без свидетелей. Он умный мужик, этот Наумов, он смекнул, куда я шагнул, когда заинтересовался трудовым стажем Вероники Семеновны, сообразил, что этим вопросом я и к нему адресовался.
Но чему он обрадовался, когда услышал о пропаже бакуевских бумаг?…
– Я не переношу насмешек, – сказал Наумов, когда мы уселись на скамью в сквере, отойдя от музея шагов на триста.
Портрет княгини, завернутый в газету, лежал между нами. Наумов потрогал сверток и бросил на меня испытующий взгляд, проверяя, видимо, впечатление. Я сказал беспечно:
– Это свойственно всем.
– Я их не переношу, – повторил он. – Я понимаю шутку, я принимаю легкое подтрунивание, но я не выдерживаю холодной язвительной насмешки. Я не могу встать выше, я взрываюсь.
– Вы не одиноки, – заметил я равнодушно. Я никак не мог взять в толк, зачем он говорит мне это. Я ждал от него других слов, я еще думал о Веронике Семеновне, о серой папке и о странном поведении доцента, испытавшего нечаянную радость, когда Вероника объявила о том, что «папочки нигде нет». Мне понадобилось некоторое усилие, чтобы сообразить, что Наумов завел вовсе не абстрактный разговор, что своей короткой фразой о нетерпимости к насмешкам он уже объяснил мне все: и нежелание идти в музей, и последующую смену настроения. Но понял я это лишь спустя время. Я, к примеру, сразу догадываюсь, о чем идет речь, когда жена, придя домой на обед, объявляет с порога, что сегодня у нее «страшно много работы». На ее языке это означает, что посуду придется мыть мне. Но то жена, с ней мы как-никак привыкли обходиться без переводчика. А с человеком, которого ты увидел впервые, этот номер не проходит. Не прошел он и с Наумовым, понимать которого я стал лишь тогда, когда он заговорил о Лире Федоровне.
Заговорил, впрочем, не сразу. Сначала он рассказал мне кое-что о Ребрикове, который, по неточным данным Наумова, жил сейчас в соседнем областном центре. Наумовская оценка не разошлась с той, какую дал Ребрикову Сикорский. Это был Человек, Который Умеет Налаживать Дело. Не будучи сам узким специалистом, Ребриков тем не менее умел создавать ситуации, в которых узкие специалисты могли работать с полной отдачей. Он был способен вдохнуть душу в самое, казалось бы, безнадежное предприятие. Так вот и случилось, что музей, влачивший прежде жалкое существование, при Ребрикове преобразился. В музее прочно поселилась История. Оказалось, что у Заозерска интересное прошлое и что жили в городе интересные люди. Об этом, конечно, было известно и до Ребрикова. Но то были, как выразился Наумов, распыленные знания. Теперь они стали концентрироваться в музее…
Разговор стал мне надоедать. Я вытащил сигарету и начал неторопливо разминать ее, наблюдая за юрким воробьем, который целился поклевать табачные крошки, но никак не мог решиться подобраться к моим ногам.
– Я понимаю, – сказал Наумов. – Предисловие затянулось. Но думаю, вам будет полезно узнать, как случилось, что мы с Ребриковым заинтересовались княгиней.
Так. До сих пор вопрос трактовался однозначно – интерес представляла не княгиня, а ее коллекция. И не для Ребрикова, а только для Наумова, поскольку Ребриков коллекцией не интересовался. А тут вдруг: «Мы с Ребриковым».
– Я не оговорился, – сказал Наумов. – Да, мы с Ребриковым. Или, чтобы быть точным, Ребриков заинтересовал меня. Все началось с фресок…
– С каких фресок? – недоуменно спросил я.
– С церковных фресок, – сказал доцент, – с живописного рассказа о сотворении и грехопадении человека.
– Божественный комикс?
– Да, – усмехнулся Наумов. – Комикс… Комикс… Он повторил последнее слово несколько раз, словно хотел обкатать его, потом заметил:
– А вы наблюдательный человек.
– Благодарю.
– Нет, в самом деле, – продолжал доцент без улыбки. – Безвестный художник восемнадцатого века был гениальным человеком…
Я вздохнул обреченно.
– Послушайте, – сказал я. – Восемнадцатый век. Не слишком ли далеко мы уехали?
Он считал, что не слишком. Он растолковал мне, что фрески в нашем музее – явление уникальное, поскольку на них представлена обнаженная натура; что нужна была большая смелость, чтобы отойти от традиций, от плоской иконописи к объемному изображению, да еще улыбнуться при этом, улыбнуться умно, тонко, не оскорбляя чувств верующих, но и предоставляя им полную возможность оценить юмор ситуации, в какой оказались Адам и Ева после вкушения яблочка познания…
Наумов выбрался из темноты столетий в наш благоустроенный двадцатый век в тот момент, когда я затаптывал в песок третий окурок. Там, в сумраке, остался неизвестный художник. А здесь вновь возник Ребриков. В пятьдесят седьмом году Ребриков прочитал студентам института, в котором учился Наумов, лекцию об истории Заозерска и попутно сделал сообщение об открытии фресок. У Ребрикова родилась мысль смыть побелку. А замазывал фрески вовсе не Бакуев, замазаны они были еще в двадцатые годы. Церковь в ту пору использовалась под зерносклад.
– Музей перевели в это здание сразу после войны, – сказал Наумов. – Ну а Бакуеву, как вы знаете, было не до фресок.
Мне тоже было не до фресок, но я твердо решил дать Наумову возможность выговориться и поэтому терпеливо выслушал рассказ о том, что когда была смыта побелка, то оказалось, что фрески двухслойные, что Адам и Ева выплыли из мелового тумана не обнаженными, а одетыми; но одежда была очень непрочной; что портной, который ее шил, был парнем смекалистым и употребил для драпировки фигур специальные краски, легко смываемые, ибо понимал, что к чему и что почем…
Я терпеливо выслушал все и спросил:
– Ну и что?
– Меня это заинтересовало, – сказал Наумов. – Словом, Ребриков увлек меня…
– Сделал вас «другом музея»…
– Это плохо? – спросил доцент, уловив в моей реплике иронию.
– Нет, почему же, – сказал я. – Это не плохо, но несколько отдает самодеятельностью.
– Другого выхода не было, – сказал Наумов. – Приезжие специалисты потолкались в музее, поспорили, покричали и… Только их и видели. Они-то понимали, насколько трудна задача. Ну а мы уразумели это позднее, когда стали поднимать архивные материалы, искать имя художника…
– Подождите, – прервал я его. – Все это очень интересно, конечно, и ваш энтузиазм, и благородные побуждения можно только приветствовать, но…
Он улыбнулся, поднял прутик и начертил им на песке две буквы: «А. В…»
– Вот что мы нашли, – сказал Наумов, поигрывая прутиком.
Они переворошили горы бумаг. Они искали имя художника, но не нашли ничего, кроме глухих указаний на то, что фигуры на фресках были задрапированы вскоре после их написания по распоряжению синодальных властей. Они искали имя творца фресок, а нашли только инициалы «А.В.», разбросанные там и сям на документах. Этот «А.В.» имел привычку помечать таким способом интересующие его места. Сначала они не обращали внимания на это своеобразное нотабене, но так как оно назойливо лезло в глаза именно там, где встречались упоминания о фресках, то они стали кое о чем догадываться.
– Он прошел по тем же следам гораздо раньше нас, – сказал Наумов. – Понимаете?
Не понять было бы трудно. Какой-то неизвестный «А.В…» шел по следам вовсе уж неизвестного художника, жившего в восемнадцатом веке. Только мне-то это понимание было вроде ни к чему. От «А.В.» нити тянулись к портрету княгини, к золотой бляшке и обрывались. От «А. В.» тянулись и другие нити, тянулись в восемнадцатый век и тоже обрывались. Это был другой роман…
– Но, может быть, ему удалось, – высказал осторожное предположение доцент.
– Может быть, – флегматично отозвался я. Может быть, этому «А. В.» и удалось проникнуть в тайну, запрятанную в глубине столетий. Но нам-то от этого не легче. Правда, по Наумову, выходило, что он наткнулся на «А. В.», копаясь в архивных документах. По моим же сведениям все это выглядело несколько иначе, и я сообщил об этом доценту.
Реакция была неожиданной. Наумов умолк на секунду, стегнул по скамейке прутиком, который продолжал держать в руках, и бросил отрывисто:
– Всем им казалось, что я клад ищу. И Веронике этой, и Сикорскому, и даже… И даже моей жене.
И даже его жене… Лирочке-Велирочке, которую в пятьдесят седьмом году никому бы не пришло в голову назвать Лирой Федоровной. В пятьдесят седьмом студент Наумов даже и не знал, что живет в Заозерске девочка Лирочка, девочка-десятиклассница, девочка с рыженькими косичками, которые она укладывала венцом вокруг головы. В тогдашней ее жизни были у Лирочки две заботы – срезать косички и не срезаться на приемных экзаменах в Московский университет. Косички она срезала сразу после выпускного вечера в школе. А в августе срезалась и на экзаменах в Москве. На будущий год она повторила попытку и опять потерпела неудачу. В пятьдесят девятом Лирочка поставила планку на более низкую отметку – подала заявление в Заозерский пединститут. Эту высоту она взяла.
А студент Наумов в том далеком пятьдесят девятом готовился стать аспирантом. В свободные от занятий часы он рылся в архивах. Разрешение имелось – помог, конечно, Ребриков. Любил он всем помогать, этот Ребриков.
Студент Наумов стал аспирантом.
Студентка Лирочка пока еще никем не стала.
И пути их пока еще не пересеклись.
А время отщелкивало годы. Шестидесятый, шестьдесят первый, шестьдесят второй, шестьдесят третий… Аспирант Наумов за эти годы успел сдать кандидатский минимум и стал доцентом Наумовым. Студентка Лирочка готовилась к выпуску. Она была не прочь остаться в аспирантуре, но от нее это не зависело. Студентке Лирочке была уготована другая будущность – ей предстояло стать сельской учительницей.
Ах, как ей этого не хотелось…
В шестьдесят четвертом, накануне выпуска, Лирочка обратила внимание на доцента Наумова. Произошло это не в институте, а на квартире у Казаковых, куда доцента Наумова привели бакуевские бумаги…
У меня были неверные сведения. Так, по крайней мере, заявил доцент. Все эти годы – с пятьдесят седьмого по шестьдесят четвертый – бакуевские бумаги вкупе с портретом княгини лежали в музее без движения. Насколько было известно Наумову, ими никто не интересовался. До весны шестьдесят четвертого, до теплого апрельского дня, который Наумов запомнил. В этот день Ребриков завел его к себе в кабинет и сказал: «Смотри». И Наумов посмотрел. Сначала в печальные глаза княгини, потом на улыбающегося Ребрикова, потом проследил за пальцем директора, которым тот указывал на уголок портрета. В уголке чернели буквы; «А.В.». А на столе лежала серая папочка. Ребриков вручил ее Наумову, присовокупив лаконично: «Чем черт не шутит. Полистай эту абракадабру».
– Бакуев вел какой-то своеобразный дневник, – сказал Наумов, поигрывая прутиком. – Последняя эдпись бросилась мне в глаза. «Сход. к К. Акт. театра. Год рожд. дев. пятый». Была и дата. Запись эту он сделал за два дня до смерти.
Доцент для наглядности изобразил запись на песке у наших ног.
– Что бы вы сделали на моем месте? – спросил он.
Я засмеялся.
– Наверное, сходил бы к К. В этой записи довольно много информации.
– И она толкуется однозначно, не правда ли?
– Пожалуй, – согласился я, всматриваясь в косые буквы на песке. – Впрочем, если учесть то, что мне известно про Бакуева…
– Вы допускаете иные толкования?
– Кто знает? – пожал я плечами. И равнодушно выслушал рассказ Наумова о том, как он, изучив списки личного состава театра по состоянию на пятьдесят седьмой год, нашел в этих списках пять актеров, чьи анкетные данные соответствовали данным, на которые указывала запись в дневнике Бакуева, и в их числе актера Казакова, 1905 года рождения; как отправился к нему на квартиру, чтобы поговорить с ним о портрете княгини, и как ушел не солоно хлебавши, потому что Федор Казаков был Федором Казаковым и, может, не совсем последовательно, но весьма доходчиво разъяснил незадачливому искателю, что он, Казаков, не имел чести быть знакомым ни с княгиней Улусовой, ни с загадочным «А.В.». А о каком-то там Бакуеве и слыхом не слыхал. Казаков и тогда любил «выступать». Ошеломленный доцент спасся бегством, оставив на поле сражения новую велюровую шляпу, о которой вспомнил лишь на лестнице. Он потоптался на площадке первого этажа в раздумье, потом махнул рукой и вышел на улицу.
Шляпу принесла на другой день в институт Лирочка-Велирочка и ближе к вечеру вышла на дорожку, по которой доцент Наумов хаживал ежедневно после занятий. Наумову эта дорожка не нравилась, хоть и вилась она между стройными тополями и была во всех отношениях удобной дорожкой; не нравилась потому, что ходил Наумов по ней на частную квартиру, которая, если разобраться, и не квартирой была, а просто «углом». Вот на этой дорожке и встретила доцента Лирочка-Велирочка, встретила и остановила, а затем медленным движением бережно вынула шляпу из сумки, произнеся при этом какие-то слова, которые доцент забыл, но, вероятно, это были щучьи слова, те самые – «по моему велению, по моему хотению», – ибо после этих слов Наумов тоже произнес какие-то слова, среди которых было и «спасибо», но не оно было главным, оно не ставило точку под диалогом, а в том, что диалог начался, Наумов уже не сомневался. Не сомневалась и Лирочка…
Очень не хотелось Лирочке ехать в деревенскую школу.
А доцент в шестьдесят четвертом году был скорее худым, чем толстым. В общем, он выглядел не хуже других, хоть и не гнался за модой и был с «бзиком», поскольку тратил свой досуг на копание в каких-то там архивах. Но в тот теплый апрельский вечер он забыл о тайне столетий, ибо другая тайна властно поманила его, вечная тайна, нетайная тайна, которая лучилась из глаз Лирочки-Велирочки, умненькой студентки-выпускницы, хорошенькой девушки, интересной даже, что и не преминул отметить доцент после двухчасовой совместной прогулки.
В конце недели Лирочка-Велирочка решила, что момент наступил, и, осторожно высвободившись из объятий доцента, сказала: «Мы могли бы пожить и у нас». И была свадьба, которую сыграли в новеньком еще тогда кафе «Космос». Свадьба как свадьба, со всеми положенными процедурами, из которых Наумову почему-то запомнилась наиболее утомительная – ожидание торжественного ужина, – когда они с Лирочкой стояли у стеклянных дверей, встречая гостей. Скучные это были часы, скучные не только для Наумова. Снаружи толпилась стайка юнцов, которые приходились кому-то родственниками, но кому, было неизвестно ни жениху, ни невесте. Юнцы сосредоточенно курили, подчеркнуто не обращая внимания друг на друга. Внутри, возле длинных столов, заставленных снедью, цветами и бутылками, бродили приглашенные мужчины постарше из тех, кто пришел точно к назначенному часу. Их жены чинно сидели на стульях, поставленных рядком у стойки, и шептались о чем-то, поглядывая на жених; и невесту, похожих на манекены, какие можно увидеть в витринах салонов для новобрачных.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































