Читать книгу "Выстрел из прошлого"
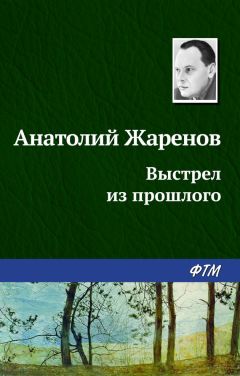
Автор книги: Анатолий Жаренов
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
сообщить о неприемлемом содержимом
Анатолий Жаренов
Выстрел из прошлого
I. Клочья
Он вошел в дом и закрыл за собой дверь. Щелкнул замок. Человек постоял с минуту, прислушиваясь к тишине, потом медленным усталым движением снял плащ, сбросил тяжелые мокрые ботинки и сунул ноги в войлочные тапочки. Шагнул в кухню, рука машинально потянулась к выключателю, но он тут же отвел ее. Вышел в прихожую, принес толстый пакет, перетянутый резинкой, и положил его на пол возле печки. Подошел к окну, задернул поплотнее штору. Чиркнула спичка. Сухая лучина вспыхнула сразу. Он поглядел на разгорающееся пламя, вынул из белого шкафчика бутылку и рюмку. Наполнив ее, погрел в ладонях и медленно выпил. Затем придвинул табуретку к пылающему печному зеву и взялся за пакет.
Резинка первой полетела в огонь. Человек развернул пакет. На свет появилась рукопись. В глазах запрыгали буквы, складываясь в слова: «Когда-то сотни тысяч лет назад вся территория нашего края была покрыта ледниками». Он не стал вчитываться в текст, снял верхний лист и отправил его в огонь. Бумага вспыхнула, свернулась в черный невесомый комочек, который мгновенно раскалился докрасна и распался в серый прах, в золу, в ничто. За первым листком последовал второй, за ним третий, четвертый, пятый… Горела бумага. И вместе с ней горели мосты в прошлое; горело то, что невозможно было забыть, то, что хотелось стереть, уничтожить, развеять по ветру; то, что мешало жить…
Бумажные мосты легко жечь…
Отца уже не было дома, когда Славка проснулся. Поглядел на часы и даже присвистнул – десять. И ложился вроде не поздно – не было еще двенадцати, когда вернулся из клуба. На столе ждал ужин, дверь отцовской комнаты была закрыта – знак, чтобы его не тревожили. Славка без особого аппетита уничтожил холодную яичницу, запил ее молоком и завалился в постель. Хотел было почитать Франса, но толстый зеленый томик быстро вывалился из рук. «Скучновато писал мастер слова, – лениво подумал Леснев-младший, гася свет, – а может, не в нем дело, не в мастере слова, а во мне… Во всяком случае, Люська, подбрось я ей эту мыслишку, непременно сказала бы, что дело во мне: она любит меня воспитывать…»
Люськой зовет ее Леснев-младший потому, что ей это нравится. «Людочку» она терпеть не может – слишком сладко, а «Люся», по ее мнению, звучит чересчур сухо. Вчера, впрочем, он величал ее Людмилой Павловной. Вчера они немного поцапались. Повод был ничтожный, но Люська что-то вообразила, и они расстались, как любит выражаться Славка, без вздохов, поцелуев и молитв. В таких случаях в причинах разобраться невозможно, решил он, и не стал доискиваться, откуда что пошло. Говорили о Сашке. Люська восторгалась его целеустремленностью, а Славка, кажется, не к месту засмеялся. Ну и задымил костерок.
Раздумывая, вставать или еще поваляться, Славка последил за солнечным зайчиком, который тихонько подбирался к посуде в буфете, потом сбросил одеяло и прошлепал босиком в кухню. У отца приличный домик, но кое-каких удобств недостает. Нылка, хоть и украшена городскими светильниками, похожими на очковых змей, вставших на хвост, – поселок в основном деревянный, одноэтажный. Историю свою Нылка ведет со времен никонианского раскола. Сюда, в леса, бежали приверженцы протопопа Аввакума, спасаясь от преследований официальной церкви. Но, прожив, как любит выражаться Люська, несколько сот лет в духовном инбридинге, староверы за последние десятилетия крепко изменились. Попадаются, правда, еще здесь благообразные старички в чудных картузах. По праздникам они бьют поклоны в моленной, а по субботам парятся до седьмого пота в курных банях на огородах. Есть и такие, что едят только из персональной посуды, но и эти могикане успели привыкнуть к телевизору и не умеют обходиться без электричества.
«Из-за Сашки поцапались, вот еще…» – досадливо поморщился Славка, вспомнив вчерашнюю размолвку с Люськой. В прошлом году Сашка копался в раскольничьих книгах, которыми с помощью межбиблиотечного абонемента его снабжала Люська. А нынче увлекся чем-то другим, но чем именно, непонятно. Чудной он парень, Сашка Мямлин. У родителей приличная квартира в Калуге, а он, как приехал после культпросветучилища в Нылку, так и застрял тут. Должность незавидная – заведующий Домом культуры, образования явный недохват, живет в развалюшке у глухой бабки на краю поселка и доволен. В двадцать семь можно бы и поумнее быть, и о перспективе подумать. Где-то я его, впрочем, понимаю, рассуждал Леснев-младший. Может, поэтому и тянет меня иногда к нему. А вот батя мой с некоторых пор Сашку не одобряет. Перешел ему дорогу Сашка, увел у бати из-под носа Анечку Спицыну, брюнеточку-экономисточку с сушильного завода. Батя ей шоколадки и цветочки дарил, с работы до дома за три километра провожал и совсем было этой весной собрался предложение сделать, а Анечка вдруг свою любовную лодку к Сашке погнала. И батя совершенно испортился. Пять лет после смерти матери жил спокойно, а теперь… Да что тут говорить, скрутила старичка безответная любовь не хуже подагры.
Вот с такими мыслями вышел Леснев-младший из дому. На крыльце сохли отцовские ботинки. Рядом стояли резиновые сапоги. Славка вдел в них ноги и сходил в конец двора к деревянной будочке, предназначенной для известных нужд. Потом потолковал через забор с соседом. Тот ладил машину, именуемую в просторечии тачкой. Покурили и поговорили о тачке. Этот механизм был нужен соседу для транспортировки сена из стога, который возвышался за огородом. А сено требовалось корове, которая, как выяснилось, сжирает массу корма, а молока дает мало.
У соседа были свои трудности. У Славки – студента-медика – свои. И он подумал, что с удовольствием одолжил бы у соседа тачку, чтобы погрузить на нее свои трудности и отвезти куда-нибудь подальше. Да вот не поместятся они, пожалуй, на тележку, надо понадежнее транспорт искать. Такой причем, чтобы на этом возке и для Люськи место нашлось. Если говорить честно, Славка в общем-то из-за нее, Люськи, в Нылку приехал. И в прошлом году из-за нее приезжал, и в позапрошлом. Отец к его наездам стал с некоторых пор относиться довольно прохладно. Сначала Славка не понимал почему. Потом сообразил, что целится Леснев-старший сына молодой мачехой обеспечить и одновременно опасается. Задумай Славка в Нылке осесть и на Люське жениться, отцу пришлось бы потесниться, а ему это совсем ни к чему, он планировал все хоромы целиком в распоряжение Анечки предоставить. Нынче сделал даже крупный шаг по пути устранения противоречий между городом и деревней – переоборудовал кладовку в ванную комнату. Стенки выложил белым кафелем, в кухне установил водогрейную колонку, устроил слив местного значения, словом, благоустроился. Реконструкцию Леснев-старший производил, конечно, не столько для себя, сколько для Анечки. Но она пренебрегла.
Летом и ближе к осени Нылка пахнет уксусом. И стар и млад по утрам вооружаются лубяными корзинами и бегут в лес, благо он окружает поселок со всех сторон. Возвращаются нагруженные рыжими лисичками, ядреными белыми, блестящими влажными маслятами. В середине дня вся эта масса грибов валится в котлы на грибоварочных пунктах. Вот тогда-то и поднимается над Нылкой уксусный дух.
В детстве Славка любил ходить в лес. Потом появились другие интересы. Но в это ясное, теплое утро ему вдруг захотелось пробежаться по старым местам. Прикинул, кого пригласить в компаньоны, и остановился на Сашке. Днем ему в Доме культуры делать нечего. Ну а если не удастся уговорить, можно сходить и одному, не заблудится. Корзину решился не брать, чтобы не смешить Нылку: здесь за грибами выходят затемно. Нашел кошелку и двинулся по длинной улице. Торопиться особенно было некуда, и Славка минут пять поболтал о том о сем с сослуживцем отца – кассиром сушильного завода Выходцевым. Старичок орудовал миниатюрными грабельками в палисаднике перед домом. Увидев Леснева-младшего, он аккуратно повесил грабли на штакетник, и они потолковали о цветах, о погоде, о болезнях. Старик больше нажимал на болезни, пожаловался на почки, которые ослабли, и еще на что-то, но Славка особенно не прислушивался и не запомнил всего перечня выходцевских хворей. Поинтересовался только, почему Евгений Васильевич не на работе, не вышел ли, часом, на пенсию. Но тот сообщил, что до пенсии ему трубить еще целый год, а сейчас он просто в отпуске. Он снова взялся за грабельки, а парень пошел дальше и до самого Сашкиного жилища больше ни с кем не разговаривал. Дал только сигарету Грише-дурачку. Этому мужику около сорока. В юности из него вышел бы классный баскетболист, да вот… Не может Гриша ни читать, ни писать, ни слова выговаривать. Возили его когда-то по больницам, потом отступились. Так и остался Гриша поселковым дурачком. Бродит, высматривает, где люди собираются яму копать; и уж если наглядит, от этого места его никакими силами не прогнать. Встанет около ямы столбом, смотрит, и лицо у него в этот момент делается каким-то просветленным, что ли. Словно ждет, что вот вынут люди сейчас из ямы что-то такое, что позарез Грише необходимо, без чего жизнь не в жизнь. Нылкинцам его поведение не сильно нравится, потому что Гриша ни одни похороны не пропускает. А кому приятно, когда человек, хоть и чокнутый, ухмыляется, стоя над разверстой могилой. И прогнать его невозможно – мужик сразу звереет, а кулаки у него подходящие, свяжешься – наплачешься.
В разное время разные люди пытались как-то объяснить Гришины странности. Но объяснения не доказательства, предполагать можно что угодно, а истина все равно оставалась наглухо запечатанной в Гришиной голове. Если она есть, конечно, эта истина. Сашка считает, что есть. Он не был бы Сашкой, если бы думал иначе или хотя бы жил в ладу с логикой. Но у него с этой особой, по мнению Славки, сильно запутанные отношения. Недели две назад Леснев-младший застал его за странным занятием: Сашка накопал ямок на бабкином подворье, накидал в них разных предметов, вплоть до ассигнаций, прикрыл все это землей, позвал Гришу и стал извлекать добро из ямок. Гриша, ясное дело, радовался, лопотал что-то на своем тарабарском языке, заглядывал в ямки, но к вещам, которые появлялись на свет, относился с явным безразличием. Он несколько оживился, когда Сашка выкопал собачью цепочку. Гриша схватил ее, накинул Сашке на шею, поплясал вокруг изумленного парня, а потом… В общем, этот психологический эксперимент чуть не закончился генеральным побоищем: не будь Славки рядом, Гриша, пожалуй, задушил бы Сашку этой цепочкой. «Мне казалось, в Нылке только один дурак, – сказал Леснев-младший, когда они присели на завалинку отдышаться. – Что это за идиотские опыты?» Мямлин долго молчал, потом сказал: «Ты этого не поймешь». – «А ты, ты-то сам понимаешь?» Сашка вздохнул, покачал головой. «Очень мало, – признался он. – И я тебя попрошу: не говори никому об этом опыте. Мне кажется…» – «Что кажется?» – спросил Леснев. «Да нет, ничего, – он улыбнулся каким-то своим мыслям. – Может, я ошибаюсь, может, тут что-то другое». – «Но чего ты добивался?» Мямлин удивился: «Как то есть чего? Хотел узнать, можно ли с Гришей поговорить». – «Ну и как? – осведомился Леснев. – Узнал?» Сашка помолчал, потом задумчиво произнес: «Поторопился я, надо было другую цепочку взять». На этом и увяла эта содержательная беседа молодых людей. Однако Славка дал слово никому не говорить о том, чему пришлось быть свидетелем. Но в голову эта картинка запала. Да и кому такое не западет в голову? В тот день, правда, Лесневу-младшему все это представлялось очередным Сашкиным «бзиком», не больше. Потом он стал думать иначе.
Глухая бабка дремала на солнышке, сидя на крылечке своей хаты. Славка поставил кошелку на землю и спросил, дома ли квартирант. Осведомляться пришлось во весь голос, но бабка только потрясла головой, повязанной двумя ситцевыми платками, и сердито сказала, что Сашка «с ночи не показывался». Парень поинтересовался, как нужно понимать эту загадочную фразу, и после серии наводящих вопросов выяснил, что нынешней ночью в бабкином доме произошло некое непонятное событие. Часов у бабки нет, поэтому сказать, когда квартирант возвратился, она не могла. Она спала на своей половине, слышать ничего не слышала, поскольку давно туга на ухо, однако о том, что ночью Сашка приходил домой, знала. О его появлении бабку всегда извещали половицы. Доски колебались, и в такт шагам квартиранта колебалась бабкина кровать, хоть Сашка и старался ступать поаккуратнее и раздевался в темноте, чтобы не тревожить хозяйку.
В эту ночь он, едва войдя в дом, включил электричество. Бабка заявила, что парень был пьян и не иначе как в стельку, потому что учудил такую штуку, за которую голову оторвать и то мало. Когда бабка встала утром и собралась идти к корове, то обнаружила, что дверь ее комнаты не открывается. Подумала было, что «нутряной замок» сломался, – такое случалось, но вскоре сообразила, что дело не в замке, что просто Сашка задвинул щеколду со стороны своей комнаты, оставив бабке лишь один выход – через окно. Она долго стучала в дверь скалкой – квартирант не отзывался. Спустив на парня всех чертей, обитающих в пекле, бабка полезла в окно. Она намеревалась устроить ему веселенькое пробуждение, но из этого ничего не вышло – Сашки в доме не оказалось.
Возле крыльца подсыхала лужа. Она напомнила Лесневу-младшему о том, что ночью шел дождь. Напрашивалось разумное объяснение: Сашка гулял с Анечкой и дождь загнал влюбленных под крышу. Что касается щеколды, то тут раздумывать не о чем. Сашка довольно рассеянный субъект, он просто забыл про щеколду. А если учесть Анечку, которая была рядом и, так сказать, усугубляла своим присутствием эту рассеянность, то оставалось лишь посочувствовать бабке и отправляться в лес.
Вместо этого Славка обошел бабку и поднялся на крыльцо. Что толкнуло его зайти в дом, он потом никак не мог объяснить. Пошел – и все. Постоял какое-то время на пороге, затем шагнул в комнату. Все здесь вроде выглядело как всегда. Над кроватью висели фотографии. Снимков было много, но все на один сюжет – кругом лес, а в центре Анечка. На столе в обычном беспорядке валялись книги, на подоконнике стояла коричневая кастрюлька, накрытая листом бумаги. В углу синел старенький плащ. Нового нигде не было видно. Оглядевшись, Славка заметил, что исчезло зеленое нейлоновое пальто, которое Сашка за неимением платяного шкафа держал в том же углу под занавеской. Занавеска была на месте, а пальто не просматривалось. Заглянуть под кровать было секундным делом. Красного клетчатого чемодана, в котором Сашка хранил свою нехитрую движимость, будто и не было там никогда.
– Что же это такое? – пробормотал Славка растерянно, глядя на бабку, стоявшую безмолвно в двери.
Бабка вопроса не услышала.
– Говорят, английская королева нашими грибками интересуется, – сообщил Миша Востриков. Он выговаривал слова медленно, по-деревенски. Они выкатывались из его рта, словно ядра, округлые, весомые, гладкие. А выпуклые коричневые глаза внимательно ощупывали лицо собеседника, проверяя реакцию. Собеседник, гость – следователь Степан Николаевич Кириллов – был занят обсасыванием куриной ножки, поэтому к сообщению о вкусах английской королевы отнесся равнодушно. Да и далековато от Нылки жила королева и к теме разговора следователя с участковым инспектором никакого отношения не имела. Следователя интересовало совсем другое: он хотел знать, что говорят в Нылке о Мямлине.
– Разное болтают, – сказал участковый. – С Анютой эту историю связывают. Только я думаю, что это разговор нелепый.
– Что за Анюта?
– Экономистом она на сушильном. Любовь у Мямлина с ней будто бы расстроилась.
Кириллов положил обглоданную косточку на тарелку. Мишина жена протянула накрахмаленный рушник. Но вытирать жирные пальцы об эту хрустящую белизну следователю показалось святотатством, и он, не обращая внимания на протестующие возгласы хозяев, пошел в кухню. Намыливая руки, подумал, что, может быть, и не такой уж нелепый этот разговор о поссорившихся влюбленных. Правда, они с Мишей еще не успели ни о чем толком поговорить: гостеприимный участковый потащил Кириллова от автобусной остановки к столу, а за столом беседа завертелась вокруг грибков да тарелок. Впрочем, пока дошло до грибков, Мишина жена, как выяснилось, учительница, успела немало рассказать о Нылке: о лесах, каких нигде нет; о цветах, которые только здесь и растут; о соловьях, которые поют в Нылке совсем не так, как в других местах. Говорила она так, что все время хотелось спросить словами чеховского Жигалова: «А тигры у вас в Нылке есть?» «И я бы нисколько не удивился, услышав положительный ответ», – подумал Кириллов с усмешкой. Уж очень горячо нахваливала Наталья Ивановна поселок, в котором родилась и выросла.
Так и катался мячиком застольный разговор о том о сем, пока Миша не подкатил его к Анюте, а от Анюты возвратившийся из кухни Кириллов погнал его дальше, к обстоятельствам, сопутствовавшим таинственному исчезновению заведующего Нылкинским Домом культуры. Мямлин сбежал. К этой мысли склонялся Миша. Он уже переговорил с Анютой и с ее подругами, допросил приятелей Мямлина, и стала перед ним вырисовываться некая версия.
– Анюта в тот день, – сказал он, – ключей от сейфа не того… Ну в общем в сумке своей не обнаружила. А накануне она кассу у Выходцева приняла. Старик в отпуск пошел. В ящике на ночь деньги оставались. Могло, допустим, ограбление готовиться? Молодежь нынче неустойчивая.
– Почему оставались деньги?
– Порядок у них такой, – сказал Миша. – Для Леснева Андрея Силыча, главбуха ихнего, инструкций вроде и не существует. По правилам они обязаны зарплату в один день выдавать. А они процедуру растягивают. В первый день зарплату выдают, а на другой грибовары приходят: им на пунктах наличность нужна. На ночь тысячи три обычно остается.
– Значит, это система?
– И соблазн, – вздохнул Миша. Наталья Ивановна внесла розовые чашки и стала расставлять чайную посуду на столе, прислушиваясь к разговору. Кириллову показалось, что она хочет что-то сказать, но она лишь молча поправила сбившуюся скатерть и вышла из комнаты. Следователь проводил ее взглядом, отметил уверенную походку и подумал, что эта женщина знает себе цену. «А может, это профессиональное, – мелькнула мысль. – Когда двадцать или тридцать пар глаз смотрят тебе в спину, поневоле научишься не просто ходить, а выступать».
Миша тем временем продолжал рассуждать:
– Говорит, ключи потеряла. А ведь, если подумать, трудновато их из сумки выронить. Три ключа на кольце: упадут – зазвенят. Дырок в сумке у Анютки не отмечено. А около нее в тот вечер один Мямлин наблюдался. Плохого, конечно, я про Александра ничего сказать не могу. Но бывает всякое.
Это «всякое» и ложилось в основание версии, простой и ясной. Мямлин выкрал ключи у Анюты, чтобы передать их некоему сообщнику. Но неожиданно устыдился и второго шага к преступлению не сделал. Ключи он гипотетическому сообщнику не отдал, и ограбление, таким образом, не состоялось. А сам Мямлин решил бежать, поскольку опасался мести сообщника. Да и совесть его, наверно, замучила.
Изложив все это, Миша вытащил из кармана пачку «Явы», вытряхнул сигарету и, неторопливо размяв ее в пальцах, зажег. Наталья Ивановна поморщилась, заметив, что муж положил спичку на чайное блюдце, и поставила перед ним пепельницу. Потом протянула саркастически:
– Вот уж не думала…
Миша на своей версии не настаивал. Не было намеков на то, что кто-то собирался покуситься на кассу сушильного завода. Да и Мямлин, как выяснилось после горячей защитительной речи Натальи Ивановны, не водил знакомств с подозрительными личностями и вообще не был способен на преступные действия. Мальчик он тихий, скромный, сказала Наталья Ивановна, увлекается краеведением, кажется, даже мечтает написать историю поселка. В этом Кириллов убедился, когда посидел в тесном кабинетике директора Дома культуры под плакатом, призывавшим вступать в ряды ДОСААФ, и изучил содержимое письменного стола. Три ящика были заполнены репертуарными сборниками. Их следователь оставил без внимания. Четвертый был набит старыми журналами и вырезками из газет. Тенденция в общем-то была ясна. На увлечение парня краеведением, кстати, указывали и книги в квартире Мямлина. А здесь, в кабинете, в верхнем ящике стола еще лежал листок бумаги с несколькими строками машинописного текста. Под заголовком «Времена далекой старины» шла фраза: «Когда-то сотни тысяч лет назад вся территория нашего края была покрыта ледниками». После точки снова следовало «когда», и на этом текст обрывался. Видимо, два «когда» подряд не понравились автору, и он выдернул лист из машинки. Больше в столе не было ничего, если не считать тонкой собачьей цепочки: Кириллов показал ее Мише. Тот пожал плечами, и они вышли из клуба. Предстоял разговор с Анютой. Жила она на хуторе, который здесь назывался по-эстонски Мызой. Ударение Миша ставил на последнем слоге. Кириллов попытался было его поправить, но участковый засмеялся и сказал, что все нылкинцы произносят «Мыза». Откуда взялась эта Мыза в старообрядческом поселке, ни Миша, ни его жена не знали.
Дорога на Мызу начиналась сразу за сушильным заводом и пролегала через сосновый лесок. Справа тянулось болотце, слева возвышались бугры, похожие на огромные муравейники. Болотце было покрыто кустарником. Бугры густо заросли сосняком. По этой дорожке Мямлин провожал Анюту домой, по этой дорожке он возвратился и в ту ночь, чтобы забрать чемодан и скрыться в неизвестном направлении.
Сушильный заводик работал, но в конторе был выходной. Заводом, впрочем, это предприятие можно было назвать лишь с большой натяжкой. Это было старое, приземистое, длинное здание, окруженное потемневшими от времени сараями. Сушили здесь лук и грибы, картофель и морковь, поэтому пахло от завода, как от кастрюли с грибным супом. Контора – одноэтажный дом барачного типа – выходила фасадом на дорогу. У крыльца стоял велосипед. А на крыльце сидел пожилой мужичок с бородкой клинышком. На поясе у него висела кобура, а в руке мужичок держал стакан с чаем. Завидев участкового с незнакомцем, он накрыл стакан блюдечком, ловко перевернул и поставил рядом с собой. И Кириллову вспомнился базар в Баку, горки зелени на прилавках и около них опрокинутые таким же манером стаканы с чаем.
– Нифонтов, – сказал Миша, когда они отошли от конторы.
Нифонтов был последним, кто видел Мямлина в ту ночь. По времени, таким образом, получалось, что Мямлин ушел с квартиры где-то после двух часов. Но куда ушел Мямлин, было совершенно непонятно. Кассирша на вокзале, знавшая всех нылкинских жителей наперечет, сказала Мише, что парень ни ночью, ни утром билета не покупал. Такие же сведения поступили и с автобусной станции. Таксисты, ночевавшие в поселке, пассажира с красным клетчатым чемоданом не видели. Это, конечно, еще ни о чем не говорило – уехать из Нылки можно было и на попутном грузовике, и на частной машине. Не обязательно было и самому покупать билет. Смущало другое. Непостижимой казалась сама неожиданность и поспешность отъезда. Кириллов еще не вник как следует в дело, возбужденное через две недели после загадочного исчезновения Мямлина. К следователю поступил официальный запрос из Нальского управления культуры. 12 августа Мямлин должен был выступать на семинаре в Нальске с докладом об опыте внедрения в жизнь новых советских обрядов в Нылкинском Доме культуры. Но в Нальск он не приехал. На семинаре не был. Когда в Нальске стало известно, что Мямлина нет и в Нылке, послали запрос его родителям в Калугу. Ответ оттуда пришел не сразу. Квартира была на замке, а родители вместе с младшим братом Сашки – двенадцатилетним Антоном – отдыхали в деревне под Угличем. Как выяснилось, ни в Калугу, ни в деревню под Угличем Мямлин не приезжал. Родители Сашки прислали в Нальск телеграмму с требованием выяснить, что случилось с их сыном. Последнее письмо они получили от него за три дня до отъезда из дому. В нем сын сообщал, что отпуск ему дают в конце августа и он приедет домой. Поэтому Мямлины быстренько отправились в деревню, чтобы к приезду сына быть дома.
Вот, пожалуй, и все, что знал Степан Николаевич Кириллов об этом деле, выезжая в Нылку. Очень немного было ему известно и о самом Мямлине. Но по мере накопления фактов и сведений он все меньше и меньше верил в предположение о бегстве. Не в Мишину версию о несостоявшемся ограблении, а в сам факт отъезда. Не на поспешное бегство указывали данные, имевшиеся в распоряжении следствия, а на поспешную инсценировку этого самого бегства.
И все-таки Степан Николаевич, следователь опытный и в годах, едва не попался на крючок…
Да, тигров в Нылке не было, но другие не менее свирепые звери водились. Множественное число тут, конечно, ни при чем – зверь был, по-видимому, один, однако он так ловко запутал следы, что у охотников стало двоиться в глазах. Он все учел: и ситуацию, и обстоятельства, и поведение заинтересованных лиц, и даже психологию следователя. У него было два месяца, чтобы все учесть и продумать. Шестьдесят дней он соображал, как сделает ЭТО. Но логика подвела его. Он пытался предугадать, как развернутся события после того, как он сделает ЭТО. И предугадал почти все.
Почти…
– А вот и Мыза наша.
Миша поддел ногой сосновую шишку, валявшуюся на дороге. Лес расступился. Впереди, метрах в трехстах, виднелся двухэтажный дом из красного кирпича. Вокруг него домики поменьше. От опушки леса до Мызы простиралось картофельное поле. За домами текла неширокая речка.
– Курорт, – сказал Миша. – До войны тут детдом размещался. Теперь рабочие с сушильного живут. Народ новый. Из старожилов только Спицыны, как присохли.
В его голосе прозвучала какая-то странная нотка.
– А в чем дело? – поинтересовался Кириллов.
– Не любят в Нылке Спицыных. «Иродовым племенем» зовут. Теперь, конечно, не так, старики поумирали, а молодым ни к чему. Но поселок ведь. Если что прилипнет, считай, навечно. Родительские грехи и детям и внукам долго отрыгаются.
– Были грехи?
– Не библейские, конечно, не в том масштабе. Да и Ирод юбку носил. Погубила, говорят, Анюткина бабка детишек из этого вот детдома. Над семейством с тех пор и повисло проклятье.
– Как же это?
– Эвакуация была, – хмуро откликнулся Миша. – Ребят с Мызы почти всех увезли. Осталась группа малолеток. И бабенка эта с ними – заведовала она тогда детдомом. К утру им должны были фургончик подать. А потом, недели через две, партизанский связной обнаружил мертвых детишек в лесниковой избушке. Отсюда километров тридцать. Завезла, видно, и бросила. Были вроде свидетели, которые видели, как она их по той дороге везла. Сама будто бы за шофера сидела. А в Нылку уже немцы входили. После войны по округе слух пошел – видели эту женщину где-то на юге. Ну а как на самом деле было, знает, наверное, одна она. Если жива, конечно.
– Искали ее?
– Было дело. Да тем и кончилось, – ответил Миша и двинулся вперед. Картофельное поле осталось позади. Теперь они пересекали просторный двор. Здесь шла обычная воскресная жизнь. На веревках, протянутых между деревьями, сушилось белье. Откуда-то из-за угла, скрытого от взоров простынями и пододеяльниками, доносился стук костяшек домино. На скамейке у детской песочницы сидели женщины. Одна с книгой, другая проворно шевелила спицами, остальные без дела. Но все: и та, что держала в руках книгу, и та, что со спицами, – проводили внимательным взглядом участкового инспектора и незнакомца, пока они не нырнули в узкую щель между двумя сараями. Щель эта вывела их прямо к крыльцу аккуратного бревенчатого домика с резными оконными наличниками.
Дверь открыла Анюта. Родителей дома не было. Она предложила гостям стулья, а сама села на диван. В комнате было тесновато, от мебели веяло стариной. Здесь стояли два комода, красный и черный. На черном лежали раковинки, стеклянные шарики и какие-то стеклянные же брусочки. На красном центральное место в композиции из разных безделушек занимал портрет молодой женщины, в чертах лица которой угадывалось сходство с Анютой. «Мать», – решил Кириллов. Но, бросив взгляд на Мишу, понял, что ошибся. И еще он понял, что Спицыны в вину бабки не верят и что, по всей видимости, между этим семейством и старожилами Нылки существуют некие сложные взаимоотношения.
Анюта оказалась девицей молчаливой. Держалась она спокойно, настолько, насколько можно быть спокойной в такой ситуации. Была она красива, эта полненькая смугляночка. Она понимала, что красива, но она «не высовывалась», как образно выразился Миша, когда они вышли от Спицыных. Беседа с ней затянулась, но ничего нового Анюта не сказала. Она недоумевала – и только. Но она часто, Кириллову показалось даже, что чересчур часто, повторяла одну и ту же фразу: «Мне он ничего не сказал». В этом назойливом рефрене он уловил некий подтекст, до которого так и не сумел добраться. Он заходил с флангов и с тыла, но всюду натыкался на глухую стену, от которой вопросы отскакивали, как целлулоидные шарики. Не то она сожалела о чем-то, не то укоряла Мямлина, который должен был сказать ей нечто важное, но вот не сказал – то ли забыл, то ли не захотел.
Ничего не сказал… Ушел и исчез в августовской ночи. А пришел два месяца назад, в начале июня. Тоже было воскресенье. Пришел на Мызу, походил вокруг каменного дома, зачем-то по стене ладонью похлопал. Анюта с книжкой на скамейке возле песочницы сидела. Мямлин подошел к ней, поздоровался, присел рядом. «Хорошо у вас тут», – сказал. Разговорились, потом в кино вместе пошли. Был он в тот вечер рассеян, словно думал о чем-то своем, на Анютины вопросы отвечал невпопад. Она даже обиделась. Но вскоре все изменилось, все пошло ладом, как у всех, как всегда, как в хороших песнях поется. За Анютой в те дни главбух Андрей Силыч Леснев ухаживал. Но, узнав про Мямлина, отошел бухгалтер в тень, стушевался. Заслонил его Мямлин, на второй план отодвинул. И вдруг ушел. Не сказал ничего, не написал ничего.
Странно, если подумать…
Если подумать о сложных отношениях семьи Спицыных с нылкинскими старожилами.
Ничего не сказал… «А гложет, спрашивал Мямлин?» – подумал Кириллов.
– Анна Семеновна, один деликатный вопрос: Мямлин когда-нибудь интересовался прошлым вашей семьи?
– Нет.
– Не было разговоров на эту тему?
– Нет, никогда…
Люська лежала на спине, запрокинув лицо к небу, грызла травинку и следила за бегущими облаками. При этом она каким-то образом ухитрялась следить и за Славкой, потому что стоило ему взглянуть на нее, Люська тут же это уловила и села, прислонившись к теплому срубу колодца.









































