Текст книги "Уто"
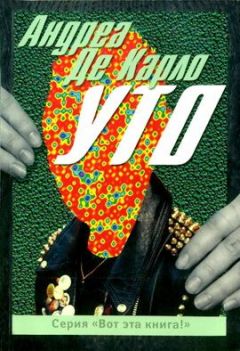
Автор книги: Андреа Де Карло
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Долой хранительницу семейного очага!
Шум мотора у меня за спиной за поворотом дороги, покрытой снегом. Яркий белый свет, он слепит меня даже через темные очки. Я иду по обочине, ускоряю шаг, смотрю в сторону леса, который справа подступает прямо к дороге, но сугробы слишком высокие, и мне не хочется увязнуть в снегу. «Рейнджровер» выныривает из-за поворота, запросто проглатывает все то расстояние, которое я сумел выиграть, настигает меня, выделяется темно-белым пятном на белом фоне, – он похож на хищное животное со своими уродливыми фарами-глазищами и механическим рычанием. Меня так и подмывает пуститься наутек, но совершенно ясно, что это все равно бесполезно, а уронить себя до такой степени я тоже не хочу.
Я замедляю шаг, сую руки в карманы, притворяюсь, что рассматриваю пейзаж вокруг, и весь цепенею при мысли, что за рулем сидит Витторио с глухой дикой злобой в глазах. Хищная рожа автомобиля уже совсем близко, он прямо дышит мне в спину, обдает меня жаром, у меня одно-единственное желание – выхватить пистолет, которого у меня нет, и, держа его обеими руками, выпустить обойму в ветровое стекло.
Но за рулем не Витторио, за рулем Марианна, еще бледнее и напряженнее, чем обычно.
– Куда ты идешь? – спросила она меня, опустив стекло.
– Просто гуляю, – ответил я с облегчением, к которому уже примешивался новый страх.
– Не составишь мне компанию? – спросила она. – Мне надо навестить одну парализованную женщину, это в пяти минутах езды отсюда.
Чего бы мне хотелось, так это совсем ничего не отвечать ей, а просто убежать подальше отсюда, тем не менее я сел в машину рядом с Марианной.
Она вела машину заученными, автоматическими движениями, то и дело посылая мне взгляд-просьбу о помощи.
– Как поживаешь? – спросил я ее в конце концов, хотя мне совершенно не хотелось вникать в ее семейные трагедии.
– Не очень, – ответила Марианна. – Сейчас у нас довольно трудный период. Наверно, мне придется поговорить со Свами. Я уже просила его о встрече.
Я молчал, хотя было очевидно, что она рассчитывает на дальнейшие расспросы; но я просто тупо смотрел в окно.
Марианна тем временем стреляла в меня пылающими взглядами и явно жаждала продолжения.
– У меня проблемы с Витторио, – не выдержала она. – С ним стало очень трудно. Четыре года мы совершенно не ссорились, а теперь вот за один день быстро наверстали упущенное. Я очень расстроена.
Она вела машину медленно, но мысли ее явно витали далеко, я молил Бога не допустить второй аварии за такой короткий срок.
– Что значит наверстали? – спросил я.
– Мы даже поговорить не можем спокойно, – сказала Марианна. – Между нами – пропасть, и я поняла это только вчера. Витторио так зол на меня, мы совсем перестали понимать друг друга. Это ужасно. Я не могу в это поверить.
– А в чем, собственно, дело? – спрашивает Уто.
Только бы она не заговорила о нем самом, и все-таки хорошо бы заговорила. Как обычно, он проник в ситуацию и находится вне ее: далеко-близко, жарко-холодно.
– Во всем. Мы были так уверены, что все у нас в порядке, а оказалось, что между нами пропасть. Пропасть!
– Но ведь всем случается ссориться, – говорит Уто. – Люди считают это в порядке вещей.
Он просто старается снять с себя всякую ответственность, это единственное, что его волнует, впрочем, возможно, его волнует и кое-что другое.
МАРИАННА: Дело не в том, что мы ссоримся. Дело в том, что за этом стоит. Лютая ненависть, вот что.
УТО: Все образуется. Сегодня же вечером, уверяю тебя.
МАРИАННА: Ничего подобного. После того, что мы сказали друг другу, обратного пути уже нет.
(Она говорит об этом с уверенностью, словно консилиум врачей вынес диагноз, и он не подлежит сомнению. Она не выставляет защитных заслонов и заграждений.)
УТО: А что вы сказали друг другу такого ужасного?
(Теперь он играет с огнем. Огонь ледяной, по спине пробегает дрожь.)
МАРИАННА: Дело не в словах.
Она свернула на маленькую улочку, остановилась у деревянного домика, похожего на дом Фолетти, но поменьше. Она не открыла дверь, и я тоже не открыл, в домике не было никаких признаков жизни. Мы молча сидели, не двигаясь, и смотрели перед собой.
– А ведь мой отец тоже художник, ты знал об этом? – ни с того ни с сего вдруг сказала Марианна.
– Нет.
– Он полная противоположность Витторио. И по характеру, и по творческой манере. Мой отец вообще очень плохо приспособлен к жизни. Настроение у него меняется каждую минуту. Из-за него мы с братом росли такими неуверенными в себе. Случалось, утром он бывал весел и ласков, но когда я возвращалась из школы, встречал меня мрачнее тучи, такой угрюмый и подавленный, что я даже пугалась. Иногда он увлекался чем-нибудь или кем-нибудь, но это увлечение очень быстро проходило. Как-то раз он вдруг начал собирать минералы, какое-то время только об этом и говорил, выискивал специальные книги, скупал все, что находил, и даже путешествовал по Европе в поисках новых образцов. А потом, в один прекрасный день, на мой вопрос, как поживают его минералы, он сделал большие глаза: «Какие минералы?» Как будто глупее вопроса и придумать невозможно.
Я пытался представить ее себе в то время: тощая, угловатая, нервная четырнадцатилетняя девчонка из деревеньки Вюртемберг. Наверное, что-то в ее лице уже предвещало сегодняшнее его выражение: взгляд, который ни на чем подолгу не останавливался, настырный и выжидательный.
– Я так привыкла, что у него то и дело меняется настроение, – продолжала она. – Мне казалось это совершенно нормальным, хотя, конечно, это меня не радовало. Но когда мне исполнилось тринадцать лет, в наших отношениях произошел перелом. Потом, много лет спустя, я ходила к психоаналитику и наконец осознала, в чем было дело.
– И в чем же? – спросил я ее, хотя у меня не было никакого желания заниматься вместе с ней психоанализом. И все же мне было любопытно: ее поступки могли приоткрыть передо мной завесу ее поразительной чувственности, мутные потоки которой невольно притягивали меня.
Она схватилась за голову рукой, словно от воспоминаний голова у нее внезапно заболела:
– Мы были на каникулах в Лигурии, в Чинкве-Терре, снимали там на лето дом. Мы проводили там июль и август, а иногда даже сентябрь, отец все время рисовал. Он говорил, что солнце наполняет его вдохновением, хотя потом все его картины оказывались в черно-бело-серых тонах.
Она не сомневалась в том, что я слушаю ее с величайшим вниманием, потому что привыкла к безусловной готовности всех окружающих слушать что угодно и кого угодно. Мне бы очень хотелось прервать ее, но я оказался пленником ситуации, запертым в автомобиле перед покрытым снегом домом незнакомых мне людей.
– Когда я была еще совсем маленькой, – рассказывала Марианна, – мы завели собаку, с тех пор она стала членом нашей семьи. Ее звали Руди. Миттельшнауцер цвета перца с солью. Говорят, шнауцеры – все глупые, но это неправда, наш Руди был очень умен. Отец его любил и часто брал с собой на прогулки. Они гуляли по окрестным холмам долго, часами, Но потом у нашего Руди начались нервные припадки. Такое случается с породистыми собаками. Мы могли спокойно играть с ним, а он вдруг ни с того ни с сего впадал в ярость и норовил даже укусить. Но не из злобы, Руди был добрейшим существом.
Я с грустью слушал, как она с такими подробностями, боясь упустить малейшую деталь, скрупулезно пытается воссоздать передо мной картину того, что случилось столько лет назад, словно и сегодня все это продолжает оставаться жизненно важным. Я легко мог представить себе, сколь безрадостным и нелегким было ее детство: картины отца в сероватых тонах, жизнь немецкой семьи в Италии в начале шестидесятых годов, их искаженное, ошибочное представление о Средиземноморье.
– Мама просто предупредила меня и брата: «Будьте осторожны!», она не делала из этого трагедии. Но как-то раз мы все вчетвером отправились на прогулку и поднялись на вершину горы, откуда открывался вид на все побережье. День был великолепный, под нами расстилалась серебристая морская ширь, похожая на ожившую ртуть, волны лишь слегка курчавились от ветра. «Вот он, источник истинного вдохновения», – говорил отец, и я тоже ощущала вдохновение, хоть и не была художником. Такое же удивительное вдохновение я испытала потом, много лет спустя, когда приехала сюда. Представь себе, полное единение с мирозданием, которое чувствуешь всей душой. Чувство, которое нельзя выразить словами и постичь разумом. Свами называет это слиянием с Космосом. Перед тобой внезапно открывается все чудо Вселенной.
Я кивал головой, но предпочел бы, чтобы она ограничилась историей с собакой. И еще я предпочел бы, чтобы она говорила по-немецки или по-английски, а не по-итальянски: она не спотыкалась и не подыскивала слова и выражения, и все же некоторые словосочетания, неловкости и шероховатости резали мне слух.
– Ну и вот, когда мы стояли на вершине этой горы и переживали удивительное духовное озарение, нам с братом пришло в голову поиграть с Руди. Мы стали бегать друг за дружкой кругами, и в какой-то момент я случайно наступила Руди на ногу, Руди впал в ярость и укусил меня.
Остановившись, она смотрела мне в глаза. Я не понимал, зачем она мне все это рассказывает и зачем я терпеливо ее выслушиваю, не понимал, в какую странную игру мы оба играем.
Казалось, она вот-вот разрыдается.
– Я схватилась за ногу, крови было много, наверно, он укусил меня где-то рядом с веной, папа это увидел, бросился ко мне, схватил Руди и швырнул его вниз, с горы.
– О Господи! – воскликнул я, но мне казалось, что все это больше похоже на сцену из бульварного романа, чем на ужасный трагический эпизод, я никак не мог воспринять все это всерьез.
Марианна смотрела прямо мне в глаза, всем своим видом выражая глубокие душевные переживания.
– Это было ужасно, – говорила она. – Паришь в таких эмпиреях, а потом сразу, без всякого перехода сталкиваешься с таким зверским насилием. Каким-то первобытным насилием, бесчувственным, бессмысленным.
– А что твой отец? – спросил я ее, не без труда стараясь сохранить серьезное выражение лица.
– Он был в отчаянии. Он все твердил, что хотел только защитить меня. Что потерял голову, увидев мою ногу всю в крови, и уже не владел собой. Потом он расплакался, как ребенок, но я была просто убита. Меня терзала мысль, что мой отец вообще способен на такое.
Я изо всех сил старался оставаться серьезным, но меня разбирал смех, мне казалось, что сейчас он выплеснется наружу, как вода из насоса. В конце концов я все же не выдержал и расхохотался, даже согнулся пополам от смеха. Вся эта сцена прямо стояла перед моими глазами: идиллическая картинка туристского отдыха, нарушенная миттельшнауцером перец с солью, который летит вниз с горы.
Марианна посмотрела на меня удивленно, но не обиженно, через несколько секунд она улыбнулась, а потом тоже начала смеяться. Мне казалось, что этот смех дается ей нелегко.
Я тут же взял себя в руки и перестал смеяться.
– Мне очень жаль, – сказал я ей.
– Нет-нет, – возразила она, – ты прав. Над этим надо смеяться. Но, чтобы смеяться, надо иметь возможность взглянуть на это со стороны, а я долгие годы не могла этого сделать. Долгие годы я боялась этих воспоминаний, и они преследовали меня, как призрак. Я просыпалась ночью в холодном поту и видела моего отца на вершине горы и Руди, летящего вниз.
– И поэтому ты вышла замуж за Витторио? – спросил я ее полушутя-полусерьезно.
– Да, – ответила она.
Мы сидели молча в закрытой машине, спрятанной в снегу, вокруг не было слышно ни звука. Я вдруг подумал: «А что с той парализованной? Слышала она, как мы подъехали или все это время спала? А вдруг вообще умерла?»
– Это правда, – сказала Марианна. – Я вышла за него замуж, чтобы избавиться от преследовавших меня с детства сомнений и неопределенности. Он казался мне прочным, как скала, или, если хочешь, простым, как скала. Я думала, мне достаточно только завоевать его внимание, и больше проблем не будет. Его картины такие светлые, красочные. Он сам такой земной, я была уверена, что он никогда не сбросит собаку с обрыва.
– А он все же не скала? – спросил я.
Она взглянула в окно, нервным жестом поправила волосы.
– Нет, он скала. И в этом как раз вся проблема. Именно его непрошибаемость и приводит меня в отчаяние. Его внутренняя податливость и столь чувственная связь с жизнью. Он такой приземленный. Всякий раз, когда речь идет о чем-то возвышенном, я должна служить ему переводчиком, и вовсе не потому, что я немка, а он итальянец, это не лингвистический вопрос. Все дело в том, что он земной человек, он может стремиться к духовности из любви ко мне, но он делает это насильно. А Свами как раз против всякого принуждения. Впрочем, у Витторио все равно ничего не получается, и он только еще больше озлобляется.
У нее дрожат губы, она протягивает руку и трогает меня за плечо, но тут же отдергивает ее: голубые глаза сверкают, ее дыхание приближается.
Я кладу руку на ручку двери.
– Нам не пора? Парализованная нас, наверно, заждалась.
– Не надо ее так называть, – говорит Марианна вполголоса, когда мы уже выходим из машины и идем к входу в дом по тропинке, расчищенной то ли Витторио, то ли каким-нибудь другим добровольцем. – В прошлом году умер ее муж, и она очень тяжело это пережила. Он был одним из основателей Мирбурга, это он пригласил сюда Свами из Индии.
– И как только он умер, она – того? – спросил я, изобразив с помощью рук и гримасы чучело медведя.
Она смотрит на меня тупым взглядом, однако изо всех сил старается понять меня.
– Бедняжка! – говорит она. – Они были так близки. После его смерти она почти сразу обезножела.
Все это она рассказывает мне шепотом, пока мы стоим у входной двери под венком из омелы, оставшимся от Рождества.
– Свами предложил ей переехать в ашрам, там за ней был бы уход, но она предпочла остаться дома. Она еще вполне может жить самостоятельно, сам увидишь.
Она позвонила в колокольчик, и приблизительно через минуту дверь открылась: полная седая женщина сидела в инвалидном кресле.
– Какой хороший день, не так ли? – приветствовала она нас.
– Сарасвати! – воскликнула Марианна и бросилась обнимать ее, по обыкновению проявляя слишком много эмоций. – Ты знаешь Уто? – спросила она, указывая на меня.
– Я видела его издали, – сказала полная седая женщина. – Но я много слышала о нем. Он великий пианист.
– Да, – подтвердила Марианна, глаза у нее блестели. Мы сняли сапоги и вошли в гостиную, почти ничем не отличающуюся от гостиной в доме Фолетти, разве что чуть поменьше, да и мебель пониже, и книжные полки на таком уровне, чтобы полная женщина в инвалидном кресле легко могла до них дотянуться.
Она передвигалась по комнате довольно непринужденно: вперед-назад, и даже могла поворачиваться кругом, держа руки на колесах.
– Я видела, как вы подъехали, это было давно, – сказала она.
– Мы разговаривали, – объяснила Марианна, покраснев и устремив взгляд за окно.
Эта абсурдная атмосфера сообщничества, духовной чистоты и скрытых намеков смущала меня и нравилась мне. Воздух был необыкновенно легкий, еще чище, чем в других домах Мирбурга, мне казалось, что я прямо ощущаю пустоты между мебелью, стоящей в комнате.
– Что мы можем сделать для тебя? – спросила Марианна у полной седой женщины в инвалидном кресле.
– Мне ничего не нужно, – ответила женщина.
Ей было лет восемьдесят, но глаза у нее были темные и зоркие, вряд ли она что-то упустила, разглядывая нас.
Марианна несколько раз обошла гостиную, иногда она вдруг поднимала руки, а потом опускала их по швам, как ребенок. Она смотрела только на меня, очевидно, делала это чисто инстинктивно.
– Совсем-совсем ничего? – спросила она.
– Совсем ничего, – сказала полная седая женщина. – Сегодня рано утром ко мне уже заходила Шивананда.
У меня вдруг невероятно обострился слух: пока я смотрел, как свободно, с улыбкой разговаривает пожилая женщина, мне казалось, что я могу воспринять даже те усилия, которые ей приходится делать, чтобы вести себя соответствующим образом: поддерживать беседу, передвигаться по комнате и, несмотря на инвалидное кресло, оставаться с нами наравне, не пробуждая в нас сострадания. Мне казалось, я слышу чуткое внимание Марианны, неподвижный пейзаж за окном и само бегущее время.
– Но я все равно рада вас видеть, – сказала полная седая женщина в инвалидном кресле. – Садитесь. Угостить вас печеньем?
Не знаю, что на меня нашло, – мною владели разные чувства: и смущение, и страх перед замкнутым пространством, и полное безразличие, мне было и забавно, и не по себе, да еще это странное ощущение пустоты между предметами, и странная слуховая гиперчувствительность, – но только я, не раздумывая, брякнул женщине в инвалидном кресле:
– Нет, больше всего мы хотим, чтобы ты встала!
Уто Дродемберг – святой. Вокруг его головы – нимб, когда он ходит по комнате, его волосы, словно озаряются чудесным светом. Он протягивает руку к женщине в кресле, и женщина встает. Он упирается пальцем ей в лоб, она на мгновение откидывается на спинку кресла, но потом встает. Она стоит, потом делает несколько неуверенных, нетвердых шагов по гостиной, конечно, ей трудно, ведь она целый год была парализована, ее пошатывает, но она все-таки идет. Только что это казалось немыслимым, но это так. Марианна в слезах, женщина в слезах, они обнимаются. Женщина неуклюже подпрыгивает вокруг Марианны, она еще не может поверить в то, что случилось, она почти разучилась пользоваться ногами. Марианна не верит своим глазам, она смотрит на Уто и плачет. Безграничное восхищение, восхищение-влечение, все так напряжены, что просто лишились дара речи, но ничего говорить и не нужно, такой момент нельзя передать словами.
Женщина в инвалидном кресле изумленно смотрит на меня, похоже, она меня совершенно не понимает.
А мне уже поздно отступать назад, раз я решился на такое. Я подхожу к изумленной женщине и медленно кладу руку ей на лоб.
– Так ты встанешь? – говорю я ей.
Она сидит неподвижно, едва заметно качает головой, улыбается смущенно, недоверчиво, сострадательно.
– Не понимаю, – говорит она и оглядывается вокруг.
Но Марианна уже вклинилась между нами.
– Что с тобой, Уто? – восклицает она. – Прости, Сарасвати, но Уто очень устал. У нас у всех сейчас трудный период в жизни. Уверена, ты сможешь это понять. Извини нас, пожалуйста.
– Не извиняйся, – говорит женщина в инвалидном кресле с бесконечной терпимостью, свойственной здешним обитателям, хотя, оказывается, кто-то может и не выдержать, как, например, Витторио. – Уверена, у него были добрые намерения, – говорит женщина.
– Да, но он действительно устал, – говорит Марианна и тянет меня за рукав к двери. – И сейчас ему нужно отдохнуть.
Только отъехав на километр от дома парализованной, Марианна наконец решилась спросить меня:
– Что это на тебя нашло? – Выжидательный, тягучий, наэлектризованный взгляд.
– Сам не знаю, – ответил я, испытывая полное разочарование, все мои ощущения вдруг куда-то пропали. – Может, мне просто стало скучно.
Марианна взглянула на меня как-то неопределенно и носком ноги нажала на акселератор.
Долой руку!
Тяжелые шаги вверх по лестнице, я слышу их сквозь музыку в наушниках, Витторио появляется в дверях еще до того, как я успеваю занять оборонительную позицию.
– Ты не поможешь мне напилить дров для одной соседки? – спрашивает он. Враждебный взгляд, скрытый вызов, плохо скрываемая ирония.
В ответ – мой взгляд, зеркальное отражение его взгляда: я не позволю ему угадать мои мысли.
– Ладно, – говорю я, выключаю плеер, захлопываю книгу по основам астрономии, встаю, надеваю темные очки – и все небрежно, беззаботно. Тело мое эластично, центр тяжести смещен книзу, движения плавные – пусть только тронет, я успею скользнуть в сторону. Меня оторвали от моих космических миражей, вышвырнули из моей уютной, прогретой норки на мороз, на открытое пространство, на яркий свет, который отражается на всей окружающей белизне. Снова идет снег, частый, мелкий, тяжелый, как град. Пока я иду к машине, мороз пощипывает меня за ноздри, лоб, виски, уши и даже живот: я чувствую злобу, холодную, жгучую, как морозный воздух, ярость выгнанного на улицу животного. Мне не по себе при мысли, что и Витторио таит в себе злобу, я прямо вижу, как наворачиваются в нем сжатые, точно пружина, помыслы о мщении.
Мы едем по дороге, покрытой снегом, мне кажется, что колеса движутся куда с большей натугой, чем в последний раз, когда за рулем сидела Марианна, по-моему, что-то не в порядке с трансмиссией. И даже мотор шумит по-другому, он вибрирует глухо и часто, в ритме нашего взаимного озлобления. Витторио прислушивается, но молчит, аккуратно вписывается в повороты, мы колесим по белоснежному морю, частый тяжелый снег барабанит по крыше и окнам нашей машины, дворники работают с полной отдачей.
Я не удивлюсь, если Витторио сейчас набросится на меня, крикнет, что я испортил ему жизнь и разрушил семейный покой, но он этого не делает. А может, он вдруг нажмет на тормоз, машина съедет в кювет, и он вцепится в меня, решившись наконец со мной покончить, но он и этого не делает.
– Ты видел, что происходит с Марианной? – просто спрашивает он.
– В каком смысле? – мгновенно откликаюсь я.
– Тебе не кажется, что она очень изменилась?
– С каких пор? – не сразу откликаюсь я.
– С тех пор, как появился ты, – не глядя на меня, отвечает он.
Я пытаюсь сосредоточиться на пейзаже, но могу смотреть только вперед, все боковые окна залеплены снегом.
– Не знаю. Мне не с чем сравнивать.
– Понятно. Но какова, по-твоему, она теперь?
– Не знаю, – повторяю я. – Пожалуй, немного нервная. – Есть такой прием в айкидо, когда тот, кто совершает нападающий удар, сам оказывается на полу, я изо всех сил стараюсь вспомнить, как это делается.
Он улыбается откровенно злобной улыбкой.
– Ты потрясающе умеешь абстрагироваться, Уто. Прямо какая-то неземная отрешенность. Наверно, это тоже дано тебе от природы, вместе с другими твоими выдающимися способностями.
– Не понимаю, о чем ты говоришь, – возражаю я.
Мне кажется, весь салон автомобиля пропитан злобой.
– Впрочем, именно этим ты ее и пленил, – говорит Витторио, – тем, что ты так высоко паришь над землей.
Я поправляю на носу темные очки: даже в такой тяжелый момент я не хочу выпадать из образа.
– Нину ты тоже пленил, – продолжает Витторио. – И Джузеппе, не так ли? На самом деле ты сумел завоевать всю семью. Поздравляю!
– Не понимаю, о чем ты говоришь, – не сдаюсь я.
Как только дворники очищают мою половину ветрового стекла, я сразу устремляю взгляд вперед, но эта пассивная оборона не приносит мне облегчения: мне тоже хочется крикнуть ему что-нибудь в ответ, выплеснуть наружу всю скопившуюся во мне злобу.
– Ни о чем, – говорит он.
Он, кажется, немного успокоился, по крайней мере внешне, погрузился в собственные мысли: неутоленная обида отодвинула его далеко от меня, чуть ли не за горизонт. Он не слишком ловко свернул направо на проселочную дорогу, от той элегантности, с которой он вел машину из аэропорта домой, осталось одно воспоминание.
Мы оба смотрим на снег, укрывший все вокруг: поля, деревья, заборы и палисадники по обе стороны дороги; вентилятор гонит теплый воздух прямо нам в лицо. Перед моими глазами возникают ягодицы Нины, взгляд Марианны, Джеф-Джузеппе – руки в карманах; жесты и слова мелькают в моей памяти, как хлопья снега за окном.
– Не беспокойся, Уто, – говорит Витторио. – Впрочем, думаю, нет никакой нужды успокаивать тебя. По-моему, жизнь для тебя – что-то вроде супермаркета. Берешь все, что хочешь, и даже то, что тебе совершенно не нужно, – зачем отказываться, раз само в руки идет. У тебя кредитная карточка без всяких ограничений.
Он старается говорить равнодушным тоном, но ему это плохо удается. От злости он проглатывает слова, и взгляд его мутится.
– Наслаждайся, дорогой Уто, – говорит он. – То, что тебе достается за бесценок, я должен добывать потом и кровью. Тебе же все преподносят на блюдечке. А ты этого даже не ценишь.
– Что ты об этом знаешь? – говорю я шуршащим, как наждачная бумага, голосом, который даже царапает мне горло.
– Это трудно не заметить, – говорит он. – Ты так небрежно относишься к своему таланту, совсем не думаешь о нем, не ценишь, не понятно, нужен ли он тебе вообще.
– Кажется, ты тоже талантом не обойден? – говорю я. – И даже пользуешься признанием. По-моему, тебе не на что жаловаться.
– Верно. Но разница в том, что для меня писать картины – это каторга. Тебе же достаточно просто сесть за рояль. И нехотя вздохнуть. У тебя уникальные способности, и ты никак их не используешь.
Теперь он был весь во власти ненависти: ненависть, направленная по вертикали, к нашей разнице в возрасте, ненависть, направленная по горизонтали, к различию в нашем образе жизни, ненависть, направленная вперед, ко мне, ненависть, направленная назад, к жене. Ненависть поражала насквозь все его тело и проявлялась в его жестах и голосе, давила со всех сторон на каждое его слово так, что оно превращалось в огнестрельное оружие, нацеленное на меня в упор.
– Мне тоже досталось, когда я был еще мальчиком, – говорю я ему – Меня заставляли играть часами каждый день. Надо мной вечно стояли учителя.
– Бедняжка! – восклицает Витторио. – Да ты просто мученик, я очень тебе сочувствую.
– Все это не так просто, как тебе кажется. И дело совсем не в этом.
– А в чем дело? В чем! – кричит он запальчиво, все откровеннее стремясь меня спровоцировать. – Всякий раз, когда я пишу картину, я выкладываюсь полностью, до изнеможения. Я вступаю в борьбу не на жизнь, а на смерть, с меня сходит семь потов, я плачу от ярости и разочарования, я изматываюсь до тошноты. Ты и понятия не имеешь, что это такое. И что это означает. Ты молодой Бог, тебе достаточно коснуться клавиш, и музыка рождается сама собой. Чем меньше усилий с твоей стороны, тем она прекраснее. Чего же удивляться, что ты так очаровал гуру?
Я избегал смотреть на него, не хотел поднимать брошенную мне перчатку, хотя, по крайней мере какой-то частью моей души, я даже стремился к этому, кровь просто кипела во мне – так мне хотелось дать ему отпор. Ребром ладони по шее, локтем в бок, и он теряет управление, ногой по голове, как только он окажется на полу машины, успеть, пока он еще не опомнился от неожиданности и не отреагировал.
Уто Дродемберг, киллер. Исхудалый, изможденный, бледный – против Витторио Фолетти, несокрушимого, непоколебимого: румяные щеки, широкие запястья, крепкие мускулы, ноги твердо стоят на земле, дыхание глубокое, устрашающее, невыносимое. Как разъяренный медведь, Витторио Фолетти бросается в атаку, он, словно танк, заряженный поруганными принципами и оскорбленными, растоптанными благими намерениями. Уто Дродемберг наклоняется и увертывается от удара, потом поворачивается и готовится отразить новую атаку. Он чувствует необычайную гибкость во всем теле, необычайную легкость в руках и ногах, он не торопится нанести решающий удар. Он отпрыгивает назад, скользит в сторону, ему удается уклониться от прямого столкновения, прыжок – и он уже парит в воздухе, над автомобилем, над дорогой, над снегом, где-то рядом с облаками, он блаженствует, на него снизошел покой, он не чувствует ни напряжения, ни скованности, он неподвластен никаким физическим законам.
– Это не моя вина, если тебе так трудно дается работа.
Витторио смотрит на меня и всем своим видом выражает горькую досаду: он потратил столько сил для устройства своей жизни и ничего не получил взамен.
– И если тебе трудно живется, это опять-таки не моя вина.
Мне кажется, он вот-вот бросится на меня, но он все же сдерживается, улыбается ядовитой улыбкой, кусает нижнюю губу.
Мы наконец приехали: останавливаемся у тропинки, ведущей к низенькому сборному домишке, возле которого кто-то успел расчистить снег до того, как он снова пошел.
Мы молча вышли из машины, подошли к входной двери. Бледная худая женщина, одетая как монашенка, смотрела на нас через окно веранды, она махнула нам рукой в знак приветствия.
– Здравствуй, Хавабани, – крикнул ей Витторио. – Где дрова?
С огромным трудом он сдерживал клокотавшую в нем злобу, и потому умилительный тон, принятый среди жителей Мирбурга, сейчас был ему просто не под силу, он кричал, как итальянский извозчик.
Хавабани приоткрыла одно из окошек и, высунув худой крючковатый палец, показала на ровные штабеля дров.
– Сделайте мне поленья помельче, – сказала она. – А то они у меня в печку не влезают.
– Будь спокойна, наши влезут, – сказал Витторио чуть ли не с издевкой. Теперь он ненавидит и ее тоже, ненавидит всю их духовную общину, их жесты, улыбки, любезности, ненавидит так, что больше не может это скрывать.
Хавабани тщательно закрыла окно и исчезла в доме.
Витторио пошел к машине за бензопилой, надел рабочие перчатки, дернул за шнурок, включив пилу: оглушительный визг вторгается в окружающую тишину, резкий запах бензина и горячей стружки, снег, тоже пропитанный этим запахом, тает прямо в воздухе.
Мне стоит большого труда устоять на месте: сейчас я брошусь сломя голову обратно к шоссе. Напружиненные ноги готовы сорваться с места, но я все же стою не двигаясь, руки в карманах, смотрю на пар от моего дыхания, хотя думаю только о том, чтобы не выпустить Витторио из поля зрения.
Уто Дродемберг чуть откинулся назад, приняв небрежную, но романтическую и равнодушную позу. Яркий контраст с Витторио, который подходит с бензопилой в руках. Вы только послушайте, какой отчаянный, невыносимый визг издает эта пила, особенно по сравнению со звуками, которые Уто Дродемберг извлекает из фортепьяно. Сравните, как они смотрят друг на друга, пока Витторио Фолетти подходит все ближе и ближе, а Уто Дродемберг стоит на месте, ожидая, что с минуты на минуту ему вцепится в бок зубастое чудовище.
Витторио прошел мимо меня.
– Если тебе нужны перчатки, они в машине, – бросил он мне.
Я притворился, что не слышу его, и пошел следом за ним туда, где длинными штабелями были сложены дрова. Он ухватил одно полено, положил его на пень, опустил на него бензопилу, раздался еще более ужасный визг, полетели опилки, засоряя снег вокруг. Потом он взял две распиленные половины и распилил их снова пополам.
– Она хотела помельче? – сказал он. – Так пусть и получает помельче. – И он пинком отбросил поленья в сторону. Взглянув на меня, он быстрым движением руки положил на пень новое полено.
Я в раздумье: имею ли я право при тех отношениях, которые сложились между нами, предлагать ему свою помощь, впрочем, может, это даже в каком-то смысле будет выглядеть забавным, к тому же я получу возможность сделать благородный жест, снизойдя до столь примитивной, чисто механической работы. Если принять все это во внимание, пожалуй, стоит попробовать: надо лишь постараться сохранить в своих движениях некую небрежность, подпустить томности во взгляд и работать с торжественной плавностью, словно под звуки воображаемой музыки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































