Читать книгу "Аптекарский остров (сборник)"
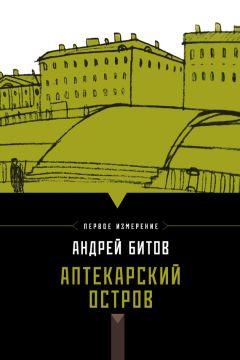
Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Они разбудили Сергея. Сергей, сначала испугавшись, что произошло нечто серьезное, успокоился, разобравшись в сбивчивом их рассказе, и, вздохнув, неохотно, с тяжкой медлительностью, стал одеваться. Его, впрочем, не торопили. Так же медленно и нехотя двинулись они к буровой, и работяги почему-то все пропускали Сергея вперед, а он, уже забыв про козу, плыл в этом непроглядном тумане и, как всегда вдруг, обнаружил перед собой вышку.
Почему-то он ожидал увидеть козу уже извлеченной из зумпфа, и, когда увидел выпирающий над поверхностью густого сизого раствора козий бок со свалявшейся в глине шерстью, он охотно воспользовался тем, что, как старший мастер, имеет право приказать сделать то-то и то-то и не обязан марать руки. Он брезгливо поморщился и, отвернувшись, стал прикуривать. Выпустив первый дым, он бросил через плечо мнущимся работягам (такое, как всегда, могло случиться лишь на смене у Петро): «Ну что ж, давайте извлекайте». Сергей курил, искоса поглядывал, как топчутся вокруг зумпфа работяги, выдумывая какие-то непригодные к случаю петли и ведра и явно не желая спускаться в зумпф. Сергей, попыхивая и злясь, направился к большому ящику, в котором хранился всякий хлам, и извлек оттуда пару высоких, до бедер, сапог, полагавшихся на буровой для очистки зумпфов. Вернувшись, он молча бросил их к ногам Петро. Петро крякнул и стал разуваться.
…Коза лежала на сизой от расплесканного раствора земле, и с нее стекала глина. Она походила на развалившуюся скульптуру. К этому времени сюда подошли и остальные, свободные от смены работяги. Собралась вся бригада. Обсудив, все решили, что эта неузнаваемая коза есть не кто иная, как Машка, бедная старуха, никогда не пасшаяся со всеми и всегда отиравшаяся около буровой. Это она однажды, улучив момент, сжевала буровой журнал, а позже наехавший внезапно главный геолог лишился из-за нее же своей секретной карты и потом очень кричал и уехал поспешно, краснея при воспоминании и о карте, и о козе, и о собственном крике…
Работягам доставляло удовольствие обсуждать сейчас это дело, стоя в стороне, и то, что такое случилось не в их смену, а в смену Петро, которого все недолюбливали, а они сейчас не на смене, они – «в чистом» и потому не станут ему помогать, – тоже было приятно им. Обсуждалось, как часто случается такое, и каждый вспомнил по случаю про других коз на других буровых, где им доводилось работать, и еще про телка, и даже про корову, и еще про одного пьяного, но рассказчик все-таки спас его на краю гибели. Сергей же думал о том, что вот коза вытащена и что же с ней делать… «Жаль, мясо погибло», – сказал один, как бы ему отвечая. «Уж лучше было прибить и съесть», – сказал другой. «Кто же знал, что так получится», – сказал третий. Эти замечания как бы продолжили размышления Сергея, и теперь Сергей думал уже про мясо, и получилось так, словно никто ничего не говорил рядом с ним, а все это были как бы его же непрерванные мысли. Он думал теперь о том, что артельные деньги все вышли, а там плюют на его рапорты и не чешутся, и чем же ему теперь кормить работяг. И действительно, коза стала как бы своей, когда потонула, и теперь было жаль, что ее не догадались прибить до этого: все равно она бы свалилась в этот треклятый зумпф, все равно жизнь козы на их совести – так лучше бы они ели сейчас это мясо. А так совершенно непонятно было, что с нею делать. Раскошеливаться и платить за козу тоже не очень-то приятно, тем более и денег нет. Образ согнутой деревянной старушки, осиротевшей теперь без козы, некстати лез и сбивал с толку. Сергей мог бы, конечно, не платить сам, а, как любой старший мастер на его месте, либо заставить платить Петро, написав соответствующий рапорт, но этого он никогда не сделает, как бы ни был Петро, единственный из всех, неприятен ему; либо приказать сейчас зарыть козу где-нибудь неподалеку, благо туман и никто, кроме своих, о козе еще ничего не знает. Так, конечно, поступил бы любой старшой на месте Сергея, из тех, кого он знал, – любой. Но пришлось бы отдать сейчас распоряжение как бы на общем собрании всей бригады, и он живо представил себе, как услышат его голос работяги, как ничего не изменится на их лицах и никто не скажет ни слова ни в одобрение, ни в осуждение, потому что каждый ведь поймет, почему он отдает именно такое приказание, – они просто молча перейдут к тому месту, где станет рыть Петро, будут покуривать и лениво смотреть, как углубляется яма, и никогда не узнает Сергей точно, что они думали о нем при этом и как обсудят его после, когда его рядом не будет. Расспрашивать же, советоваться сейчас с ними, выделять общее мнение – до чего же это было бы проигрышно ему, а главное, бесполезно: каждый бы помычал, покачал, сказал бы и так и эдак и в общем никак, и ничего бы, ровным счетом, ясно не стало. «Ладно, – сказал Сергей неожиданно для себя, – похороните ее как положено». Никто не засмеялся, и это было слава богу. «Где?» – глупо сказал Петро. «Где, где! – вдруг разозлился Сергей. – На кладбище сволоки. Господи! да в любом месте».
Точно так, как представлял себе Сергей, без слов, перешли работяги к тому месту, где Петро стал рыть козью могилу, и смотрели на это, покуривая. Снова некстати мелькнула в мозгу вдовая старушка. Сергей даже плюнул в сердцах. Дурак, вдруг спохватился он, зачем же копать, когда можно было отволочь ее в лесок, и дело с концом. Мало ли отчего может коза сдохнуть? У меня уже все путается, подумал он, ведь она и в глине вся… каждому ясно, откуда здесь глина, как не с буровой, что же, ее отмывать, что ли? Пусть копают. Да и леска ведь тут никакого нет. Да ведь и скрывать я ничего не собираюсь…
Внезапная злость на Петро подступила к горлу. «Вот и заставлю платить!» – подумал он отчаянно и бессильно, потому что, несмотря на злость, знал, что это пустая угроза и такого он не сможет. Подумал он и о том, что на зумпф требуется щит, а щита нет, и виноват все равно будет он, старшой. А Петро он, пожалуй, может наказать за то, что тот оставил станок без присмотра, но и этого он тоже не сделает, потому что так поступают все работяги, не только Петро, и это все можно понять, что им и скучно, и холодно торчать напролет у станка – мало ли что требует инструкция… «Но этот щит меня доконает!» – думал Сергей. Он легко представил своего начальника, прикатывающего на своем «козле». И сытого самодовольного шофера, любимца, покуривающего в сторонке и с ухмылкой прислушивающегося к разносу. «Курит, сволочь! – подумал Сергей о шофере. – Сапожком поигрывает!» И бесчисленные свои заявки: досок, досок! – потому что из чего же соорудить этот щит, как не из досок, – вспомнились ему. Только кому он что докажет своими заявками и рапортами… Он и копий-то себе не оставлял. «Хорошо, коза, – скажет начальник, – а если бы ребенок?!» И ничто Сергею не поможет, когда он ответит, что сам не раз прежде говорил начальнику то же самое: а если ребенок? Начальник пропустит это его замечание мимо ушей, как бы не расслышит в пылу искреннего гнева рачительного хозяина на нерачительного работника. И Сергей вспомнит, как на его вопрос: а если ребенок? – начальник усмехнулся снисходительно: эх, молодо-зелено!.. – покачал головой и как бы ласково и убедительно сказал: ну какой ребенок, что вы говорите!.. «Чтобы завтра же был щит!» – крикнет начальник. «А доски?» – скажет Сергей. «Плевал я на ваши доски! Вам все подай да в рот положи! Завтра же чтоб было!» И уедет. Напылит и уедет. Пришлет потом с первой оказией приказ. «Распишитесь», – скажет этот кто-то и тоже уедет. А досок по-прежнему не привезут. А в приказе будет подробно и косноязычно разобран случай с козой. «Несмотря на неоднократные указания со стороны руководства, в результате халатного отношения со стороны…» Тьфу! Сергей даже усмехнулся, представив соединение столь высокого стиля с историей об утонувшей в глинистом растворе бабкиной старой козе…
«А, пустое!» – сказал себе Сергей и направился к молчаливой группе, наблюдавшей за рытьем козьей могилы.
– Довольно скорби, гражданская панихида окончена, – сказал он и удивился собственной тупости, но виду не подал и показал всем свои часы. – Через четверть часа тебе, Зимин, к смене приступать, а ты и не одет еще. Ступай. И вы тоже. Нечего вам тут делать.
«Вот и у меня стало получаться, как у начальника…» – с печальным удивлением заметил Сергей.
Он шел, потупившись, по Филиппике, главной улице села Филиппова, центра Филипповского района, шагом бодрым от недовольства собой. Шел он в Филипповский отдел милиции подавать рапорт о погибшей козе и о том, что он берет на себя возместить убытки по соглашению с пострадавшей (именно так составлял он мысленно текст заявления, посмеиваясь, имея в виду то козу, то старуху)… по соглашению с пострадавшей, без судебного разбирательства. Думал он и о том, как отнесутся к этому его поступку в бригаде, и казалось ему, и тут осудят его. Это будет им непонятно, как же он сам, без принуждения, согласился за козу заплатить. И долго потом, когда его уже не будет у них, а будет другой старшой, скорее всего, такой же пройдоха и жулик, как был до него… долго потом будут они рассказывать, какой глупый был у них однажды старшой и что образование впрок не идет… «А, господи! не все ли равно!» – думал Сергей. И снова лез ему в глаза разгневанный начальник: «Хорошо – коза! А если бы человек?! Если туда человек свалится?! А?» – «Господи, – устало отвечал ему Сергей, – помолчали бы. Свалился уже».
Саня спал в кабине, а Сергей сидел на бревне и следил за станком. Он пытался сидеть так неподвижно-собранно, чтобы тепло не уходило от него, стыл, дремал под шум станка, папироса все гасла, но лезть каждый раз за спичками значило впускать тот же холод, и он выплюнул папиросу. Он уже столько передумал разных невеселых мыслей о себе, своей роли начальника, далеком доме, о жене, что теперь уже ни о чем не думал. Ему просто было холодно, и он завидовал Сане, спящему сейчас в теплой кабине. Хотя это он сам отослал Саню спать, сказав, что последит за бурением. Потому что не мог же он как начальник оставить мерзнуть Саню, которого к тому же любил, а сам забраться в кабину и спать… Но Саня так легко согласился и забыл его одного торчать в мокром тумане у станка, что Сергею было обидно.
Понемногу начало светлеть, вернее, белеть. Сидеть на бревне уже становилось невозможно – так зябко. Сергей стал бродить вокруг установки. Совсем рядом возник топоток и по-брякивание – это выгоняли коз. Вышка, пропадавшая в тумане, виднелась все отчетливей. Долго, с трудом, туман редел, и светлело. Вокруг вышки обозначилась прозрачная сфера, и она как бы раздувалась, росла, и туман отступал все дальше. Наконец он присел, сник, прижался к земле. Он был все же высок, но видна была его верхняя граница, и она золотилась – солнце… Потом просветлели края, стали видны слабые еще силуэты ближайших холмов. А когда туман рассеялся настолько, что Сергей различал пасущихся на холмах коз, вдруг двинулся ветерок и стало теплеть. Тогда-то Сергей и понял, что означал тот топоток: как это он не заметил, когда их успели выгнать? – ведь тропа, по которой их выгоняли, была всего в нескольких метрах от станка. И выгоняли коз всегда в одно и то же время, и это совпадало с началом утренней смены… Сергей снял мокрый уже ватник и с наслаждением согревался. Воздух все теплел, и огромным золотым шаром обозначалось сквозь туман солнце. Сергею становилось все спокойней и уютней по мере того, как он согревался, и мрачные мысли вовсе покидали его. Он уже и не мог бы ни о чем думать – удивительное зрелище поглотило его: как все стремительней тает, разбегается туман, как золотой шар тумана уменьшается и становится ярче и отчетливей – вот уже ощутимо идущее от него тепло, и это уже солнце.
Он взглянул на часы: время, столь тянувшееся, вдруг прыгнуло – прошло уже полсмены.
Полдень.
– Вон! Вон! – услышал Сергей. – Летят!
Он оглянулся и увидел Саню, одновременно возбужденного и помятого сном – странное лицо… Тот показывал вверх. Сергей посмотрел туда – там, медленно махая огромными крыльями в пустом и густом для них воздухе, плыли большие птицы.
– Журавли? – неуверенно сказал Сергей.
– Они, – сказал Саня и направился к станку, давая понять, что Сергей отстоял свои полсмены, а теперь – его, Санины, полсмены, а Сергей может идти спать.
Сергей устраивался в кабине. Сон, только его позвали, легко и плавно спускался к нему. Сергей задремывал и думал с нежностью о Сане, который так просто и ясно относится к вещам: твои полсмены и мои полсмены… и Сергей засыпал и слышал как бы большой шорох журавлиных крыльев, и это чем-то напоминало ему, как солнце разгоняло туман.
1961, 1963
Пенелопа
Денег из банка еще не привезли. Они должны быть не раньше трех. Бобышев обрадовался, что ему удалось это все так ловко узнать и не натолкнуться на начальство. Что ему не пришлось делать бодрой мины: да, все в порядке, да, если ничего не произойдет, им удастся в этом месяце дать план… или, наоборот, если начальство насядет, жаловаться на снабжение, на организацию. В общем, всего этого удалось не делать.
Возвращаясь из бухгалтерии, он снова протиснулся боком мимо огромного черного дивана, занимавшего коридор. На диване никто не сидел, и это тоже было удивительно: все-таки день получки. Наверно, все знают, что деньги задерживаются, и только он не знает. Всегда он чего-нибудь не знает, и тогда из дверей, каких-нибудь из многих этих черных дверей, выходит начальник, который-нибудь из начальников, пожимает руку: а вы почему тут? не знали? Бобышев прошел мимо большого дивана, дальше были две самые опасные двери друг против друга: из любой могло выскочить по начальнику – но не выскочило. Он прошел по удивительно пустому коридору, мимо еще дверей и дверей, уже менее опасных, – но как будто бы никого не было – мимо шкафов с делами, вынесенных в коридор, мимо туалетов M и Ж, мимо… но он уже спускался по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не прыгать через ступеньку, и не прыгал тоже потому, что вдруг на изломе марша, на площадке, – начальник: здравствуйте, товарищ Бобышев; пожмет руку: а вы куда?.. Покурить, только лишь покурить, вот видите: и не бежал вовсе, а шел не спеша, – люблю, знаете ли, покурить на воздухе, когда время терпит. Но он уже был на улице, и тут – только бы этот узкий закоулок пройти: там уже вряд ли кого встретишь…
И он не встретил.
Он шел по Невскому, и совсем было хорошо. Было солнце.
И воздух был редкостно прозрачен. Это был тот самый любимый осенний Невский, хотя в той части, по которой он шел, даже деревьев не было – но Невский был осенний. Так он шел и некоторое время еще думал о том, почему и как это так получилось, что он дожил вот и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулке, но погода была не та, чтобы долго думать об этом. Он еще подумал, что странно, что такой уже возникает мотор этих ощущений, что о них и не думаешь, что они как бы во сне проходят, неприятные и свинские, и потом будто бы их и не было. Он обо всем этом подумал, но как бы вскользь, так что его это нисколько не задело, и подумал-то так же: что потом и не вспомнишь, словно во сне, словно это когда-то давно-давно. Во всяком случае, когда он переходил Садовую, он уже ни о чем таком не думал, да и вообще ни о чем.
Тут, конечно же, ходили женщины и девушки, на них можно было посмотреть. Это смотрение тоже было моторным до странности. То есть не как в семнадцать, когда каждая – тайна и каждая может быть твоей. Тут уж, к черту, знаешь ведь, что, может, и каждая… да ведь это невозможно хотя бы потому, что ты один и тебе не семнадцать. Да ведь если не миллион, то не все ли равно – одна или десять. Тогда уж одна. Об этом он тоже подумал вскользь, вроде бы и не подумал. Так себе, шел и смотрел на женщин и девушек, как привык смотреть: просто так. Да их и было не так уж много: все-таки будний день и время рабочее.
В общем-то, он очень здорово себя ощущал, когда шел вот так по Невскому, по любимому осеннему Невскому, и смотрел по сторонам – воздух-то какой! Свободно и просторно было ему, когда он так шел. Он было подумал, что непонятно, с чего бы это у него такое прекрасное самоощущение, вроде бы никаких оснований: все равно через три часа надо возвращаться в контору, а после этого ехать опять в свою тьмутаракань, в свой отряд, раздавать рабочим деньги и волноваться из-за отсутствия, к примеру, ключа на девятнадцать, из-за которого – тьфу, гадость-то какая! – не отвернуть каких-то там форсунок, без отворачивания которых, в свою очередь… – но думать об этом было противоестественно, раз уж он так хорошо себя сейчас чувствовал, он инстинктивно понял, что подобным можно все это к черту развеять и потерять и поэтому лучше не думать ни о чем подобном. Все это опять же было вскользь: и воспоминания, и мысль, и мысль о мысли, и то, что обо всем этом лучше не надо, – он вроде бы вовсе и не подумал об этом. А думал он теперь о том, что вот, хотя никакого возбуждения или тяги знакомиться с кем-нибудь у него сейчас нет, но одетым стоило бы быть получше, потому что он, как приехал из деревни, в куртке и сапогах, домой не заезжал, и теперь на него и не смотрят – только он смотрит. Это было наиболее спокойной и подробной мыслью, чтобы на ней остановиться; домой же тем не менее заезжать не хотелось, потому что – все-таки взрослый человек – глуповато заезжать переодеваться, чтобы возвращаться в деревню, – и все это только из-за того, чтобы на тебя кое-кто просто так посмотрел. Во всяком случае, провинциалом он не выглядит, а что незаметен, то, господи, ерунда какая! Об этом обо всем тоже можно было подумать, но, перейдя Фонтанку, и эти мысли оказались слишком критическими, чтобы задержаться, и потом эти-то, об одежде, были действительно малыми, чтобы на них еще и задерживаться.
Во всяком случае, и здесь я буду точен, перейдя Литейный, Бобышев уже ни о чем не думал, хотя бы и вскользь, хотя бы и стыдливо, без всяких «вроде», – он не думал, не вспоминал, и его нигде не грызло и не тянуло. Теперь уже оставался только любимый осенний Невский, и шли мимо прохожие, на которых можно было смотреть, и дома, которые можно было узнавать, и ощущение бодрости не исчезало.
Но так тоже долго не проходишь. Полчаса от силы. Что-нибудь да зашевелится, суета какая-нибудь. Надо понимать… Все-таки времени как-никак почти три часа куда-то деть надо. При том, что идти, в общем, некуда. И домой тоже – не к кому и незачем. Да и что там делать, дома? И поскольку думать в такую погоду не приходится, то подвернулась вывеска – «Колизей», что ли, – широкоэкранное кино. А в нем «Одиссей», странствия, что ли, этого Одиссея. Гомер там, «Илиада». Никогда не читал. Софокл, Эврипид. Гераклит, Геродот. Демосфен. Бочка. «Спартак» Джованьоли. Ромул и Рем. Гениальные люди. Имя. Вот ведь не читали, а имя всякий знает. А то еще: читали, а имени можем и не знать. Негениальные люди. А гениальных мы не читаем. Об этом обо всем тоже можно подумать – вскользь.
И к этому времени Бобышев уже взял билет. Один. Это же чертовское удовольствие – взять билет на гадкую картину в будний день и в рабочее время.
Позвонил домой: мама? Да вот, приходится тут в конторе ждать… вряд ли сегодня удастся… да, придется ехать сразу… ну конечно… буду, буду… да нет, не холодно, здоров…
Когда Бобышев вышел из темных касс снова на Невский – даже зажмурился: такой свет и воздух. Глуповато, подумал, идти в кино в такую погоду, куда лучше пойти в сад какой-нибудь, в тот же Летний хотя бы или Михайловский. Но тут опять, где-то в запасниках мозга, не до конца появляясь на свет, мелькает, что в саду сидеть и думать хорошие, быть может, вещи, но потом – вставать и идти и забывать хорошие вещи. Бесцельно это как-то и все-таки нагрузочка – сидеть и размышлять какие бы то ни было прекрасные вещи, само собой, без удовлетворения в конце концов размышлять. Этот-то жутковатый опыт проскользнул в голове Бобышева, как змея, не оставив следа, бесшумно. И Бобышев покидает Невский, такой солнечный и осенний, и, не нарушая равновесия в себе, проходит в темную подворотню кинотеатра, широкоэкранного. «Колизей», что ли?
Да, еще он думал о том, что картина эта неизбежно дурацкая. Сначала он надеялся, что это так себе, название такое про Одиссея, а на самом деле это вовсе какой-нибудь итальянский крестьянин, или американский коммивояжер, или французский бедный мальчик, и это именно он, крестьянин, комми, мальчик, странствует и вроде как бы Одиссей, а на самом деле наше время, машины, длинные такие лимузины, подъезжают к своим кафе, и одинокая фигура, дождь, поднятый воротник, сигарета, просторные такие черно-белые кадры, пустырь и газгольдеры на горизонте, листья на асфальте и черные деревья пустых парков, но только он взглянул на кадры, вывешенные в стеклянном ящике, – все стало ясно, что это не словно бы Одиссей, а и на самом деле Одиссей, во всей, так сказать, своей древней полуодежде, цветной к тому же фильм, – и у него даже во рту кисло стало от того, какая это будет лажа. Но в конце концов все равно бы он пошел в кино.
И все равно он получит удовольствие, как бы ни плевался потом. Потому что эти гады умеют как-то что-то такое в тебе задеть так, что ты только с виду, чтобы поддержать свой вкус, будешь плеваться, а на самом деле получишь удовольствие. Потому что есть же и это пошленькое, на что они, гады, и бьют. Есть у каждого. Об этом-то как раз он думал четче всего. Он и до этого не раз так же думал, и если бы был кто-нибудь рядом, кто мог понять, то он бы сейчас об этом ему и говорил. Об этом он думал как раз, когда проползала та неуловимая мысль о саде, что не стоит все-таки в нем, в этом саду, сидеть. Та самая змея, что изложена выше.
И вот он проходит в темную подворотню кинотеатра, и это чуть ли не первая фраза рассказа, который я собираюсь писать. И теперь наконец я начинаю с нее ради еще одной, единственной, которую я знаю и которая должна быть чуть ли не в самом конце. Так вот, я приступаю к началу рассказа, и если мне до того уже не стыдно, то меня охватывает дрожь, потому что я приступаю. Он проходит и не думает ни о чем, потому что о саде он вроде бы и не думал, а о картине уже все передумал до этого.
Бобышев прошел в подворотню кинотеатра вместе с кое-какой толпою. Потому что оставалось пять или десять минут и уже все стекались. Солнце клином входило в подворотню, и он как раз перешагивал линию раздела, а тело его уже было в тени, как услышал – и за это я могу поручиться, что он услышал именно это, – он услышал, как за его спиной, за его левым, то есть правым его плечом, кто-то сказал, чей-то голос сказал:
– Скоты! Ах, скоты!
Бобышев не обернулся и, собственно, даже не расслышал, только понял, что справа сзади женский голос, молодой.
– Ах, скоты! Скоты!..
Бобышев обернулся и, не разглядывая особо, увидел небольшую крепенькую фигурку, короткую светлокрашеную прическу и молодое, ничего себе лицо. Девушка была почти рядом с ним, и он, слегка обернувшись, сказал совершенно моторно, не задумываясь:
– Это вы мне?
Получилось почему-то не про себя, а вслух, и так громко, что девушка услышала, непроизвольно так получилось и непринужденно, что ему самому понравилось, как это у него получилось. Такие штуки редко у него получались. Возможно, если бы ему не было стыдно такое беспомощество свое осознать, то никогда они у него не получались, такие штуки.
Девушка взглянула на него. Тут не было ни возмущения, ни желания пройти мимо в этом взгляде, что тоже не могло его не удивить. Девушка сказала:
– Нет, что вы!
Бобышев приотстал на шаг и очутился рядом с нею. Особенно разглядывать ее он не мог; впрочем, ничего неприятного в ней пока не обнаружил. Не мог он разглядывать потому, что надо было как-то умудриться не растоптать огонька этого легкого разговора, что с ней, бобышевской границей, было сделать нетрудно. И он сказал:
– А то я думал, это вы мне…
И засмеялся непринужденно. Засмеялся не то слово – так, полухмыкнул.
– Ну что вы!.. – ласково сказала девушка. И он был бы вынужден повторить: «А я-то подумал, что вы мне!..» – потому что совершенно ничего другого не было в его голове, и так бы он и сказал, если бы девушка не прибавила:
– Что вы?.. Такому симпатичному…
Тут уже все поворачивалось по-новому. Этого он не ожидал. И это же его окрылило, и он сказал:
– Бывает, и симпатичный – а скот.
И вот он, такой высокий и широкоплечий, чуть повернув и наклонив к ней голову, такой маленькой и ладной, и улыбнувшись широко, но светски, добавил с легкой иронией в голосе, которая должна была означать, что он-то знает, и еще должна была означать некую посвященность обеих сторон: мол, они оба знают, – и вот, со всем этим в голосе, он добавил:
– Или так не бывает?
Но надо сказать, что в это самое время, когда он уже сказал «бывает, и симпатичный – а скот» и у него уже было готово продолжение и интонация этого продолжения, разве что он еще не успел продолжить, – они уже вышли из подворотни на свет. Тут что-то в его спутнице показалось Бобышеву непривычным или неприличным, но он еще не мог сказать четко что. Но он уже не мог не сказать: «Или так не бывает?» – он сказал это. Но то, что он увидел на свету и пока не понял, уже стало настораживать его.
Словно почувствовав это, девушка сказала:
– Разве может быть, – тут она сделала паузу, – с такими-то глазами?.. – и заглянула на него и преданно и восхищенно, можно сказать любовно, или призывно… черт знает как она на него взглянула.
Тут уже Бобышева стало раздирать на две половины: одна половина, которую как бы никто не видел, уже как бы спала с этой девушкой, причем их обоих никто, как и положено, не видел, а другая уже упиралась и отставала, на эту другую смотрели во все глаза люди, много людей, они идут в кинотеатр, смотрели и осуждали, этой второй половине было стыдно и неловко, она хотела стушеваться, исчезнуть.
Но они уже проходили контроль. Он, как и положено, впрочем, пропустил ее вперед – даме, так сказать, честь и проход, – девушка сунула свой билет билетерше, а он, как пропустив ее вперед, уже готов был удрать с билетом – ну ее к черту, эту картину, – а пойти, скажем, в Летний или там Михайловский сад, и он даже остановился у дверей контроля в неуверенности, но сзади его подтолкнули, потому что всем надо в кинотеатр, а девушка, когда подавала билет, только на него и смотрела, так что в фойе прошла вообще уже спиной – деться тут было некуда, вышло так, что он только замешкался почему-то, ну как вроде ища билет, который сунул неизвестно куда, – он был в кулаке, этот билет, – и вот ему оторвали корешок, и вот он стоит в фойе рядом с девушкой, ярко освещенный и у всех на виду.
Тут было что-то от того самого сна, когда вдруг оказываешься без штанов. Встаешь, к примеру, чтобы выйти из автобуса, а оказывается, что ты без штанов. В ватнике, к примеру, а без штанов. Тут наверняка было что-то от этого, тем более что есть же что-то и сладостное в этом сне. И тут тоже было: почему-то ведь он все-таки не удрал от девушки и вот стоит с ней рядом, разглядел теперь все – а не уходит. А идет себе без штанов по автобусу. А разглядел он, что короткая ее прическа – и не прическа вроде, а недавно отросшие волосы, к тому же перекрашенные до ломкости, что – задрипанный, в обтяжку, вроде бы мужской пиджак с загибающимися, как собачьи уши, старомодными лацканами, а под пиджаком – ковбойка, тоже вроде бы мужская и давно не стиранная, ну юбка-то, конечно, – юбка, но на ногах что-то невозможное: стоптанное, бесформенное, – и чулок нет. Это ведь, конечно, кто же скажет… И он стоит с ней рядом, и никто не поймет в том смысле, что случайно он тут оказался и просто так себе стоит, – так она на него смотрит. Да ведь где-то он и уходить не хочет. А раз не хочет, то говорит:
– Так кому же вы все-таки говорили, что скоты?
– А как же их еще назвать! Скоты и есть. Совсем бедная женщина, старушка, в очереди, а у нее деньги украли, двадцать рублей. Хоть бы знали, у кого крадут… А то старушка, бедная, в очереди…
– Ну да, – сказал он, – понимаю. Действительно. В очереди…
Ну что это я? Господи! – мучительно подумал он. Что-то извивалось внутри от неудобства. Старушка… Кретин. Откуда ни глянь – кретин.
Девушка же испытывала другое неудобство. Как будто у нее все там перемешалось под пиджаком и юбкой, и сейчас она старалась, чтобы все эти тряпицы нашли свое место. Она вцеплялась в юбку и в пиджак и, придерживая то, во что вцепилась, перекручивалась всем телом, бедрами и бюстом, и ненадолго вроде бы все садилось на свои места. До следующего раза. От того, что она все это проделывала у всех на виду, она неудобства не испытывала. По-видимому, за нее это с лихвой испытывал Бобышев. Так оно, конечно, и было. И надо было, в конце концов, уж если не расходиться вовсе, то куда-либо скрыться с глаз, а там, в кино, когда уже погасят свет, думал Бобышев, все будет уже ничего.
Они прошли вперед, и он вдруг почувствовал, что она взяла его под руку. Крепенько так взяла, ощутимо. Показался буфет. Там уже сидели и пили свой лимонад и пиво разные люди. Зрители. И это было не то место, где бы сейчас хотел оказаться Бобышев. «Зрители…» – подумал он ядовито. Но девушка уже сказала следующее:
– Жутко хочу что-нибудь съесть. Я сегодня еще не завтракала.
Но тут уж, слава богу, были и обстоятельства: у Бобышева действительно был только рубль. Тут уж он мог такое сказать – были бы деньги, то и не смог, – но тут он сказал с облегчением:
– У меня, как назло, денег нет.
– У меня есть, – сказала она. – На бутерброд.
И они попали в буфет. Тут уж нечего было поделать. Потому что все мог сейчас проделать Бобышев – одного не мог: показать девушке, что он ее стесняется. И он шел с ней между столиками крохотного буфета, казалось ему, бесконечно долго.
И в это недолгое время, что он шел, тяжеловатые мысли вспархивали в его мозгу, большие и шуршащие, как совы. Эти мысли, эти совы, были о том, что и раньше бывало вскользь, но теперь они были порезче, так что, по крайней мере, не приходилось уже сомневаться в их существовании: были они или не были. Были. Были они о том, почему же он стыдится этой девушки, раз уж с ней идет, и как это позорно – стыдиться кого-то перед кем-то и гораздо сильнее, чем себя перед собой. И никакого объяснения этому, кроме того, что последнего никто не видит, Бобышев не находил. А уж это вовсе подло, думал Бобышев. Это-то ладно, но то, что он сказал, пока в его мозгу летали эти совы, поразило его еще сильнее.









































