Читать книгу "Аптекарский остров (сборник)"
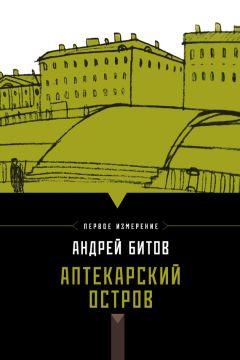
Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Потом следовала вторая картинка. Он стоял на краю, ему надо было первому бросить горсть земли. Все как бы отступили, исчезли, их не стало. Он стоял на краю, и впереди ничего не было. Только ровный свет вдруг разлился кругом, пробилось солнце. А Инфантьев все стоял неподвижно на краю и как будто слушал музыку. Она упала на него вместе со светом, протяжная и медленная, одинаковая и как бы без конца повторяющаяся. Сверху вдруг пошел легкий снег, а люди отступили и как бы разлетелись. И этот снег с солнцем, и протяжный музыкальный звук, и какое-то безмерное разбегание от него, как от центра взрыва, убегание, отдаление от него всех остальных людей в далекую, все убыстряющуюся и разворачивающуюся бесконечность, словно дунули на одуванчик и он разлетелся во все стороны… И вот он все стоит и стоит на краю, и впереди ничего – молочная пустота, и снег с солнцем откуда-то сверху и непонятно откуда, и странное разбегание поворачивающихся лиц за спиной и удаление их в бесконечность – и вдруг сырым звуком упала на крышку земля. Свет, свет, свет…
И потом уже третья… Когда Инфантьев, подталкиваемый и поддерживаемый кем-то, должен был идти назад, по-видимому, домой… Натальи Владимировны теперь не было. Инфантьев стоял в самом низу склона, почти у воды. Полоска желтого песка – и озеро. Никаких могил перед ним, лишь ее темный холмик. И вот, когда он повернулся (его повернули) идти назад, вверх по склону, то вдруг увидел соседнюю могилу и удивился. Туповато замер, разглядывая. Она была обнесена сеткой с крышей: не то домик, не то веранда. В домике были красивая плита и небольшой обелиск в головах плиты. В обелиск был вделан портрет молодого усатого мужчины с приятным и умным лицом. Но, по плите судя, умер он пятидесяти двух лет, так что так хорошо выглядеть не должен был бы. Это была, по-видимому, более ранняя фотография. Рядом с плитой была аккуратная скамеечка, все было в самом аккуратном виде. А на плите, и это было удивительнее всего, расклевывал конфету живой воробей.
После похорон Инфантьев долгое время был не в силах посетить могилу жены. Только весной, когда уже сошел снег и был удивительный день, он поехал. Узнать про памятник.
Пока он ехал, а ехал он долго, на трамвае, и выехал уже за черту города, и скоро было выходить, откуда-то нагнало туч и потемнело. Инфантьев заметил это вдруг: было солнце – стали сумерки. Он удивился, что не заметил этого раньше, и, только удивившись, понял, что всю долгую дорогу был словно погружен куда-то. То есть теперь он не мог вспомнить ни как он ехал, ни что видел из окна, ни тех, кто входил на остановках. И тут он понял, что ни о чем таком, о чем можно было бы так задуматься и погрузиться (во что? куда?), он не думал. Да, действительно, в общепринятом смысле не думал. Но был же весь поглощен? И тогда он вспомнил чем. И тут же смутился, и даже покраснел, и обернулся налево-направо, словно могли что-нибудь за ним заметить. Но пассажиры ничего не подозревали. И вообще их было трое.
И дремал кондуктор. Собственно, это было глупо, что Инфантьев озирался. Он тут же это понял, что ничего на лбу у него написано не было.
Если бы не это внезапное потемнение, подумал Инфантьев, я бы ничего такого за собой не заметил, а просто бы вышел и забыл все, что происходило в моем мозгу за долгую дорогу. Надо же… Нелепо это все.
…Такая долгая дорога – и Ната, вдруг она входит в трамвай, а за окнами, в обе трамвайных стены, – небо (трамвай ползет по горе) и сосны, они шумят, а она входит, тонкая, неслышная. Входит, и – что же? – вдруг ему страшно так. Нет, она живая. Но именно потому, что солнце, и небо, и сосны, и трамвай ползет в гору, он кричит, но, странно, – он молчит. Только рот приоткрыл и молчит. А она палец к губам поднесла, и на него смотрит, и к нему идет. Неслышно так. Но никто из пассажиров даже внимания не обращает: та смотрит в окно, этот дремлет. А Ната подходит и говорит: «Ну как ты?» А он хочет сказать, что плохо, плохо все, нехорошо… «Ничего, – говорит он, – скучно нам без тебя». – «Это хорошо, – говорит она, – это хорошо». Но Инфантьев как-то странно чувствует, что все нормально, естественно и что в то же время не может быть, все это невозможно, чтобы было еще какое-то «там». А так это просто и нужно – «там»… «Ну как там?» – спрашивает он почему-то робко и шепотом. «Что там?» – спрашивает он с необычайным любопытством, страхом и уважением, особым уважением к человеку, который знает это наверняка, а сейчас и он, Инфантьев, наконец узнает правду. «Что там?» – спрашивает Инфантьев. «Вот», – говорит она и показывает рукой в окно. Он смотрит в окно: там голубое-голубое небо (трамвай ползет в гору). «Да», – вздыхает он. Оборачивается – и нет Наты.
Что ж, если сейчас сумерки и поэтому он вдруг заметил за собой такие вещи, то ведь и раньше было… Вот сидит он дома и думает: то, что Ната умерла, это так нелепо, что и быть не может. Тем более похороны, кладбище – все это ушло (потому что противоестественно, чтобы такое задержалось), ушло, и потому просто почему-то долго нет Наты. Сидит он за столом – и не обернуться, потому что вдруг пронизывает мысль, почему бы ей сейчас не войти, очень просто – войти и сесть рядом; он и не удивился бы. И тут звонок. Инфантьев побелел, подошел к двери, открыл – никого. Да и во сне это было, и не раз. Не так уж часто, но не раз. Она приходит в дом, и видит ее он один. Дочка не видит, и соседи не видят. И они беседуют о доме, какое-то необыкновенное спокойствие и мудрость приходят тогда к нему, Ната ходит по комнатам, говорит, но только он это видит, остальные – нет. И у них с Натой уговор, она просила: она будет приходить, но он не должен об этом никому, никому…
Глупо так: ехал – солнце, приехал – тучи. Кладбище помрачнело, и тут он особенно понял, какое это удивительное кладбище: мрачным оно все равно не было. Просто сумерки, и шумят сосны. Он сошел по крутому берегу, по узенькой между могилами тропке – и вот он на берегу. Как-то очень спокойно и темно было озеро. Гладкое, оно, даже непонятно почему, шлепало по гладкой отмели. Инфантьев удивился тому, как он спокойно смотрит на могилу. Конечно, он сейчас заторможен, и глаза все где-то замирают. И еще может быть так, что не осознает, что Ната – под этим камнем. Это ведь тоже противоестественно – такое сознание. На самом деле это просто место, просто память, просто принадлежность: только поэтому и можно ходить на кладбище. Инфантьев заметил, что на соседней могиле, которая такая видная, домиком, кто-то был, была женщина. Так он стоял, больше у озера, чем у могилы, и так ему было хорошо и спокойно, неподвижно ему было и безмысленно – и вдруг загрохотало над самым озером и по воде, и первые круглые и редкие капли свернулись серыми шариками на песке. Совершенно механически Инфантьев посмотрел в небо. Движение было простым и нелепым, потому что откуда же, как не с неба? Пока он смотрел вверх, капли застучали чаще, и он услышал, как его окликнули. Он вздрогнул и посмотрел на соседнюю могилу. Женщина стояла к нему лицом, манила рукой и говорила: «Идите сюда, идите. Промокнете ведь». Инфантьев подошел. «У меня крыша, – сказала она. – Проходите внутрь». И только он прошел в этот сетчатый домик, дождь совсем уж хлынул. Инфантьев поблагодарил и огляделся. К одной из стен-сеток был прислонен велосипед, и крупные дождины стучали по его седлу. И тут Инфантьев совершенно поразился: на широкой низкой плите были разложены в кружок конфеты. «Мишка на Севере». Инфантьев покосился на женщину. Но тут все было нормально: у нее было очень спокойное, даже успокоенное лицо, и они с Инфантьевым были сверстники. Он взглянул и спрятал взгляд. «У нас сегодня праздник», – сказала она. Инфантьеву стало не по себе. Совсем стемнело, грохотало, и молнии, казалось, били в черную грудь озера. Весь этот сетчатый домик был обложен дождем, и струи, пролетая сквозь сетку, оставляли сухой только маленькую площадку в центре. Все это было грозно и весело, то, что творилось снаружи. А тут еще эта странная женщина с конфетами. Может, того?.. «Какой праздник?» – спросил он на всякий случай. «Мишин день рождения, – сказала она, и показала на портрет усатого мужчины и, взглянув на Инфантьева, заговорила часто, как побежала: – Он у меня полярник был, вот “Мишка на Севере”, я ему большого мишку на плиту поставила, только украли, вон, вон – следы, тогда-то я и сделала загородку, чтобы запиралась, мишка такой красивый был, белый…»
Небо лопнуло как раз над озером. В нем получилась дыра, и сквозь нее било солнце. А тучи по-прежнему занимали небо, и дождь хлестал, и тяжело шуршали сосны. Но все преобразилось необычайно. Дождь блестел и рыл песок, а солнце, словно прожектор, освещало мокрые сосны, и лоснились плиты, и, испещренное, сверкало озеро. Грохотало уже где-то подальше. Инфантьев даже сказал:
– Здорово.
– Да, – сказала женщина, – мы с Мишей очень любим это место.
«Особенно – Миша…» – подумал Инфантьев и вдруг мучительно покраснел.
– Ах, я вам не объяснила! – также не заговорила – побежала женщина. – Миша рассказывал, еще когда мы познакомились, туман был кромешный, нос к носу с белым мишкой столкнулся, полз, полз, вдруг чувствует: что это такое мокрое и теплое? А это мишкин нос, а мишка ничего с ним не сделал и ушел, вот я и поставила мишку на плиту, носом к портрету…
– Да, – сказал Инфантьев, – вот ведь как…
– А вы угощайтесь, – сказала женщина, – вы берите конфеты, берите.
– Ну что вы… – сказал Инфантьев.
Они сидели на скамеечке около плиты. Инфантьев жевал конфету. Дыра в небе разрослась – и вот уже чистых полнеба, и все сверкает, умытое. И Инфантьеву стало совсем не по себе. Потому что раньше был дождь, и тогда было понятно, почему он находится в этой клетке и слушает эту женщину, а теперь дождя не было и понятно не было. И многое было непонятно в рассказе женщины. Судя по всему, она ездит сюда чуть не каждый день, вот и велосипед купила специально для этого. Хотела мотороллер, побоялась – ограбят, да еще на кладбище. Вот ведь понимает, что могут ограбить? И понимает ведь, что все-таки кладбище? Памятник такой отгрохала, конфеты носит, а сама сказала, что они много лет жили врозь. Он как-то не уловил, как она это сказала. Может, в экспедиции? Нет, она не так сказала. Женщина все бежала по тонким, слитным словам, а Инфантьев чувствовал себя не в своей тарелке: тут целая жизнь, история, а он – при чем?.. да и нормальная ли она?.. и дождь перестал. Он жевал конфеты, и это ему тоже было неловко. Но не жевать и только слушать – это было еще хуже. Конфеты… какие вкусные! И ему вдруг показалось: сколько лет он не ел их? Он и не мог вспомнить, когда в последний. Только конфеты из детства вспоминались ему. А он мог бы хоть каждый день… И эта женщина… При всем том, что ему было неловко и не удавалось следить за ее речью, почему-то ему было очень нужно слушать эту речь, сбивчивую и слитную, и то, о чем она говорила, тоже было очень важным и даже близким. С точки зрения последовательности все было непонятным в ее речи. И в то же время что-то самое главное, суть впервые дошла до Инфантьева. И он подумал, что, может, всю жизнь слушал многое, что можно было бы понять, и не понимал. Потому что за понимание считал только ясную последовательность, только вытекание одного из другого. А именно этот бегущий непоследовательный рассказ был нужен ему сейчас, потому что, отбрасывая последовательность, он выражал суть. Инфантьев даже заерзал на скамейке, слишком сложным и невыразимым было то, что он в ту минуту думал и понимал. И может, именно сейчас не надо было стремиться сформулировать, что же это такое, и тогда будет точнее…
Женщина посмотрела в сторону могилы Натальи Владимировны…
– Жена носила вашу фамилию? – спросила она задумчиво.
– Мою… – посомневавшись, подтвердил Инфантьев.
– Так у вас отец священник? – обрадовалась женщина.
– Почему?.. – опешил Инфантьев.
– А как же!.. – опять заспешила женщина своим семенящим говорком. – Сами посудите… Вы русский, ведь вы русский?
– Русский, – надулся Инфантьев.
– А корень фамилии, – бежала дальше женщина, не услышав его, – более чем французский… Даже испанский. Инфант – царственное дитя, наследник. А вы уж, наверное, родом не из Испании…
– Это уж точно, – обрадовался Инфантьев хоть чему-то понятному. – Я здесь родился.
– А ваш отец?
– На Волге… – сказал Инфантьев. – Под Астраханью… Постойте, – обрадовался он, – он ведь и действительно, кажется, немножко в семинарии учился!.. Но потом, потом, – спохватился Инфантьев, – совсем не то. Слесарь он, – рассердился Инфантьев.
– Ну вот видите, вот видите! – ликовала женщина. – Значит, ваш дед был священник.
– Не был, – окончательно захлопнулся Инфантьев. – Откуда вы взяли?
– А как же, а как же! Это так интересно!.. – восклицала женщина. – Это как раз провинциальные священники такие странные фамилии на Руси напридумывали. Когда основные церковные фамилии были уже все разобраны – Преображенский, Воскресенский, Успенский, Богоявленский… то и стали выдумывать понепонятней, лишь бы красиво: я, например, дружу с батюшкой по фамилии Феноменов… вот и вы – Инфантьев.
– М-да, – ничего не сказал Инфантьев. Потом все-таки нашелся: – Как в цирке.
– Именно, именно! Артистические фамилии тоже… – обрадовалась женщина. – Какое тонкое наблюдение! В цирке чаще итальянские, но и Алмазовы, Изумрудовы. Очень. Я никогда так не думала. Вот интересно: Монахов – такая актерская фамилия, а ведь из священников. Наверное, тоже: отец – священник, сын – актер. Представляете, драма? конфликт?
– Да, но мой дед не был священником. – Инфантьев стал похож на сейф.
– Был, был! Уверяю вас! Вот на Волге где-нибудь и был деревенским батюшкой. И ваш прадед и прапрадед… Вот и ваш отец был в семинарию определен, хоть и не кончил, как вы говорите. Иначе такой фамилии никак быть не могло. Или вы настаиваете, что вы из борцов?
– То есть как? Ну да. Что вы, впрочем, имеете в виду? – запутался Инфантьев.
– Цирк! – рассмеялась женщина.
Инфантьев сам засунул себе в рот конфету, заткнул.
А женщина все бежала по тонким и слитным словам, и было в них, как она мчалась на такси через весь Союз, узнав о смерти мужа, как у нее не было денег и к тому же разграбили ее квартиру, и как они все ушли на памятник, и как у нее был сын, школьник, и как трудно, трудно, трудно, и сколько счастья, счастья, и что-то настолько уже непонятное и самое ясное было в конце, но этого было не задержать, не запомнить – только почувствовать, и, может, память о своем чувстве…
– Да, – вздохнул Инфантьев. – Вот ведь как…
– А сын у меня теперь взрослый… – сказала она.
Инфантьев вдруг понял, как много лет прошло с тех пор, как давно было все то, о чем говорила женщина, и как это было сейчас, удивительно сейчас.
Женщина словно поняла, о чем подумал Инфантьев.
– Мне кажется: я с ним общаюсь, – сказала она. – Да и не кажется – точно.
– Да, – сказал Инфантьев и, все-таки не понимая, взглянул на нее.
– Я знаю, – сказала женщина, – у вас горя больше. У вас недавно…
– Да, – сказал Инфантьев просто. – Пусто так…
– А я вот, если мне плохо, всегда приеду и с ним разговариваю. Он мне помолчит – и мне легче.
– Вы, наверно, в бога верите?.. – шепотом спросил Инфантьев и осторожно взглянул на голубой купол.
Женщина заметила его взгляд и непонятно улыбнулась.
– Да нет, – сказала она. – Я там и не была никогда. – И тоже взглянула на купол.
– Я был. – Инфантьев вздохнул. – Случайно… Странно как-то… Что поделаешь?.. – забормотал он уж вовсе бессмысленно. – Так вы с ним разговариваете?
– Вы не удивляйтесь, – сказала женщина. – Я ведь ученый человек. Только что же это, если не общение?
– Ну да, – сказал Инфантьев, – я просто так не думал еще.
– Тем более что его там и нет, – сказала она и показала на плиту.
– Как?..
– Так ведь и у вас нет? Это ведь памятник, память… И место красивое.
– И у меня нет, – согласился Инфантьев.
– Они живые, конечно, – сказала женщина. – Иначе как бы мы с ними разговаривали?
– Я как-то так не догадался рассудить, – пораженный, протянул Инфантьев.
– Он даже приходит ко мне…
– И к вам?! – воскликнул Инфантьев.
* * *
Он ехал домой, трамвай полз под гору. Небо побледнело и потемнело, сосны по обрыву, и сквозь сосны мелькало красное солнце.
«Да, так я не думал, – повторял Инфантьев. – Я думал, что это такое? А это, оказывается, вот что».
1961, 1965
Дачная местность
(Дубль)
Жизнь в ветреную погоду
Наконец они переехали.
Его привычно поразило, как разросся сад и как сам участок будто уменьшился, и дача, заслоненная зеленью, не показалась ему такой громоздкой, как в прошлом году. Деревья, недавно небольшие, нынче достигали окон второго этажа. Дача, все еще не достроенная, уже начала ветшать, сруб, так и не обшитый, почернел еще больше, и вся она, так нелепо и безвкусно торчавшая раньше, как бы обжилась, вросла и впервые понравилась ему.
Двери отворялись плохо, и в доме было полутемно, как вечером. Окна были забиты снаружи щитами, и солнечный свет, пробиваясь в щели, четко отделял одну доску щита от другой и так же аккуратно разлиновал пол.
– Сережа, если я вам больше не нужен, то я поеду… – неуверенно сказал отец, и по его тону Сергей понял, что отец колеблется между тем, чтобы остаться и помочь им в устройстве, и тем, что ему не очень-то этого хочется. – Я хотел бы вернуться, пока еще не очень много машин…
– Конечно, поезжай, – сказал Сергей, осторожно наступая на солнечную полоску. – Спасибо, что перевез.
Провожая отца до машины, он подумал, что дача, которая, по-видимому, никогда не будет достроена, как-то очень соответствует этой «декавешке», которая никогда не станет приличной машиной. Если у родителей жены был как бы загородный дом, то у его отца была как бы машина. Таким образом, наступало как бы равновесие.
Машина наконец завелась, и отец уехал.
Сергей вернулся в дом. Жена варила кашку сыну. Сын, стоя в кроватке, топал босой ногой и радостно протягивал неясно кому свой чулок. Сергей подумал о предстоящих ему таких простых и редких для него делах: раскупорить окна, наколоть дров, протопить дом, – и что-то растянуло его рот до ушей, та улыбка, которая рождается как бы помимо нас, которой мы не в силах сдержать.
Сон его не был глубок в эту ночь, как всегда на новом месте. Проснулся он рано и таким свободным, что даже растерялся. Жена его, как и в городе, была прикована к сыну, и забот у нее даже прибавилось. У него же оказалось так много времени, что трудом было хотя бы прожить его. Переезд на дачу стал для него действительно переселением: изменились все параметры его существования, и время в первую очередь. Слоняясь, он включал приемник: диктор объявлял программу передач, и та тщательность, с которой он называл время, вызвала у Сергея усмешку. Он взглянул на часы – они стояли. «Московское время ноль часов, ноль минут, ноль секунд», – сказал Сергей.
Изменились и расстояния. Ему вдруг не надо стало поспевать куда-либо к условленному часу, не надо стало ждать автобусов, которые то опаздывали, то не открывали дверей, – в своих передвижениях он уже полностью зависел от себя, и расстояния, которые в городе казались неизбежно связанными с транспортом, тут преодолевались только пешком.
В этом смысле он внезапно стал владельцем личного транспорта – хотел ехал, хотел не ехал, выезжал из своего парка, когда ему заблагорассудится, и был в этом независим. Послонявшись по дому и затопив жене плиту, он вышел прогуляться и, удивляясь этому новому способу передвижения, проложил маршруты к озеру и в магазин, и, когда опять очутился дома, было по-прежнему рано: в городе он бы еще спал. Эта чрезмерность предстоящего времени насторожила его. «Ну что ж, можно наконец начать работать…» – неуверенно сказал он и с необыкновенным тщанием, не жалея времени, даже как-то желая, чтобы оно побежало с привычной для него скоростью и перестало быть так уж относительно, принялся устраивать себе рабочее место.
Он выбрал второй, не достроенный еще этаж и внес туда стол, стул, нехитрый свой инвентарь. Времени за это время никакого не прошло. Оно по-прежнему представлялось ему штилевым морем, его необходимо переплыть, а плавать он словно бы разучился.
Он сел за стол, и ему стало скучно. Лучшего места для работы он не мог себе представить, а работать ему не хотелось. Четыре окна открывались на все четыре стороны света. Они были на уровне крон, и ветки, наверно, стучались бы в стекла, если бы их не отодвигали балкончики; ветки стучали разве по балясинам балкончиков, но этого уже не было слышно.
Так он сидел, неприязненно думая о работе, и вдруг обнаружил, что за окнами испортилась погода. Ветер с силой налетел на его этаж, все затрещало, заскрипело, казалось, тронется сейчас, ныряя, парусный корабль. Первые крупные капли ударили в северное окно; с ними налетел совсем уж шквал; листва деревьев, закрывавшая окна, вывернулась наизнанку, как зонтик, засеребрилась и словно заструилась. Сергей с удовольствием отдавался представлению, как взлетает его этаж, и тогда уже не ветер, а этаж понесся с такой скоростью, что рассекал воздух и образовывал ветер, – замелькали, проносясь в окнах, деревья, леса и горы, сливаясь в неразличимую полосу. Этаж гудел под порывами, можно было, слившись с ним, ощущать его напряжение, натяжку всяких там стропил, столбов, свай, которые Сергей называл про себя то мачтами, то струнами, в то время как все в целом он называл то кораблем, то органом. Каким-то особым уютом наполнялось от непогоды его обиталище, и ему уже ничего не хотелось бы ни изменить, ни поправить в нем. И торчащие ребра дома, и шлак под ногами, и паутина повсюду, и кучки запыленного мусора – все это казалось единственным решением.
Ветер вдруг спал, исчезло мелькание листвы за окнами, и по крыше загремел ливень. Сергей поднял голову и словно бы впервые увидел, что потолка над ним не было – была сразу крыша. Она то уходила вверх острыми углами, то приближалась к нему тупыми – это он называл про себя – сводами, тогда все его помещение обозначилось как собор, что уже совсем соединилось с представлением органа… Но этаж уже не гудел, так как не стало ветра, а бренчала под ударами ливня крыша; ливень оказался крупным градом; подойдя к окну, Сергей увидел прыгающие на полу балкона градины и сказал себе, что они с яйцо, с куриное яйцо, хотя они были не больше драже. Звуки переменились вокруг него, и, помимо бренчания шифера над ним, он услышал другие, живые, как бы рвущиеся звуки и, обернувшись на них, увидел, что с крыши капает вода в расставленные там и сям поржавевшие баночки. Чувство постоянства и устойчивости приходило, глядя на эти баночки, уже не первый год стоящие тут как раз в тех местах, где протекает крыша. Ощущение этого всего могло оказаться началом его работы, но капли стали попадать ему на стол, на бумаги, хотя и редкие капли, но крупные. Со столом в руках он бродил по этажу, приспосабливал стол в разных углах, но и там понемногу капало. Он искал непромокаемое место опытным путем, как бы на ощупь, и уже почти нашел его, как услышал снизу крики жены, только что обнаружившей дождь. До этого она, по-видимому, спала, а теперь кричала, что у нее что-то промокнет в саду. Сергей спустился и, проворчав ей: «Всегда ты оставляешь все под открытым небом», – вышел в сад. Но дождь уже кончился, и Сергей вышел в сад как раз, чтобы увидеть, как тот внезапно оборвался: как покачиваются разбухшие, нового цвета листья, каждый лист более отдельный, чем до дождя, как этот лист вдруг начинает шевелиться в неподвижном и густом воздухе, словно оживая, выгибаться и распрямлять спинку и скатывать с себя большую алмазную каплю, как тяжелую ношу, вздыхая с радостью и облегчением и подставляясь только что выбившемуся и тоже словно бы посвежевшему солнечному лучу.
Так потекли дни. Время было неподвижно, а дни уходили.
И странно было, оглянувшись, увидеть, что их прошло уже так много. И он никак не мог освоиться с тем, что прохождение времени можно было видеть только взглядом назад и только большими отрезками, тогда как в каждый настоящий момент было оно неподвижно. Работать он не работал. Ложась спать, он не понимал, куда девалось время.
Если в городе он каждое утро просыпался с ощущением, что вчера вечером был не совсем нормален, то есть болтал неве-домо что, лишнее, личное, какие-то нелепые делал жесты и стыдные поступки (какие точно, было и не вспомнить, словно спьяну), если к нему каждое утро первым ощущением приходила стыдность вчерашнего вечера, и он тут же, одеваясь, отмахивался от этого чувства, и оно исчезало, и дальше следовал день, суетный и безотчетный, вплоть до «не-совсем-нормальности-вечером», и только искорка отчета должна была мелькнуть следующим утром и погаснуть, пока он натягивает брюки, – если в городе все было именно так, то за городом все было иначе.
За городом, в кругу семьи, на солнце, воздухе и воде, он, напротив, внешне успокаивался, молодел, в общем, начинал хорошо выглядеть. Тут был покой, а дела свои он очень толково успел все либо закончить, либо отложить – специально, чтобы хотя бы за городом иметь возможность спокойно жить и работать над тем, над чем работать считал он своим долгом.
В то же время он, маявшийся в городе, проклинавший суету и до тонкости знавший и любивший обличать всяческие ее оттенки, он, наконец избавившийся от нее и получивший все те возможности, которых не имел, вместо радости и деятельности ощущал лишь некую значительную пустоту, которую заполнить ему было нечем, потому что тем, чем он собирался ее заполнить, для чего он и старался эту пустоту создать, этим заниматься ему теперь не хотелось. К тому же он успел до некоторой степени устать от вечной борьбы и возни с самим собой, и, следовательно, ему скучно уже было ругать себя за лень и безделье, обличать, бичевать и все равно не сдвигаться с места, после чего думать обо всем этом комплексе – и он не думал.
Временами он ощущал даже некоторое удовлетворение от этого своего состояния. Умом он уже давно понимал (это было очень похоже на то, как он ощущал и понимал суету, это были понимания, находящиеся в прямом родстве), что главное – это просто жить, быть живым, и поэтому, какое бы ни было твое состояние – плодотворное, неплодотворное, – лишь бы было живое, без омертвений, а успевать… то что ж успевать: все равно неживой ты уже ничего не успеешь.
Это бездеятельное состояние открыло ему, например, что у него есть сын. Барахтаясь в море времени, он все больше сидел дома и постоянно видел рядом сына, существо столь совершенно живое, что становилось стыдно всего неживого в себе, а тем более такой неживой вещи, как фиксация и переживание в себе этого неживого. Такая своего рода оглядка и равнение на сына случались и в городе, когда он, засуеченный и несчастный, после тормошливых встреч и длинных до потери реальности разговоров внезапно обнаруживал себя дома и вдруг видел сына, о котором и не вспомнил за весь день ни разу, а тот расплывался, радуясь его приходу. Тогда он ощущал одновременно какой-то значительный прилив и отлив: прилив к сыну, отлив от своего дня. Но в городе это бывало как-то мельком, не входило в сознание, ощущение, и только как-то быстро привыкал он: ну да, пришел домой, и тут его сын – ничего удивительного… И начинался обычный сумасшедший вечер.
За городом же то ли видел он больше деревьев и существ – коров и лошадей, телят и жеребят, – то ли воздух был здоровее, то ли больше сидел он дома и возился с ребенком, но на сына стал смотреть иначе.
Он думал о сыне, и вдруг становились понятны ему вещи, к которым он как-то, не заметив, когда это произошло, потерял вкус и чувствительность, вещи необыкновенно простые и бесконечные в своей простоте: радость и наслаждение, например. Иногда, томясь от безделья, вспоминая город, слышал он вдруг какое-нибудь глупое гульканье сына и тогда оборачивался и видел протянутую ручку и радость, раскрывающуюся на его лице оттого лишь, что они видят и узнают друг друга… Тогда Сергей ощущал, как отлетает от него неживое его облако и что-то удивительно счастливое и легкое разворачивается в его груди, что можно назвать по-всякому и можно назвать любовью. Он бывал всерьез благодарен сыну, так щедро делившемуся с ним жизнью, излучавшему жизнь, и бессознательность этого дара не смущала Сергея в его благодарности, а скорее убеждала. Он удивлялся, глядя на сына, удивлялся наивно и простовато. И, приближаясь к истине примитива и к вере, даже добродушно не усмехался над собой, думая такие, например, вещи: откуда он взялся такой? Живой, и все у него уже есть? И руки, и глаза, и даже уши? И на него, отца, похож?
Знание того, как получаются дети, не расхолаживало его, он отбрасывал это знание как ничего не объясняющее, и тогда еще больше удивляло его появление сына – откуда? Нет, если по-настоящему, до конца задуматься, то откуда? Или беспомощность и слабость сына поражали Сергея: что вот убить его ничего не стоит одним пальцем, а жизни в этом тельце заключено! – где только помещается? Удивлялся молодости сына, нежности его кожи – какая же он по сравнению с сыном рухлядь! И требовательность бессилия поражала Сергея: вот ведь сын не сомневается, что ему что-то нужно, ему просто нужно, он хочет, и все подчиняются ему и подвластны, и лишь мнимая зависимость сына от них, его родителей: на самом деле родители от него зависят, подчиняются и исполняют, служат ему.
Каждый день Сергей гулял с сыном, катал его в коляске. Сын уже пробовал ходить, и однажды Сергей высадил его из коляски. Сын впервые стоял на земле. Сергей медленно катил коляску, а сын держался за коляску и впервые шел по улице рядом с отцом. Был ветер, и от этого небо казалось высоким, а солнце – необычно маленьким и далеким. На лужке ворошили сено муж и жена, у которых они брали молоко, и их не то дети, не то внуки, не то дети и внуки их дачников кувыркались на сене; вдали гудела электричка. А Сергей шел так медленно, как никогда не ходил, потому что впервые рядом с ним, непонятно высоко поднимая неверные ножки, шел его сын. И может, оттого, что так медленно, Сергей внимал и впитывал все вокруг гораздо сильнее, подробнее, материальнее, чем обычно, словно бы жизнь вокруг него или в нем во много раз увеличивала свою концентрацию на каждый метр пути, каждый вдох, каждый скворечник, или куст, или щепку в дорожной пыли… И вдруг сын пришел в необычное возбуждение и, забыв, что ходить без поддержки еще не может, бросил эту поддержку и шагнул совсем в сторону. Протягивая ручку к тому, что видел перед собой, он сказал все слова, что знал: «мама, папа, тапок, фу и всё». «Всё, всё, всё!» – радостно говорил он, обозначая то, что видел. А видел он кошку, которая перебегала им дорогу: существо незнакомое, но живое. Это была неинтересная кошка, некрасивая и степенная; она, видно, давно жила на свете, и до нее не дошло излучение сына. Она не приостановилась и не припустила, столь пристальное к ней внимание нисколько не тронуло ее, и, удивляя Сергея постоянством и размеренностью движений, скрылась в кустах по своим делам. Сергей успел подхватить сына, шагнувшего столь самоотверженно в радости узнавания. И вдруг так ощутил и понял сына, как не чувствовал его никогда, и что-то давно забытое и ушедшее вспомнил о себе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































