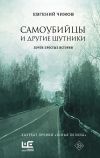Текст книги "Нано и порно"

Автор книги: Андрей Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Глава девятая
Рак, однако, довольно скверная штука. И, говорят, зараза эта довольно редко излечивается. Вот даже СПИД и то лучше. От СПИДа хоть в самом конце не кричат. А от рака, говорят, орут, как резаные. Аж на стену от боли лезут. А ничего поделать-то уже нельзя. Разве только что морфию впрыснуть. Да только чего он, морфий-то? Все равно пиздец! А умирать лучше в ясности. Взвесить, блин, всю свою жизнь и спокойно по кусочкам разложить – здесь, что сделал, тут, что мог сделать, а там, чего так и не сделал. Только вот боль, блядь, охуительная думать не дает! И от морфия от этого опять же – ни хуя никакой ясности. Плывет все перед глазами в пузырях, а ведь ты, сука, уже отходишь. Отчаливаешь, можно сказать, в Лету, пидарас. Хотя, почему, собственно, пидарас? Да и разве употребляются такие слова на смертном одре? Нет, господа, на смертном одре все должно быть чинно-починно, и слова такие не должно употреблять. Должны быть другие слова, возвышенные – «торжество», например, или «мрак вечный». А тут гниль, гнием, можно сказать, заживо, а после выбрасывают на помойку. Даже вот умереть и то не дают спокойно. Обязательно и почему-то именно в самом конце жизнь человеческую надо изгадить каким-нибудь раком. А ведь это же, господа, человек-с! Нет, право, лучше бы уж убили в подъезде. Тюкнули бы чем-нибудь таким тяжеленьким по голове. Брык – копыта откинул и ничего даже и не почувствовал. Но нет, ведь, закричат – насилие! А рак, разве не насилие?
Но что это мы все о плохом, да о плохом. Можно ведь и о хорошем. В плохом смысле. То есть, о хорошем смысле в плохом. Вот, допустим, загибаешься ты от рака. Желтый лежишь весь, хуево тебе, от боли корчишься. И вдруг открывается дверь и в палату входит твоя первая и единственная любовь. Она принесла тебе белые розы и капли еще дрожат на их белых и нежных лепестках. Ты не видел ее целую вечность. Но любовь ведь не умирает… Ну, скажите мне на милость, господа, разве у вас не хватит хоть немножечко слез? И вот уже светлеют желтые щеки умирающего, и желтый лоб его наливается розовым румянцем. И звонко звучит последний поцелуй первой любви…
Алексей Петрович сидел на кровати, обхватив голову руками, и рассматривал свой член. В окно вплывало ухмыляющееся лицо уролога. Член Алексея Петровича был, однако, по-прежнему ясен и чист. Он даже слегка поблескивал в полутьме. И было невероятно, чтобы такой красавец и уже где-то там, глубоко внутри, у самого своего основания был поражен какой-то отвратительной болезнью.
Алексей Петрович взял в ладонь и несколько раз совершил священные возвратно-поступательные движения. Красавец откликнулся и стал, наливаясь, расти. К Алексею Петровичу словно бы возвращался смысл.
Все эти последние дни, начиная с памятного визита к Альберту Рафаиловичу и последовавших за ним роковых визитов к Ивану Ивановичу, Осинин пребывал, как на Луне. Как будто бы его взяли за лапы, раскрутили и закинули куда-то, где нет ни воздуха, ни воды, и где все есмь лишь прах и пыль. Нанеся удар своему аналитику (удар оказался столь силен, что Альберт Рафаилович, шумно вздохнув, молитвенно опустил обе руки себе на яйца и тяжело опрокинулся назад, в проем между партами, где так и остался безжизненно лежать), Алексей Петрович в ужасе выскочил из аудитории. Он вдруг осознал всеми фибрами души своей, что дал по причинному месту не кому-нибудь, а своему доброму доктору! То есть тому, кто хотел ему добра и только добра. И раскаяние за содеянное уже настигало Осинина. Эриннии, богини мести, уже распускали за его спиной свои черные крылья. «Ну да теперь-то чего убиваться… – проснулся однако вдруг демоний. – Так лихо, одним ударом, повергнуть в проем между партами целый психоанализ и не испытать никакого сладостного, ликующего чувства! О, эта ваша бесконечная русская совестливость…»
Еще перед первым визитом к урологу, Алексея Петровича, однако, вдруг осенило, что каким-то парадоксальным, непостижимым его уму, способом Альберт Рафаилович все же оказался прав. И именно в поддельности усов, воплощающих силу его учения! Ибо это, наверное, и был тот самый бессмысленный смысл…
В этом странном состоянии полупрозрения Осинин отправился на прием к урологу и во второй раз, чтобы узнать о результатах анализов. Заходя в кабинет, он поймал себя на необычной мысли, что совсем не удивился бы, если бы Иван Иванович Иванов вдруг оказался женщиной.
«Может быть, и весь мир с некоторых пор подделка? – попробовал даже философски обобщить Алексей Петрович. – Да, но тогда и я тоже подделка. А тогда… тогда зачем вообще жить?»
Тут он решил обратиться к своему демонию и спросить его, а не подделка ли и он? На что его демоний ответил серьезно, «уж что-что, а то, что ты не ложен, это точно…»
Как и в первый раз, Иван Иванович Иванов попросил пациента раздеться, и теперь почему-то даже до носков.
– Значит, носки не снимать? – виновато спросил Алексей Петрович.
– Я же сказал!
Осинин покорно повиновался. И носки не снял. Иван Иванович тонко, очень внимательно его оглядел. А потом очень тщательно, с пристрастием, прощупал. Рыжеватые волосинки его один раз даже было слегка коснулись живота Алексея Петровича, отчего тот неприязненно поморщился.
– Что такое? – поднимая голову и замечая неприязнь на лице пациента, строго спросил Иван Иванович. – Я же еще ничего вам не сделал!
– Щекотно.
– А-а, щекотно, – вкрадчиво сказал тогда Иван Иванович и вдруг так глубоко засунул что-то холодное Алексею Петровичу в анал, что тот даже закричал от неожиданности.
– Ничего-с, ничего-с, – жадно вдохнул в себя Иван Иванович аромат страданий, источаемый его жертвой.
– М-мм…
– Так-так, потерпите, – уролог выдернул инструмент и вставил вместо него палец, и теперь уже продолжал шуровать пальцем. – Так-так-так… А, вот он, кажется, нащупал его!
– Да ко-го-о… – мучительно простонал Осинин. – Кто-о т-там у меня?
– Как кто?
Иван Иванович даже вдруг весь как-то победно засиял.
– Рак!!!
– Рак?
От неожиданности Алексей Петрович даже слегка наклонился вперед, соскальзывая.
– Да-с, уважаемый! – радостно закричал Иван Иванович, притягивая его обратно и снова насаживая на палец. – Но вы не беспокойтесь, мы его поймаем! Мы его зарежем-с!
Обнаженный, униженный и, вдобавок, как выяснилось, еще и тяжело больной, Осинин оглянулся и с каким-то неземным, неподдельным, детским удивлением заглянул в сияющие от восторга глаза Ивана Ивановича.
– За что? – только что и смог вымолвить он.
И тогда Иван Иванович почему-то вдруг весь густо и сладко покраснел.
– Как за что? – еле слышно усмехнулся он.
Сидя, однако, сейчас один на один перед зеркалом и держа на ладони свой античный пенис, Алексей Петрович каким-то непосредственным образом знал, что член его абсолютно здоров. Осинин совершил еще несколько возвратно-поступательных движений. Смысл, несомненно, был, смысл напрягался, смысл нарастал. Блеснуло: «Я есмь!» Еще немного… и смысл был готов уже брызнуть на зеркало. Алексей Петрович ясно увидел перед собой своего сына, освобождающего от злокозненных урологов страну. И… с последней каплей, исторгаемой в сладостной судороге, осознал, что в отличие от него, сын его несомненно должен бы стать государственным человеком…
Операция была назначена на среду. Строгая медсестра Капиталина всю неделю усердно точила ножи. Она также точила иглы, крючки и какие-то маленькие медицинские пилочки и пассатижи. Она даже раскалила добела в горне длинный и узкий шомпол с золотистым шаром на конце и благоговейно остудила его в кипящем масле.
Иван Иванович Иванов всю неделю усердно дезинфицировал руки эфиром. Струя газообразного эфира выходила из блестящей никелированной трубы, Иван Иванович осторожно вводил пальцы в облако эфирного пара. Молодому урологу предстояло бороться с пораженной раковою опухолью простатой, а по сему он должен был быть безупречен.
Убедить профессора предоставить ему последнюю возможность возможности стоило Ивану Ивановичу, однако, довольно дорого.
– Я вас умоляю, – чуть ли не рыдал он в ординаторской. – Поверьте, в этом весь, весь смысл моей жизни. Ибо она должна же быть освещена добром! И я хочу это добро сотворить своими руками… понимаете?
Он поднял к лампе свое заплаканное с прилипшими рыжими волосинками лицо и умоляюще посмотрел на профессора.
Профессор молчал, нервно постукивая длинным ногтем, выращенным сознательно на мизинце, как у небезызвестного русско-африканского поэта. Поэт этот, говорят, хоть не был министром, но тоже частенько постукивал ногтем о блестящую поверхность стола. Под плексигласом были разложены разноцветные плакаты с изображениями внешних и внутренних мужских половых органов. На них были нанесены стрелки, напоминающие направления наступательных ударов, как на стратегических военных картах.
Профессор постукивал ногтем и молчал.
– Десять тысяч, – сказал, наконец, тихо Иван Иванович. – Честно, как либерал либералу.
– В баксах?
– В баксах.
– Ну, хорошо… это само собой разумеется. – Профессор снова сделал внушительную паузу. – Но и… все же надо наверстывать упущенные возможности. Точнее возможности возможностей.
– Да, да, конечно, – густо покраснел Иванов, отводя глаза в сторону.
Снова помолчали.
– Вы, кстати, не думайте, валюту я не в карман положу, – первым нарушил молчание профессор. – Это пойдет на оборудование. Новые ножи, понимаете, эфир. Сестричкам опять же надо поднять зарплату, а то бедняжки буквально за гроши ноги задирают… я имею ввиду по этажам.
– Да, нет, я не думаю. Не беспокойтесь.
– А я и не беспокоюсь, – профессор медленно достал золотистую зубочистку и, внимательно глядя на Иванова, поковырял ею в зубах. – Это вот вы лучше побеспокойтесь, чтобы вышло не так, как тогда, в морге, на выпускном экзамене. А то, знаете, по нынешним-то временам смертельные исходы стоят семьдесят пять тонн. Причем в евро, – он сплюнул под стол и спрятал зубочистку обратно. – У вашего пациента, кстати, есть дети?
– Нет, слава Богу, – вздохнул Иванов.
Профессор посмотрел на него и усмехнулся:
– Похоже, вам очень хочется перекреститься.
– Да за кого вы меня принимаете?.
– Слава те, Господи, – профессор снова сплюнул под стол. – А то в случае чего начнут качать права, не расплатишься. А жена?
– Бросила.
– И правильно сделала, – удовлетворенно чмокнул профессор. – С таким диагнозом жить… бр-рр! Никогда этого не понимал.
– Я тоже.
Профессор неожиданно зевнул, а потом как-то странно посмотрел на своего бывшего ученика и поманил его пальцем. Молодой уролог подобострастно приблизился.
– Валюту завтра, – прошептал профессор почти в самое ухо Ивану Ивановичу. – А остальное сейчас.
– Хорошо, – также тихо прошептал ему тот в ответ с жаркой щенячьей нежностью.
И покорно опустился на колени. Ширинка профессора оказалась уже расстегнутой и трусов, слава Богу, не было. Иванов взял в рот, и начал осторожно подсасывать, отмечая про себя с удивлением, что на вкус пенис его бывшего научного руководителя также напоминает инжир.
Глава десятая
Наверху было облако белое, а внизу облако черное, а между ними узкая голубая полоса. Потом белое стало отступать и рассеиваться, а голубое подниматься все выше и выше. Но черное не отступало. Оно словно бы прижалось к земле и становилось все черней и черней. Казалось, оно вжимается в дома, в машины и в самих человеков. Да-да, проникает в людей! И они – почерневшие, отягченные чернотою – уже бегут, ищут, где бы им спрятаться. И находят. О, эти узкие ходы! Конечно же, метро, метро! Они спускаются и прячутся в метро. По длинным светящимся эскалаторам человеки спускаются вниз. Скапливаются в переходах, давятся на станциях, в вагонах, откровенно дышат друг другу в лицо, не в силах выпростать рук из-за нажимающих со всех сторон тел…
Среди оных, надо сказать, уже давно давилось и тело Алексея Петровича Осинина. Оно ехало в больницу на операцию, чтобы из него вырезали рак. Выпростали длинным и узким шомполом с золотистым шаром на конце. Может быть, даже и через рот.
Давилка в переходе подходила к концу, уже завиднелись резиновые поручни эскалатора, низвергающего лавину еще на один уровень вниз, еще ближе к самому центру земли – как говорят, расплавленному и огненному. На эскалаторе было просторнее, чем в узком пространстве перехода. Можно было даже взмахнуть руками, и некоторые так и делали, низвергаясь вниз, точно птицы, опирающиеся на свои крылья.
Осинин, накануне окончательно уговоренный профессором («О, это будет совсем не больно, а потом, без этого, так даже очень и очень легко! Ничего не будет жать вам в промежности»), однако, сейчас, на эскалаторе, руками не махал, а крепко держался за поручень. Дежурная включила скорость на максимум. Это был эскалатор нового поколения, спроектированный в США и сконструированный на Тайване, он отсасывал с потрясающей быстротой. Отсасывал и отбрасывал. Отсосанные и отброшенные толкались в спины отсосанных и отброшенных перед ними, теперь уже и плотно упакованных в переход и мерно текущих через него дальше. Таким образом, вновь отброшенным было некуда упасть, поскольку впереди были тела, и сзади тоже налетали тела. Американцы были молодцы, они догадались!
На какое-то мгновение к низвергающемуся на эскалаторе телу Осинина даже возвратилась мысль. Она словно бы слетела откуда-то сверху, где все еще царствовало голубое, где оно поднималось все выше и выше, истончаясь в чистый и ясный свет.
«Может быть… у меня нет все же никакого рака?.. О, как бы это доказать… Спасти может только чудо… Олечка, где ты?»
Внезапно американо-тайваньская лента пошла, как сквозь пальцы, куда-то под пол, и Осинин был с силой выброшен в уже накопленные в пространстве нижнего перехода тела. Он был вжат в чью-то огромную спину. И мелко и дробно пошел, прижатый лицом к этой огромной спине, пока не начались ступени вниз, и спина идущего впереди не соскользнула.
Вдруг к Осинину повернулось лицо.
И удивилось:
– Так это ты?
Перед Алексеем Петровичем стоял господин Хезко, Тимофеев.
– Я…
Фантастическое чувство того, что… или того, как… вернее в смысле того, что нет у него никакого рака, охватило Алексея Петровича. И даже заставило его задрожать.
– Ты? – Осинин даже не выдержал и заплакал, как будто встретил отца родного. – Да откуда ты здесь взялся-то?
– А ты сам-то, сука родимый, откудова взялся?
Тимофеев широко радостно заулыбался и даже чуть не ебнулся со следующей узенькой ступеньки, оступаясь на какую-то маленькую сухонькую старушку.
– Яйца – мои! – грозно закричала старушка, поднимая над головой складную железную сетку с двумя, а может быть, даже и со всеми четырьмя десятками яиц.
Но Тимофеев и Осинин не обратили на нее никакого внимания. Через мгновение старушка уже была оттеснена толпой.
Они спустились по ступенькам на станцию и остановились у колонны.
– Значит, помнишь коня? – усмехнулся Тимофеев.
– Конечно, помню.
– Сожрали-таки, мерзавцы.
– Может, не до конца?
– Боюсь, что до конца. И даже кости растерли и закатали в какую-нибудь пиццу.
– Эк, брат, какое печальное у тебя настроение, – сказал тут Осинин и тяжело вздохнул. – Похоже, печальнее, чем у меня.
– Ну, так что? – сказал тогда Тимофеев, переходя сразу к делу. – По бутылочке пивка?
И, подобно двум золотым рыбкам, чтобы исполнить чьи-то желания, они поднялись из глубин. И когда выплыли из метро, то ничего такого низкого, черного и горизонтального над ними уже не было. А было лишь вертикальное и голубое.
Глава одиннадцатая
Логос, однако, странная вещь и подвигает он не только мужчин, но и женщин. Хотя женщин, конечно, через посредство мужчин. Обычно они сами вдвигают логос в женщину, но иногда бывает и так, что в отсутствие мужчин он продолжается двигаться в них и сам.
Всю дорогу (а дорога была железная) Ольга Степановна испытывала в себе движение логоса. Под нижней (сидячей) частью спины что-то то подталкивало ее, то опускало, а иногда еще и с какими-то вращательными закручивающими движениями. Не то, чтобы поезд вел себя неприлично, он, собственно, был не более, чем железный механизм, но получалось так, что он словно бы передавал в Ольгу Степановну какие-то загадочные послания. Она легла и даже перевернулась на живот, внимая его железному коду. «Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду…» – настукивал логос, пробуждая в теле Ольги Степановны приятную дрожь. В сознании отзывалось: «Туда еду, туда еду…» Логос внезапно застонал, заскрежетал, засвистел. Что-то дрыгнулось и сладко ударило под живот. Раз, два… И поезд остановился. Ольге Степановне как открылось, зачем она едет туда. Остановка движения словно бы породила невидимого ребенка. Он словно бы продолжал движение логоса. Он – воплощался. Над Ольгой Степановной уже нависали сады, где она гуляла с маленьким мальчиком. О, да, это были висячие сады… Она перевернулась на спину, села и, осторожно приподняв край блузки, внимательно осмотрела живот, где как будто бы уже намечались контуры божественного младенца, ибо Алексей Петрович безусловно был бог. Но до тех пор, пока он был просто бог, он, конечно же, мог и не работать, а творить, ковыряя в носу, свой метафизический труд. Но, поскольку метафизический труд что-то вдруг перестал твориться, то бог Алексей Петрович стал загнивать. Ольга Степановна попробовала было помочь стать своему богу риэлтором, они стали чаще ебаться на почве недвижимости. Она даже позвонила старому другу Осинина, Муклачеву, который и инициировал его в квартирный обмен. Но после двух-трех операций Алексей Петрович что-то захандрил, захирел, откровенно избегая сношений на этой почве. Большой ребенок на двух ногах, он стал пить из горлышка и закусывать, беря пальцами из тарелки, и даже пару раз не пришел ночевать… Бр-рр!.. Алексей Петрович стал, безусловно, загнивающий бог. Тогда Ольга Степановна и отправила его к Альберту Рафаиловичу, чтобы он окончательно стал человеком. В самом деле, сколько же можно жить с таким загнивающим богом на шее? А тут еще эта богоматерь Екатерина Федоровна…
«Еб ее мать…»
Логос напрягся и заскрипел. Но теперь Ольга Степановна прочла в этом скрипе:
«Хер с ним, пусть останется богом, раз не может стать человеком. Только теперь богом-отцом. Боги-отцы обычно вкалывают с рассвета и до заката, как дьяволы, чтобы ночью стать снова богами. И на следующий день опять улыбаются разным там мудакам и не корчат из себя непризнанную гениальность, а находят для нее нужную редакцию жизни. Потому что боги-отцы любят своих сыновей и знают, что они хотят кушать. А иногда так и чего-нибудь сладенького, не только же горьких лекарств. А если уж нужно будет и горьких лекарств, то в сладенькое-то гораздо легче подкладывать. Разве что за клубничку богам-отцам нынче ох как дорого приходится платить… Так что тебе, Олечка, надо почаще ебаться. И не за четыре дня до или после, а за две недели, слышишь, блядь, за две недели!»
Ольга Степановна поднялась и стала нашаривать тапочки, чтобы сходить в уборную поезда. Она осторожно обвела животом край стола, чтобы кой-кого случайно не повредить. В туалете она брезгливо присела на корточки, прямо на стульчак, и, качаясь из стороны в сторону (разумеется, взявшись за поручень), постаралась не наклоняться, чтобы лишний раз не надавливать на живот… Открылась заглушка, снизу поддуло холодным. Отчаянно гремя, в дырке быстро неслась земля.
Вместе с янтарными капельками мочи рассеялся и фантазм преждевременного зачатия, Но дело логоса было все же заделано глубоко и закреплено надежно.
«За две недели, блядь, поняла? За две недели!»
Вся звеня, Ольга Степановна уже звенела в звонке. О, нет, не кукушка и не соловей с иголкой. Благая весть, да, бля, выскакивала благая весть!
Бля как клубничка, а благая весть как благая весть.
«Я привезла тебе лекарство!»
Но Алексей Петрович почему-то не открывал. То ли потому, что и сам как-то уже перестал быть младенцем, то ли потому, что уже успел стать отцом где-то на стороне.
«Еб твою, ну полный пиздец! Звоню уже полчаса, а его, похоже, и нет!»
Розы возмущенно задрожали в руке, и с их концов соскользнула на пол мокрая тряпочка.
«Может, трахает кого-нибудь там сейчас? Прямо на нашей кровати!»
Ольга Степановна выхватила ключи. Как тридцать три стилета блеснули они. Вы спросите, почему именно, как тридцать три? Да потому что Алексей Петрович был бог! От возмущения Ольга Степановна решила зарезать своего бога ключами! Во всяком случае, таков был ее сиюминутный порыв.
В прихожей было темно. Она хотела включить свет, но потом решила не включать. На ощупь в темноте она двинулась «в сторону Свана». Так Алексей Петрович возвышенно называл их спальню. Они же оба любили Пруста, пиздюки! И часто читали его в преддверии совокуплений, готовясь до бесконечности растягивать наслаждение. Из-за закрытой двери, однако, нарастал какой-то странный звук. Сначала какое-то «пхс-сс-с», тихое и ниспадающее, словно бы это была сама Психея, прятавшаяся меж кустами боярышника и до осязательности очеловечивающая их, словно бы это были уже не слепые лепестки, а тысяча изумленных глаз просыпались вот так, внезапно, и дарили ей свое изумление… Потом восходящее «у-ррр», будто скрипела арба, запряженная сонными еще волами, она разворачивалась к горе, из-за которой уже было готово восстать новое солнце, безмолвно прорывающее предрассветные облака. О, низкие звуки жизни, неспособной явить себя в безмолвии света, о, несовершенство стихии конечного… И, наконец, откровенное и блистательное «ах!», божественное появление светила, первые лучи, что заливают сады и окрестности, сонных кур, что никогда не научатся читать, и маленьких чистеньких поросят, что никогда не признаются, какие из пороков им нравятся больше. А напоследок классическое, поднимающееся в зенит, великое и неизменное «хе-р-рр»! «Прямо как соната Вентейля», – усмехнулась Ольга Степановна. «Скорее, как Римский-Корсаков», – ответил бы ей тут, наверное, Алексей Петрович. Но, как бы то ни было, в коридорах звучал самый что ни наесть настоящий мужской храп. Словно из глубины неведомых недр поднималось светоносное и могучее, радостно трепещущее и с треском вылетающих искр рассеивающееся по окрестностям.
«О, мой священный Вулкан!»
Ольга Степановна радостно распахнула дверь и, как язычница, срывая с себя одежды, бросилась к своему божеству. Возбужденная поездом (и благословленная логосом), она с разбега прыгнула на кровать. Пролетая по дуге радости, она окончательно сожгла в себе все упреки и все обиды. Радостная новизна дуги скользила ее в объятия ее бога-отца…
Что-то огромное раскрыло свою огромную подмышку. Пахнуло медвежьим, чужим (Алексей Петрович всегда пах, как олень). Ольга Степановна хотела было от изумления закричать, но было поздно.
«Пиздец!» – еле слышно прошептала Ольга Степановна заветное слово, слово-пароль, тайно связывающее ее с Алексеем Петровичем.
Но это был еще не пиздец. Это был всего-навсего господин Хезко.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.