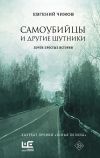Текст книги "Нано и порно"

Автор книги: Андрей Бычков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Глава пятнадцатая
Когда наконец в спальню Осининых заглянула Луна, а заглянула она не одна, а вместе с котами, сидящими на деревьях, то увидела довольно-таки странную картину. Ольга Степановна все еще летела по дуге, а некто Тимофеев, он же господин Хезко, по-прежнему храпел, развалясь на Осининской кровати, и подмышка его… О, эта русская подмышка, мы несем в ней половину мира и целое небо звезд. Подмышкой мы прячем и свой русский ум, и заветы старины и свое русское распиздяйство. Чего только там у нас нет. Загляните, как говорится, русскому подмышку, там у него и Гваттари, и Делез с их шизоанализом, и старообрядцы, а все вместе – вот уж, воистину, русский дух. Оттого и говорят, чу, русским духом пахнет. Да не то, что пахнет, воистину несет, да так, что аж на Луне пыль столбом поднимается, даром, что русские и спутники первыми запускают… Одним словом, подмышка у Тимофеева была зверская. Но поскольку зверь он был не простой, а русский, то бишь нечеловеческий, то много было скрыто в подмышке его и нечеловеческого. И потому разве мог он вот так разом, хоть бы и с похмелья, навалиться на влетающую к нему в объятия молодую жену своего молодого товарища? Да она же ему в дочери годится! Нет-с, господа, и не просите. Хотя и хотел было, чего греха таить… Велик соблазн, да не тут-то было! Заорали вовсю коты (да так, что даже и сами попадали с деревьев) и засветила, что есть силы, Луна. Одним словом, Ольга Степановна, как была верной женой, так ею и осталась. Хотя ее все же откровенно тряхнуло от ужаса (вместе с котами и с Луной).
– Прочь, грязный старикашка! – вовремя закричала она.
Тимофеев даже от неожиданности сбросил уже закинутую было на Ольгу Степановну ногу. Но не только потому, что Ольга Степановна была женщиной, закинул он на нее свою ногу. Эх, Тимофеев, если уж совсем честно, тоже был по-своему последним из людей. И как у каждого из последних, у него было свое первое. У кого-то водка, у кого-то топор, у Осинина, вот понимаешь ли, как выясняется, демоний, у большинства русского населения, включая Делеза с Гваттари, конечно же, женщины, а вот у Тимофеева был свой бог, правда тогда еще не с большой буквы, а, как говорится, deus ex machina. И вот сейчас он-то ему и снился и, как бывалыча в прежние времена, на него-то и закидывал он свою ногу. Да-с, deus ex machina! Но машина не простая, не человеческая – не какой-нибудь там форд-пидорд, не хундай-мундай, не мазда-пиздазда, а…
– Да вы как сюда попали?! – вскричала тут Ольга Степановна.
– Я… я… меня послали за коньячком.
– За каким еще коньячком?!
– Алеша.
– Алешка?! А где же он сам?
– В больнице.
– О, Господи, что случилось?
– Р-рр… рак!
Ольгу Степановну повело. Всё закружилось у нее перед глазами. И комната, и коты, и Луна и этот огромный, сидящий на ее кровати идиот.
– А, может, еще и нет никакого рака, – забормотал Тимофеев. – Зарежут-то все равно, конечно, меня. А с Алешей, Бог даст, все будет хорошо. Я вот только одену с вашего позволения носки.
Он отвинтил пробку и хотел было хлебнуть коньячку, но так и не успел. Пинок оказался столь силен, что бутылочка вылетела у него из рук, а сам он был вытолкнут в шею, несмотря на все свои попытки объяснений, что твердо, очень твердо решил уже спасти Алешу…
О, эта красивая зараза, эта взбесившаяся стерва, о, как классно было бы ее все-таки отъебать, несмотря на всю высоконравственную русскую подмышку.
Перед подъездом Осининского дома стояло двадцать пять мотоциклов. А, может быть, даже и все пятьдесят. И, вспомнив свой сон, Тимофеев счел это знаком судьбы. Вот он как проявляется, deus! Да, Тимофееву снился мотоцикл. Недаром же Тимофеев был бывший мотоциклист. Машина хочет обладать человеком. Машина хочет, чтобы человек стал машинистом. Но и в мире машин существует своя иерархия. Чем меньше колес, тем выше ранг!
Один из беспечных ездоков забыл вынуть ключ. Тимофеев даже присвистнул от восхищения. И, повернув его, – дернул кикстартер! Со спасением надо было спешить. «Судзуки» завелся с полоборота. И пока Тимофеев выворачивал со двора перед ним развернулась целая повесть временных лет.
Когда-то давно, когда еще было можно быстро двигаться, когда-то давно, когда еще можно было скользить легко, выскальзывая молчание, великое молчание, которому позавидовал бы сам Мартин Хайдеггер, когда рабочий класс еще пытался отчаянно сопротивляться и мычал, когда крестьянство еще молчало, прерывая иногда свое молчание блеянием, когда-то давно в русский мир проникла коммуникация. Сначала ею, конечно же заразились русские дети, потом – русская интеллигенция. И интеллигенция перестала работать. Коммуникация научила, что работать не нужно, ибо труд есть проклятие человека, а потому нужно как можно меньше работать и как можно больше потреблять. Потому что больше потреблять – это и есть цель жизни, а лучше потреблять – лучшая из целей жизни! Возможность возможности! Блядь! Чтобы, наконец, и дача была все ближе и ближе к Москве и все быстрее машина, и чтобы стиральная машина отстирывала за час, а посудомоечная отдраивала за полчаса, блядь, ну сколько же можно терпеть без посудомоечной машины, которая не отдраивает за полчаса, блядь, ну это же полный пиздец! Но это был еще не пиздец. Машины уже изобретали компьютер, а коммуникация задумывала интернет, и интеллигенция начинала пиздеть все быстрее и быстрее. О, словоизвержение! О, сладострастнейший из пороков! Говорить, говорить, говорить… и, разумеется, все, что вздумается! Говорить вдруг можно стало действительно всё! Хотя еще были немые советские времена. И над печатью висела цензура. Но уже резали правду-матку вслух, а заодно вместе с маткой и врали с три короба, предавались фантазиям, придумывали объяснения, излагали факты и артефакты. Словом – коммуникация. Рассказывали всё – кто, как живет, у кого сколько любовниц, а если любовниц нет, то почему нет любовниц, выдавали страшные и неприличные тайны. Рассказывали, кто что купил, или хочет купить, последней ли модели, или предпоследней, или уже продал; кто что съел или хочет съесть, или почему-то никак не может съесть; у кого и как покакал ребенок, или у кого и как ребенок почему-то не может покакать никак, и тогда сочувствовали, что ребенок не может никак покакать и предлагали рецепты, как можно больше рецептов новых лекарств. О, лекарства были излюбленной темой интеллигенции, извечный русский вопрос, а если ребенок продолжал не какать и не какать, тужился и все равно – никак, будто нарочно возбуждая и возбуждая коммуникацию, наращивая ее и наращивая, то тогда, все больше волнуясь за ребенка, уже кричали наперебой. И так везде, по всей стране, по всей, блядь, великой стране, потому что смерть одного ребенка, да, смерть одного ребенка, слезинка его одна стоила целого мира, и какашка, хоть малюсенькая его, но какашечка, могла бы дать толчок целой какашечной серии, которая могла бы спасти не только его, но и весь этот мир. В конце концов, заразили коммуникацией и рабочий класс. Гегемон перестал мычать и выразил и свою точку зрения. «Какого хуя, вы травите ребенка лекарствами? Пидарасы, поставьте обычную клизму! О Рабле, где ты, Рабле?!» При имени Рабле проснулось крестьянство. И указало, что надо лечить парным молоком. Но коммуникация как будто только того и ждала. В родное русское парное молоко стали впрыскивать серии англицизмов. И бедного ребенка закрепило опять. Стали искать причины по Фрейду. Выискали по Абрахаму. О, Абрахам, отец! Оказалось, что в раннем детстве именно так зарождается любовь. Да, именно так, когда «удовольствие от задерживания» превышает «удовольствие от элиминации»! Вспомнили, конечно, и что «Бог есть любовь». Прочитали подпольно «Общество потребления» Бодрийяра. И лишь тогда на время, оставили бедного ребенка в покое. Но зато привезли говорящую посудомоечную машину, и заставили ее публично говорить. Правду и только правду! Как чище и стерильнее жить, без грязи, без мата… О, это были великие, страшные годы… И только немногие, как Тимофеев, смогли превысить «удовольствие от элиминации». Но тот, кто молчал, был, разумеется, интеллигенции враг. Молчать было нельзя, все должны были «элиминировать», как плохо им жилось и живется в Советском Союзе, как совершенно или почти невозможно жить, даже не то, что жить, как дышать даже и то невозможно… Тимофеев, как мог, пытался дышать, он предпочитал «задерживание», корчил ужасные рожи, страшно оскаливал рот и кряхтел. Его считали фашистом. Рассказывали, что он, тайно крестившись в православную веру, совершил какое-то страшное преступление, что он убил зверски какого-то интеллигента, который хотел что-то такое сказать, какую-то гражданскую правду. А может быть, даже и не одного, а двух или трех, а, может быть, даже и четырех, целую серию… Задавил своими медвежьими лапами! И вполне возможно, что среди задавленных был и тот маленький милый интеллигентский ребенок, которого Тимофеев удавил, только потому что тот никак не мог посрать. Вот поэтому-то, отягченный таким страшным грехом, Тимофеев теперь и молчит. В нем молчит задавленный на корню непрокакавшийся интеллигентский ребенок! Не дает говорить ему. Вот оно, наказание! Да, блядь, вот оно – наказание немотой! Этот православный гад Тимофеев, исихастская сука, он слушает тайно Лед Зеппелин и Пинк Флойд, а посудомоечную машину слушать не хочет, предатель, гад, да не ребенок, вы, что, а Тимофеев, коммуникация разрасталась, она становилась все шире, все полноводнее, в ней завелись свои рыбы, угри и бобры, оплывавшие Тимофеева стороной, водоросли сомнений «а почему, в самом деле, он слушает Лед Зеппелин и Пинк Флойд и не слушает «Свободу», не слушает «Голос Америки»?», как показатель чистоты коммуникации в ней завелся также и рак… Однако приходили по-прежнему к девяти и уходили в шесть, зато с девяти до шести предавались коммуникации. Тимофеев же по-прежнему упорно предпочитал «удовольствие от задерживания». Его пытались заставить, подбрасывали в чай смертельные дозы слабительного. Но Тимофеев держался молодцом. Вот тогда-то он и купил себе мотоцикл! Он тренировал с его помощью мышцы заднего сфинктера. И тогда окончательно стало ясно, что, конечно же, он – убийца! Потому как никакому интеллигенту никогда не придет в голову тренировать мышцы заднего сфинктера с помощью мотоцикла. С помощью автомобиля – это пожалуйста, это другое дело! Наверняка, у Тимофеева была рука в КГБ. И не в силах отравить Тимофеева самого, товарищи по работе решили отравить его образ, они предали его анализу, аккуратно и интеллигентно нащупали чувство вины и стали интеллектуально колоть его и жалить в чувство вины. «В лагерях погибли миллиарды твоих соотечественников, а ты, сука, молчишь и не хочешь признавать за собой никакой вины?! Какой же ты русский, если ты не хочешь казниться, казниться и еще раз казниться?!» Пар, да, блядь, пар, визг и пар… И на дыбы, и через голову, от удара об асфальт шлем слетает и колется голова, лопается пополам позвоночник, вот это да! А всего-то надрезать слегка переднюю шину… Но каждый раз в конце месяца Тимофеев снова, как ни в чем не бывало, приезжал за зарплатой. Получалось, что ему платили за смэрть, его боялись уволить, чтобы не уволить заодно и его смэрть! Да, смэрть! «Мэ» там, да «мэ»! Тимофеев раскрывал свой огромный рот и откровенно, страшно скалил зубы. Он корчил коммуникации адскую морду. Лишь однажды он попытался процитировать коммуникации Хайдеггера, но коммуникация не любила Хайдеггера, какой, на хуй, Хайдеггер, какое еще, блядь, «забвение бытия», когда нужен, сука, теплый пол, потому что, когда спускаешь ночью из-под одеяла ступни, чтобы пойти на кухню и попить воды, то, ведь, можно даже и тапочки не надевать, да что вы говорите, неужели без тапочек, на кухню? вот это да! это в каком, вы говорите, каталоге? а в туалете можно такой же пол? да, можно и в туалете, сидите, например, там, и если вдруг стало холодно ступням, то просто подворачиваете бегунок реостата, и ступням становится гораздо, гораздо теплее, и можно расслабиться еще и еще, а, кстати, знаете ли вы, что большинство запоров происходит от того, что люди не умеют правильно расслабляться? да, надо не напрягаться, а расслабляться, надо научиться расслаблять кишку, понимаете, да что вы говорите? да, вот именно, а тем более дети, их ведь никто не учил, как правильно расслаблять кишку, в этих советских детских садах ну ничему не учат, а в школах советских, думаете, учат? а в институтах, думаете, учат?!
Тимофеев повернул на себя ручку «газа». И с ходу попал в бильборд, прорывая его насквозь. Пиздец Elle! Он должен привезти Ольге Степановне Алексея Петровича!
Прорвав бильборд, он закричал:
– Спасем русский хуй!
– Даешь! – радостно закричали ему из подворотни разбуженные ревом мотоцикла бомжи.
Глава шестнадцатая
Эх, родина ты, мать моя, родина, и почему не признаешь ты своих сыновей, своих последних сыновей? Все бы тебе заботиться о первых. А если уж певцов себе выбирать, то – чтобы непременно фальцетом. Попы с амвона заповеди поют, бородами трясут, а министры с олигархами – на нефтекачках. Кач-кач, как зайцы плейбоистые на качелях… Эх, мама, роди меня, мама, лучше обратно. Не больше я хочу стать среди таких твоих сыновей, а меньше. Хочу снова стать младенцем, плодом в утробе твоей. Маленькой отцовской каплей, новым семенем его. Чтобы хоть в самом начале опередить на финише первых. Эх, мама, и почему ты родила меня последним?
Алексей Петрович пел свою предсмертную песнь. Как последний русский Баян раскрывался он навстречу своей смерти. Как последний сжимался и восставал. О, не знают еще бобры, как отчаянна русская песня!
Наконец Алексей Петрович вышел из парка. В предутреннем небе по-прежнему сияла звезда.
Перед казнью он решил попрощаться с матерью. Да родина все же не жена, а мать.
«А жена… Эх, да что там жена».
Подходя к ее дому, он представил, как она, его громадная черная мать возлежит сейчас под парчовым золотым одеялом на легких серебристых подушках, как она слушает посвист птиц и, быть может, вспоминает и другую далекую звездную ночь.
Тогда Петр, отец Алексея, вернулся поздно. Было раскрыто окно, и слышен был каждый звук. Кто-то тихо молился на улице, тихо, как будто в последний раз, как будто захлебывался и тонул. Молился и замолкал. Казалось, что это уже конец, но это был еще не конец. Молящийся вдруг словно бы вновь приподнимал над черной водой свою голову, и сквозь шелест листвы было слышно, как он начинает снова…
Да, в ту ночь Петр ебал ее широко, от края до края. Сам он был широк, Петр, широка была и его русская душа, и потому-то и ебал он так широко. Как бы зная, что это в последний раз. И в последний раз Петр оставил после себя широкого сына…
«Не больше, а меньше. Но не уже, а шире», – Алексей Петрович так и хотел сказать ей, когда он вошел.
У него был свой ключ и потому он вошел незаметно. Он хорошо помнил, что сказал его отец его матери перед тем, как исчезнуть. Что меньшее владеет большим. Но зато широкое – узким! Запомни, родина. Осинину стало и грустно, и смешно. Вот, он скоро погибнет. И не так, как его отец. Тот погиб на испытаниях, как герой. Петр Осинин был космонавт. Он сгорел заживо в атмосфере. Алексей Петрович вдруг вспомнил узкую мордочку своего врача… Рак вылезал, рак наливался. Нет, раку не становилось страшно. Ведь рак не хотел быть тонким русским космическим мальчиком, путешествующим через эоны. Нет, рак хотел остаться очень толстым здесь, на Земле. Алексей Петрович рассмеялся нежно, как тончайшее лезвие. И так, смеясь, и вошел в комнату к матери.
Как смех.
«Вот видишь, они должны тебя казнить, – смеялся вместе с ним и его демоний. – И у тебя последнее свидание с матерью. Как с родиной! А ты смеешься над ними надо всеми, как новорожденный. Тебе предстоит позорная казнь, а ты смеешься как новорожденный! Вот, что надо бы завещать тебе своим соотечественникам. Записывай еще один пункт. Так смейтесь же, о избранники, когда наступает узкий пиздец!»
Мысль про узкий пиздец рассмешила Алексея Петровича еще больше. И он открыл дверь в комнату.
На широкой кровати его матери сидела, уронив голову на руки, его жена.
– Котенька? – не поверил своим глазам Осинин.
Ослепни читатель, мерзавец ты или святой, невинная девочка, циничная проститутка, уличный хулиган, скучающий клерк, учитель, студент, бомж, продавец… или просто пассажир метро, покачивающийся в своем желтом вагоне. Неважно, что за туннель гремит за твоим окном. Неважно кто пытается перевести в очередной раз наши стрелки.
«Какого хуя, стрелочник, а вы, собственно, кто, чтобы мешать нам читать? Мы читаем и следовательно мы существуем!»
– Котенька, неужели это не сон?!
– Не сон.
Все еще не веря глазам своим, Алексей Петрович подошел ближе и осторожно коснулся Ольги Степановны пальцем. Он коснулся ее лишь слегка.
Но Малевич все равно застонал. И из маленькой, почти невидимой точки снова стал нарастать черный квадрат. Квадрат нарастал, ширился, высился и в конце концов оказался столь велик, что не удержался и… медленно опрокинулся навзничь, пугая стрелочников треском распарываемого холста.
Пышен август и молящиеся от яблок сады. Но не было бы и августа, если бы не июнь с июлем. Алексей Петрович шел к матери как бог-сын. А нашел себя как бог-муж.
Любовь не скажет, не накажет, она все простит. Любовь излечит от ненужных ошибок жизни. Увы, мало в этом мире любви, много мрака. Оттого много и психоаналитиков, и урологов. А во мраке немудрено и кого угодно спутать с раком. Да только пусть их. Оставим им хоронить своих мертвецов.
Алексей Петрович был жив. Жива была и Ольга Степановна. О, чудный свет любви, о, раскрытое нараспашку счастливое сновидение. Вплывают яблоневые сады, цветущие вишни… О, чудные охапки света! В тени незаметно созревают соловьи, источают из кустов светлые зигзаги страсти… Алексей Петрович был бог. Он был бог любви. А в любви можно и так, и так, и приподнять за ляжку, привстать, можно и на одном колене и даже на одном пальце. В истинной любви даже никакая ненормативная лексика не оскверняет уста, и можно ебаться, ебаться и еще раз ебаться.
Во имя Отца и во имя Сына, и Духа Святого. Аминь!
Глава семнадцатая
Говорят, что Скотланд Ярд ничем не хуже КГБ, а наша доблестная милиция даже лучше ихней тамошней полиции. Во всяком случае наша доблестная милиция заявилась в больницу вовремя. И, слава Богу, – это постарались русские санитары. Английские, конечно же, не стали бы вызывать полицию из-за каких-то там усов. В конце концов, кому какое дело, кто и где носит свои усы? Существуют права человека! А поскольку у человека есть усы, то, значит, права распространяются и на усы. Даже, если эти усы искусственные. Итак, милиция допросила Альберта Рафаиловича и про усы, почему, дескать, носит их не на своем месте. Но, слава Богу – никаких отклонений! Просто, так сказать, съехали от удара. А вот по яйцам почему-то ударили не ногой, как это обычно принято, а рукой… Но наша милиция знает толк и в непривычном, и потому подробно расспросила про руку, уточнила про ногти, короткие или длинные, а то, знаете ли, некоторые китайские племена… Допросила, г-м, и про другие особенности, например, в устной речи. И тут-то и выяснилось, что на сеансах психоанализа преступник частенько употреблял ненормативную лексику. Вот пидарас! Спросили, какую. Альберт Рафаилович покраснел, но вынужден был повторить: «Ну, например…». Так в милицейском блокнотике и пометили, правда, не так откровенно, не «ёб», а «ё» с многоточием. Но было понятно, что бэ, да, что бэ там. Зато вот где сам преступник Осинин, было пока непонятно. Но ведь на то она и милиция, чтобы узнать!
В допрос тут, однако, вмешался уролог Иванов.
– Как вы сказали – Усинина или О, или Ы? – спросил он.
– Мы сказали О! – ответили ему милиция.
– Алексей Петрович?
– Да, он самый, Алексей Петрович, – удивилась милиция. – А вы откудова знаете?
– Ну, так я же ему простату должен был резать!
– Так он ваш пациент? – не поняла тут милиция. – Или Альберта Рафаиловича?
– Нет, мой.
– Да вы чё? Так чё вы нам тут дурку валяете? Он же вот у психоаналитика был пациент. Он своею рукой ударил его в пах. Или кого он ударил-то в пах, вас что ли?
– Да нет, – ответил тут с досадой уролог Иванов. – Ну что вы не понимаете?
– А мы милиция, – сказали тут ему строго милиция. – И если мы чё не понимаем, то вы нам обязаны объяснить.
– Ну вот, понимаете, простата… – начал было уролог Иванов.
Но тут милиция строго его перебила:
– А у Альберта Рафаиловича вот, чё, не простата?
– Нет, у Альберта Рафаиловича тоже простата. Но повреждена была не простата!
– А чё?
– М-мм…
– Ах, ну да, – вздохнула милиция, оглядываясь на пострадавшего. – Ну ладно продолжайте.
– Так вот, у простаты преступника был обнаружен рак!
– Да ну? Что вы говорите?
– Честно, – перекрестился уролог Иванов.
– Вот это да, – удивилась милиция, – сколько мы уже преступников переловили и никогда у них не было никакого рака. А тут, на тебе! Уж не вранье ли это, позвольте спросить вас, уважаемый?
– Да вы чё?! – возмутился тут и уролог Иванов. – Вам, чё, анализы показать?
– А ну? – сказала милиция и прищурилась строго. – Покажите.
Тут уролог Иванов хлопнул в ладоши. И из соседнего коптильного помещения выскочила медсестра Капиталина. Ну, милиция одела очки свои роговые такие, модные и узкие (а она любила косить под интеллигенцию), и заправила себе дужки за уши. Ну и склонилась над анализами с самым умным видом. А уролог Иванов стал им объяснять, в смысле, не дужкам, а ушам. И он объяснил им про «пэ-эс-е» и все такое прочее, что, мол, надо не больше четырех, а у Осинина больше сорока четырех. А милиция кивала, кивала так ему умно ушами своими, а вдруг и говорит:
– А почему О? Тут же У!
– Как У?
– Так У, – говорит милиция. – А вот здесь, кстати, Ы. Написано-то, вот видите, УсЫнина.
Ну, Иван Иваныч уролог Иванов глянь в анализы, а там и впрямь написано в одном месте У, а в другом Ы. Так и написано: УсЫнина!
«Ёб твою!» – подумал уролог Иванов.
Но сказал все же тихо:
– Не может быть.
А милиция ему:
– Может! Раз написано У, значит У. А раз Ы, значит, Ы. Тоже мне, урологи, небось сами материтесь, когда зубы болят? Во! Анальгин надо пить, а то, небось, хлещите водяру? Мы же знаем, что многие интеллигенты – алкоголики. Вот вы, наверное, тоже алкоголик?
– Не-е, – побледнел тут уролог Иванов. – Я не алкоголик, ей Богу. Я свое свободное время по-другому провожу. Люблю читать… букеровских лауреатов. Еще я Шуберта люблю и Баха с Вивальди. У нас, кстати, с Альбертом Рафаиловичем общие любимые композиторы.
– А, ну да, – сказала тут, снова прищурившись, милиция. – Баха с Вивальди. Ну-ну. А как нащет Шёнберга или Айвза?
– И…и… Айвза.
– А что ж тогда У от О не можете отличить, коли и Айвза?
– Да я… да я… – стал тут уже задыхаться уролог Иванов и такими пятнами пошел, что стал аж красный, как негр. Да, красный такой негр (бывают и такие!), и, вдобавок, с рыжими волосинками. Но сейчас ужо не топорщились они у него от восторга, а слиплись от пота. И в поте своем лежали смирнехонько.
Тут в разговор вмешался Альберт Рафаилович. До сих пор он всё молча лежал. Но, наконец, он все же пересилил себя, собрался с мыслями и стал говорить:
– А чё вы мучаете его? – начал он. – Ну, даже, если это не у Осинина рак, а у Усынина рак, то все равно он же Алексей Петрович. Верно?
– Кто, рак? – спросила, опешив, милиция.
– Да не рак, а Осинин.
– Ну, верно, – кивнула ему тогда, почесав за ушами, милиция.
И даже сняла свои узкие модные очки.
– А раз так, – продолжил свою замечательную мысль Альберт Рафаилович, – то именно О-о-осинин, а не У и не Ы, был моим пациентом. Вот-с!
– Да-да! – поддакнул тут ему и уролог Иванов. – Вот именно! И чё вы меня-то мучаете?
Тут даже и милиция сама задумалась, а чё она, бля, в самом деле, этого мудака мучает?
– Хотя, я, собственно, и не настаиваю, что мой пациент Осинин преступник, – сказал тут, однако, Альберт Рафаилович. – Он просто не стерпел, так сказать, ошеломительного открытия, что Бога больше нет, вот и ударил меня в аффекте. Кстати, и гематома-то у меня хоть и обширная, но, как говорит вот Иван Иванович, скоро пройдет.
Но милиция пропустила слова Альберта Рафаиловича мимо своих замечательных ушей, ибо она все продолжала буравить взглядом Иванова и додумывать свое: «А чё она и в самом деле мучает этого мудака?»
– А вот чё! – стукнула тут и она себя по лбу, чтобы ей самой дураками не выглядеть, потому как не положено милиции так выглядеть. – Вы чё тут сами, понимаете, в заблуждение нас вводите? Мы, можно сказать, следствие ведем, а вы нам тут пудрите! Вдобавок, как выясняется, собирались зарезать ни в чем неповинного человека? Мы же и вас можем к ответственности привлечь!
Тут уролог Иванов задрожал:
– Ой, ну извините, пожалуйста.
А сам думает:
«Ну, пиздец! Ну полный пиздец! Блядь, ну и обосрался же я с этими анализами! Ну как же эт-та, блядь, ведь О же там было написано, а не У! И, а не Ы!»
И снова смотрит в анализы, пялится на У-то букву, а пот все катится и катится с досады по его лицу.
«Еб твою! – думать продолжает. – Целую тыщу баксов ни за что кинул профессору, да еще и отсосал ему! Ну, я и мудак!»
И стал тут тоже себя по лбу кулаком бить, что даже милиция ему замечание сделала:
– Ну, ладно, ладно, эт-та, чё ты себя по лбу-то лупишь? Успокойся! Ты ж его оповестил?
– Оповестил.
– Ну так, значит, он приедет на операцию?
– Вчера еще должен был быть.
– Да кто приедет-то, Усынин или Осинин? – снова вмешался тут Альберт Рафаилович.
А Иванова уролога Ивана Ивановича опять затрясло, и он полез в свою записную книжечку, а он все всегда записывал в записную книжечку, когда и куда и кому он звонил. Но там было написано О! И он закричал:
– «О»! «О» приедет!
– Так, – сказала тут милиция. – Нич-чё не понимаю. Значит, на операцию приедет все же почему-то именно Осинин, хотя рак у Усынина? Так что ли?
– Дд-а, – задрожал опять уролог Иванов, но все же нашелся: – Ну так вы же Осинина ловите! Он же на психоаналитика напал!
– Ну да, – согласилась милиция, почесав в затылке. – М-мм… Ну ладно, оставим пока так. Значит, возьмем тогда… Осинина. Когда он приедет.
И посмотрела на часы.
– А если не приедет? – тревожно спросил Альберт Рафаилович.
– Да приедет, – засмеялась милиция. – У него же рак. Куда он денется!
– А если все же не приедет? – снова спросил осторожно Альберт Рафаилович.
– Ладно, – сказала милиция, – если до вечера не приедет, то… тогда возьмем кого-нибудь другого.
И так посмотрела на уролога Иванова, что теперь тот весь аж затрясся.
– А не хотите ли, уважаемые, чайку?! – закричал он.
Тут на милицию такой смех напал, что она даже не сразу и остановилась, пока вся не покрылась от наслаждения мурашками, и тогда уже, покрывшись мурашками, согласилась. Иван Иванович побежал в операционную, вскипятил там, в тигле, воды, всыпал заварки, да и плеснул туда еще кой чего покрепче. И так, с чайничком и с тремя пальцами в трех стаканах и прибежал, пританцовывая, обратно. Ну милиция попила, Альберт Рафаилович попил, сам Иван Иванович опять же попил… И пришли они к выводу, что чаек-то очень и очень-с даже ничаво.
– Хм-м, – даже сказала милиция. – А что, можно, пожалуй, и повторить. Вы как, Альберт Рафаилович?
– Я только за!
А в это время в скверике перед клиникой принимал для храбрости и Осинин.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.