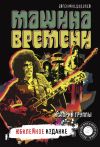Текст книги "Было, есть, будет…"

Автор книги: Андрей Макаревич
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
(Одна из многочисленных загадок законотворчества Министерства культуры: почему просто вокальные ставки могли быть и 12, и 14, и 16 рублей, то есть если ты просто поешь, то, видимо, затрачиваешь труда больше, чем когда поешь и еще сам себе аккомпанируешь. Вообще обо всех этих чудесах стоило бы написать отдельную книгу.)
Присвоенные ставки позволяли нам за выход на сцену в концертном зале получать по 10 р. на рыло, за выход на сцену Дворца спорта или стадиона – двойную ставку, то есть 20 р.
За выход – это тоже гениальное изобретение Минкульта. Сколько ты работаешь на сцене – одну песню, пять, десять или целый концерт, – не имело значения. Это все был выход. Поэтому, скажем, конферансье, появлявшийся перед нами и торжественно произносивший: «А сейчас – „Машина времени“», получал больше нас, так как имел разговорную ставку 17 р. Произнеся заветную фразу, конферансье шел пить кофе, а мы пахали час за свои вокально-инструментальные 10 р.
Я несколько углубился в финансовые рассуждения, при том что огромному количеству людей, не заставших советские времена, все это сегодня непонятно – 10 р., 20 р. – сколько это?
Попробуем разобраться. Средняя зарплата архитектора – 110 рублей в месяц. Институтская стипендия – 30 рублей. Водка – 4,12. Коньяк (самый дешевый – три звездочки) – 8,12 (правда, встречались иногда болгарские «Плиска» и «Слънчев бряг», кажется, то ли по 6, то ли по 7. Гадость страшная). Хороший коньяк – скажем, «Белый аист» – стоил уже 15, а лучше – больше. Сходить с подругой в ресторан – в среднем 25. Ну, что еще? Хлеб – 15–20 копеек, колбаса – 2,20 кило, сигареты наши – 30–40 коп. пачка (я курил «Приму» за 14), американские – только начали появляться – 1,50. Что еще? Билет в кино – 30 коп., такси по Москве – от рубля до трех. Джинсы у фарцы – от 70 до 120 р. Машина «Жигули» стоила тысяч семь с чем-то, но поскольку купить ее можно было только с рук (если ты не счастливый обладатель места в какой-нибудь блатной ведомственной очереди – тогда всего года два-три ожидания) – умножайте цену на два, на три, на четыре. Нормальную электрогитару на черном рынке можно было найти тысячи за две. «Gibson» и «Fender» – от трех и выше. Съездить на поезде в Питер – 11р. Фирменные домашние акустические системы в комиссионных магазинах – какие-то запредельные тыщи. На что еще можно было тратить? Ну, мороженое – 20 коп., пачка пельменей – 51 коп. Дальше фантазия не идет. Вот и считайте – много мы получали или мало.
В принципе, нас никто не заставлял работать целое отделение. Но зритель шел на нас, воспринимая все остальное как нагрузку. Без нагрузки нас тоже не пускали – должен же был кто-то эту нагрузку кормить. А обмануть зрителя, пришедшего на нас – спеть три песни и поклониться, – мы не могли.
Итак, прошло несколько дней с момента, определившего нашу самостоятельную профессиональную судьбу, и мы уже ехали на первые гастроли в город Ростов. Теперь это были самые настоящие гастроли, а не подпольная вылазка на сейшен. Многое поражало – и то, что билеты на поезд тебе кто-то покупает, и что тебя уже ждет гостиница, и ты живешь в ней как человек, а не мыкаешься по квартирам друзей-музыкантов. А самое поразительное – это то, что и с вокзала до гостиницы и от гостиницы до дворца и обратно тебя везут на специальном автобусе. Служа в «Гипротеатре», я все время ездил на работу на метро, и мне как-то не приходило в голову, что у артистов существует другой способ передвижения. Я еще некоторое время шарахался по привычке от милиционеров во дворце. Прошла пара месяцев, пока я привык к мысли, что теперь они приходят нас не вязать, а охранять.
Нам повезло: в первую поездку с нами отправился ансамбль эстрадного танца «Сувенир» под управлением Тамары Головановой. (Третье гениальное изобретение Минкульта – сольные концерты во дворцах спорта были запрещены. Место имели так называемые сборные – может быть, кто-то еще помнит? Этакий концерт, в котором сразу все: акробаты, цыгане, медведи, Кобзон, искрометный юмор конферансье и, скажем, мы. Ничего нельзя было поделать.)
С «Сувениром» нам тем не менее действительно повезло – они были лучше многого из того, что нам могли навязать. Мы сразу влюбились друг в друга – такие они все были замечательные, веселые, дружные, какие-то прямо инкубаторские и очень самостоятельные. Они на нас тоже смотрели с восторгом, как на героев из некоего параллельного мира.
Вообще в том, что мы вдруг оказались на легальной эстраде, было что-то невероятное. У «Сувенира» имелся уже богатый гастрольный опыт с поездками за рубеж, и мы слушали их нескончаемые истории раскрыв рты.
Общались артистки и артисты «Сувенира» на совершенно отдельном языке, ими же созданном. В общем, в основе лежала русская фонетика и морфология, но отличался он от ортодоксального русского в корне. Жалко, никто не составил словаря этого языка – он ушел в прошлое, как санскрит.
Танцевали в «Сувенире» тогда здорово, вкалывали, как звери, получая еще меньше нас (песенка моя «Заполнен зал, в котором было пусто» как раз относится к тем временам). Могу добавить, что проездили мы с ними долго и наша нынешняя балетная группа как раз из того «Сувенира» – восьмидесятого года.
Помню животный страх на первом концерте в Ростове – «Сувенир» отплясал свое, объявили антракт, и нам предстояло за пятнадцать минут выставить аппарат на сцену. На сейшене этот процесс занимал гораздо больше времени, и всегда что-нибудь не работало. Дворец спорта превышал по размеру любой наш сейшеновый зал раз в десять, и я не представлял себе, что делать, если что-то откажет. В первый день все обошлось. Случилось, когда я уже успокоился, – на третий. Профессионализм – вот чему нам предстояло учиться. За Ростовом последовал Харьков, потом Одесса. И потекла гастрольная жизнь, пока светлая и безоблачная.
В это же время случился знаменитый фестиваль в Тбилиси «Весенние ритмы—80». Устроен он был с истинно грузинским размахом: приглашена масса групп, концерты идут целую неделю, напечатаны плакаты, значки, присутствует пресса, даже иностранная, – словом, все это выглядело просто невероятно. Участвовали и профессиональные, и любительские команды на равных. Это было принципиально ново. В жюри председательствовал Юрий Саульский, и дух фестиваля обещал быть радостным и демократичным.
Одна, правда, вышла накладка – как всегда, с аппаратурой. Всем участникам было обещано, что в Тбилиси их ждет комплект «Динакорда» – по тем временам недосягаемая мечта любой команды. Поэтому никто практически с собой ничего не привез. Так вот, «Динакорда» на месте не оказалось. Пришлось выходить из положения подручными средствами. В каждом концерте играли по три группы, и они вынуждены были в складчину выставлять на сцену все, что найдется. Кто с кем и когда играет – решала жеребьевка.
И нам опять повезло – выпал день с группой «Интеграл», которая приехала в Тбилиси прямо с гастролей и чисто случайно привезла полный трейлер аппаратуры. Удача!
Мы сыграли где-то в середине фестиваля, кажется, на третий день. Чувствовали мы себя, конечно, уверенней, чем четыре года назад в Таллине, но на такой успех не рассчитывали. Очень уж много участвовало групп – хороших и разных. И, кстати, всех принимали блестяще, кроме, пожалуй, «Ариэля» и группы Стаса Намина. И не потому, что они плохо играли – сыграли они отлично, – а потому, что «Ариэль» со своими как бы народными перепевами и Стасик с песней Пахмутовой «Богатырская наша сила» совершенно не попали в настрой фестиваля. Это была не «Красная гвоздика» и не «Советская песня—80». Призрак оттепели летал над страной, легкий ветерок свободы гулял в наших головах. В воздухе пахло весной, надвигающейся Олимпиадой и всяческими послаблениями, с ней связанными. Нам-то, дуракам, казалось, что это надолго.
Конечно, степень этого ветерка свободы переоценивать не надо – Боря Гребенщиков, игравший тогда в панк (никаким панком он, конечно, никогда не был), огреб за эту телегу от оргкомитета фестиваля, вследствие чего и вылетел из славного Ленинского Комсомола, а заодно и из института. Вообще после фестиваля было много разборов, и в Москве тоже. Но это уже было потом.
Итак, мы выступили, и повторилась таллинская история семьдесят шестого года – по реакции зала было ясно, что все уже хорошо. На первое место мы ей-богу не рассчитывали, нам достаточно было этой реакции. Все музыканты нас поздравляли. Нервное напряжение спало, начался праздник.
Надо сказать, мы ехали в Тбилиси с некоторой опаской – это был не первый наш визит в столицу солнечной Грузии. Первый визит прошел весьма криминально и закончился хорошо просто чудом.
Еще в семьдесят втором году один грузинский музыкант пообещал нам устроить в Тбилиси комплект «БИГа».
«БИГ» – это была наша золотая, так и не сбывшаяся мечта. Этакий пионерский комплект аппаратуры производства ВНР, куда входило сразу все – усилитель, акустика, микрофоны, стойки для них, даже специальная подставочка на колесиках для звукооператора, куда ставились все усилители. То есть один такой комплект – и уже не надо ни над чем ломать себе голову. Думаю, о «БИГе» тогда мечтали все команды.
Магазинной цены этот волшебный комплект не имел, так как распределялся только по организациям и на черном рынке тянул где-то на четыре тысячи, или, как тогда объявляли, четыре куска, деньги по тем временам немалые. Вот за четыре куска нам и пообещали такой «БИГ» в Тбилиси.
Из сегодняшнего дня могу добавить, что это был, конечно, совершенно ужасный аппарат. Даже тогда было понятно, что это не лучший аппарат в мире – тот же гэдэеровский «Регент» был надежнее, – но подкупал внешний вид: «БИГ» был больше похож на настоящие усилители, а мы их видели на картинках. А потом – можно сколько угодно обсуждать рабочие качества «Регента» и «БИГа» (и на это уходили дни и ночи) – но когда нет в досягаемом пространстве ни того ни другого…
Полетели мы втроем – я, Кутиков и бывший «скомороший» оператор Женя Фролов, он тогда собирался работать с нами. Не буду описывать всех перипетий нашего путешествия. Скажу только, что нас намеревались, напоив по законам грузинского гостеприимства, швырнуть. Причем первая часть программы удалась приглашающей стороне на славу, и я до сих пор не понимаю, как это у них сорвалась вторая. Сорвалась благодаря случайной помощи совершенно посторонних людей, доблести Кутикова и крайней безалаберности швыряющих. В общем, мы вернулись в Москву сильно потрясенные, но живые, не побитые и даже со своими деньгами. Так что теперь, восемь лет спустя, нам предстояло сломать в своих головах сложившийся стереотип коварного восточного человека. Это произошло, надо сказать, довольно безболезненно.
Сразу же после нашего выступления нас стали приглашать в гости. Причем приглашавших было значительно больше, чем нас. Между ними возникали перебранки, переходящие в драки. Во избежание кровопролития нам приходилось максимально делиться, чтобы каждому досталось по маленькому кусочку «Машины». Молодые мы были и очень, видимо, выносливые. Сейчас бы мы такого гостеприимства не выдержали.
Сугубо мужское грузинское застолье, завораживающие древние тосты, молодое кахетинское, шашлык во дворике, заверения в вечной дружбе – все это обрушилось на нас шквалом. В гостиницу мы возвращались под утро, из разных мест, на неверных ногах, распевая битлов и грузинские песни.
Фестиваль между тем подходил к концу. Попасть в здание филармонии было невозможно – его окружало двойное кольцо милиции. В зале сидели зрители исключительно мужского пола – женщин до таких серьезных дел не допускали. По мере приближения к финалу ажиотаж нарастал. Все ждали решения жюри.
(Спустя несколько лет я с изумлением узнал, что во всем мире фестивали – в отличие от конкурсов – вообще не предполагают раздачу каких-либо мест. Какие места могли быть, скажем, на Вудстоке? Тогда мне это не приходило в голову. Силен все-таки во всех нас дух соцсоревнования.)
Жюри заседало долго. Музыканты томились у дверей, как школьники на экзамене. Зал ждал. То и дело доходили сведения о том, что из Москвы звонит высокий чиновник от культуры и требует определенных мест для определенных артистов. Но жюри, растроганное отечественным рок-н-роллом и опьяненное призрачным ветерком свободы, решило по-своему. Мы поделили первое место с «Магнетик бенд».
(Я сейчас вижу, что эти мои записки превращаются в список сплошных побед, удач, радостей и вообще эдакого безостановочного счастья. Конечно, все было не так гладко и весело. Просто, видимо, голова моя устроена таким образом, что светлые моменты сохраняются в ней значительно лучше, чем все остальные. Тут уж ничего не поделаешь.)
В Москву мы вернулись на коне, «лопаясь от скромности», увешанные грамотами, призами и подарками. «Советская культура» напечатала какую-то маленькую, растерянную, но, в общем, позитивную заметочку о нашем лауреатстве. Тогда попасть в «Советскую культуру» – это было что-то. В те времена газеты еще о ком попало не писали. Впереди рисовалась долгая счастливая жизнь. Так нам казалось.
Веселая это была жизнь, но какая-то странная. Популярность наша достигла апогея.
Под словом «популярность» я понимаю не количество людей, которые нас знают и хорошо к нам относятся – сейчас таких людей больше, чем тогда, – а степень буйного помешательства на нашей почве определенного круга молодых ребят.
Во дворцах спорта творилось невообразимое, количество милиции приближалось к количеству зрителей, а единственным рупором, кроме концертов, оставались наши бедные самостийные записи. Да, пожалуй, еще недавно возникшая радиостанция «Radio Moscow world service» крутила нас постоянно. Прослушивалась она на средних волнах не хуже, чем «Маяк», музыку передавала каждые тридцать минут из шестидесяти, а англоязычные комментарии можно было опускать.
Я усматривал во всем этом дальновидную внешнюю радиополитику – дескать, показать миру накануне Олимпиады, что у нас все есть. Теперь я понимаю, что объяснялось все проще – личными симпатиями младшего состава редакции, безграмотностью руководства и общим бардаком.
В редакции этой работал тогда тот самый Дима Линник, который руководил трио «Зодиак» – мы им помогали записывать пластинку года три назад. Дима был замечательным парнем. Он просто попросил у меня наши записи – и они зазвучали на их волне! Это продолжалось не меньше полугода – видимо, начальники полагали, что если станция ведет вещание на английском языке, то и слушать ее будут одни иностранцы, поэтому музыкальным наполнением они не очень заботились. Кончилось, правда, все плохо – был большой скандал, Диму уволили.
Словом, топтать нас еще не взялись – пока просто не замечали. Большой идеологический слон только начал поворачивать свою удивленную голову в нашу сторону.
Мы тем временем готовили так называемый сольный концерт в двух отделениях – категория, которая позволила бы нам хотя бы в концертных залах выступать без нагрузки. Мы восстанавливали «Маленького принца».
Впервые он был сделан года полтора назад и пережил несколько редакций. Литературную часть исполнял некто Фагот – старый наш приятель по хипповой тусовке, человек весьма своеобразный и колоритный.
Иное определение нашего «Маленького принца», кроме как чудовищно звучащее сочетание «литературно-музыкальная композиция», я подобрать, увы, не могу. Фагот сидел сбоку на сцене за столом с настольной лампой и книгой в руках. Он проникновенно читал в микрофон фрагменты из книги Экзюпери, а мы продолжали каждый фрагмент песней, которая, как нам казалось, продолжает смысл этого фрагмента. Юноши и девушки в зале взирали на это действо затаив дыхание. Господи, какое было милое, наивное время!
Сделаны были специальные декорации в виде черных и белых ширм, костюмы шил не кто-нибудь, а сам Вячеслав Зайцев. Мы готовили триумф. Непосредственно после успешной сдачи программы предполагались сольные концерты в самом Театре эстрады, и билеты уже поступили в продажу. Слово «поступили» здесь не годится. Они исчезли, не успев возникнуть. Несколько суток у касс ночевали молодые люди. По ночам они жгли костры.
А закончилось все очень быстро и просто. На сдачу нашей программы приехал товарищ из ЦК партии с очень популярной русской фамилией.
Фамилия ему была Иванов. Товарищ Иванов.
Не знаю уж, чем мы обязаны были столь высокому вниманию – видно, докатился доверху шум от тбилисского фестиваля. Товарищ посмотрел нашего «Маленького принца», произнес магическое слово «повременить» и уехал. Больше мы с ним не встречались. Мы, собственно, и тогда не встречались – обсуждения проходили при закрытых дверях.
А временили нас после этого лет шесть. Не разгоняли, не сажали, не увольняли по статье, а именно временили. И это, наверно, было самое противное. Олимпиада просвистела в один момент, не оставив никаких особенных следов в нашей жизни. И гайки со скрипом закрутились.
В «Московском комсомольце» примерно в это время появился хит-парад. Первого января восемьдесят первого года песня «Поворот» была объявлена песней года. Она продержалась на первом месте в общей сложности восемнадцать месяцев. И все эти восемнадцать месяцев мы не имели права исполнять ее на концертах, потому что она была, видите ли, не залитована, а не залитована она была потому, что редакторы Росконцерта и Министерства культуры не посылали ее в ЛИТ, так как имели сомнения относительно того, какой именно поворот мы имели в виду. То, что «Поворот» звучал на «Radio Moscow» по пять раз на дню, их абсолютно не волновало.
А скорее всего, они об этом даже не догадывались – каждый следил за своим ведомством.
Это было потрясающе забавное время! Я пытаюсь вызвать в памяти атмосферу тех дней, и мне это уже почти не удается. Как легко все забывается! Время казалось вечным – оно не двигалось. Три генеральных секретаря отдали богу душу, шли годы, а время стояло, как студень. Время какого-то общего молчаливого заговора, какой-то странной игры. И как это бывает в полусне – все вяло, все не до конца, все как в подушку. Наверняка в тридцатые годы было страшнее. А тут и страшно-то не было. Было безысходно уныло. Один шаг в сторону, и – нет, никто в тебя не стреляет – просто беззвучно утыкаешься в стену. Солженицын считал, что стена эта на соломе нарисована – ткни, и рассыплется. Мне же она всегда представлялась студнем, который трудно проткнуть. Зато в нем очень легко увязнуть.
В восемьдесят втором году «Комсомольская правда» грянула по нас статьей «Рагу из синей птицы». В принципе, по нас уже постреливали и раньше – то Владимов затевал полемику на тему «Каждый ли имеет право?» (выходило, что мы не имеем), то кто-то еще, но все это размещалось на страницах газет типа «Литературной России», и никто к этому, конечно, серьезно не относился. А «Рагу» было уже рассчитано на добивание. И общепатетический тон в лучших традициях Жданова, и подписи маститых деятелей сибирского искусства (половина этих подписей потом оказалась подделкой) – все это шутками уже не пахло.
Вот еще один эпизод, совершенно непонятный современному молодому читателю. Ибо сегодня в газете можно написать что угодно – и если это даже произведет какое-то впечатление на аудиторию, то все равно никоим образом не отразится на судьбе того, о ком это написано: собачки лают, ветер носит. В советские времена вся пресса была государственной. И поэтому выражала мнение государства. Уж такие монстры, как «Правда», «Комсомольская правда» – в первую очередь. А на указания государства нижестоящие организации обязаны были отреагировать. Поэтому, говоря, что статья такого рода являлась практически приговором, я не кокетничаю. Просто сейчас это трудно себе представить.
Если бы стены были из более жесткого материала, нас бы по ним размазали. Или бы мы пробили их собой и оказались с той стороны. Но студень амортизировал. И мы остались живы. А может быть, помогла защита миллионов наших поклонников.
Я видел в редакции мешки писем под общим девизом «Руки прочь от „Машины“». Время от времени мешки сжигали, но приходили новые. Писали студенты и солдаты, школьники и колхозники, рабочие и отдельные интеллигенты.
Забавно – Анатолий Борисович Чубайс, тогда студент института, написал письмо в нашу защиту не только в газету, но и главному «подписанту» статьи – писателю Виктору Астафьеву. И Астафьев ему ответил! Он сравнил «Машину» с «молью, сидящей на пиджаках иностранного покроя, украшенных шестиконечными звездами с берегов Мертвого озера». Ни много ни мало. Я думал о нем лучше, ей-богу. А письмо у меня лежит – спустя тридцать лет мне его подарили. Спасибо, Анатолий Борисович!
Коллективные письма дополнялись рулонами подписей. Я не ожидал такого отпора. В газете, по-моему, тоже. Поэтому они тут же разулыбались и свели все к такой общей беззубой полемике – дело, дескать, молодое, и мнения тут могут быть, в общем, разные.
Я писал письмо заведующему отделом культуры ЦК ВЛКСМ, как сейчас помню, товарищу Боканю, где перечислил все ляпы и ошибки статьи. А ляпов там было предостаточно. Думаю, что автор Ник. Кривомазов, дав статье подзаголовок «Размышления после концерта», на концерт наш не ходил, а выполнил социальный заказ, не покидая кабинета, прослушав кое-какие записи, часть из которых была вообще не наша, а группы «Воскресенье», а часть относилась к семьдесят восьмому году. Мне было даже обидно, что по нас так неточно и невпопад стреляют. Получил я ответ от т. Боканя, что не туда, дескать, смотрю. Что не на мелочи всякие следует смотреть, а в корень, а в корне деятели сибирской культуры вкупе с Кривомазовыми правы, и надо бы мне, как младшему товарищу, к их мнению прислушаться. Храню этот ответ как ценную реликвию.
А Коля Кривомазов жив-здоров, очень прилично выглядит и даже получил повышение – служит нынче уже не в «Комсомольской», а в самой настоящей «Правде». Бежит времечко!
«Рагу из синей птицы» совпало с нашим очередным и последним расколом.
Я уже несколько месяцев знал о том, что Мелик-Пашаев собрался валить, причем не один, а с Петей Подгородецким, Игорьком Кленовым, нашим тогдашним звукорежиссером и очень способным музыкантом, и Димой Рыбаковым – он числился у нас рабочим, но при этом писал смешные славные песенки. Я знал, что они втихаря репетируют, и очень мне было неприятно, что все это как бы втайне от меня. С другой стороны, расход с Мелик-Пашаевым ощущался как неизбежность – как-то не жилось нам вместе. В уходе остальных ребят была, конечно, доля его заслуг, но в то же время, если люди хотят делать свое дело, глупо на них обижаться или им мешать.
Тяготило одно – с каждым разом становилось все труднее искать новых музыкантов, знакомиться с ними, репетировать старые вещи, словом, еще раз проходить уже пройденный тобой путь. На этот раз как-то никто не искался. Вечная наша беда с клавишниками! Петя умудрялся заполнять своей игрой очень большое пространство в нашей музыке, и теперь заполнить его было нечем. Может быть, поэтому на его место пришли два человека.
Сережа Рыженко предложил себя сам. Знакомы мы были давно, знали его по «Последнему шансу». Это была самая настоящая площадная скоморошья группа – такие бродили, наверно, по городам лет триста назад. Звуки они извлекали из чего угодно – из стиральной доски, пустых банок из-под пива, каких-то дудочек. Имел место настоящий тумбофон: фанерный ящик, из которого торчала палка с единственной веревкой – струной. Кроме тумбофона, Сережа играл на скрипке, гитаре, деревянных флейтах, на всех видах банок и погремушек, пел, скакал и вообще очень был на своем месте и очень хорош. Меня в его предложении смущали две вещи – я не хотел разваливать «Последний шанс» и не был уверен, что скоморошья манера Сережи подойдет для «Машины». Оказалось, что из «Шанса» он и так уже ушел по своим соображениям, а образ можно попробовать и изменить. Образ он, надо сказать, так и не изменил, потому что острой необходимости в этом не возникло – он вполне вписался и так.
Расстались мы год спустя, и, я думаю, по той причине, что Сереже приходилось исполнять у нас в музыке сплошь вспомогательные роли. То есть когда вещь была практически готова, но чего-то чуть-чуть не хватало, брался Рыженко со скрипкой, дудочкой или чем угодно, и брешь затыкалась. В «Шансе» Рыженко был одним из лидеров, и, конечно, ему стало неинтересно заниматься «отделочными» работами. К тому же к моменту ухода Сережи Заяц уже освоился, окреп, и мы вполне могли обходиться вчетвером.
Заяц, то есть Саша Зайцев, выявлен был в окружающей среде по наводке Вадика Голутвина. Мы договорились по телефону о встрече у меня дома, явился Кутиков, и мы принялись ждать. Заяц оказался совсем молодым человеком с небесно-голубым взором и мягкими манерами. Во взоре читалось некое просветление. Выяснилось, что вездесущий Кутиков уже знал его по какой-то его прошлой группе (меня всегда поражала эта вот способность Кутикова всюду поспевать). Что до меня, я не был потрясен манерой зайцевской игры, но все остальное мне очень понравилось.
Поначалу Заяц с трудом замещал Петину вакансию. Если от Петиной игры смело можно было убавлять, то к зайцевской хотелось что-то все время добавить. К тому же в каких-то уже сделанных вещах ему приходилось просто исполнять придуманные Петей партии, а это было тяжело и физически, и морально, я думаю. Однако все встало на свои места. Все в конце концов встает на свои места с течением времени.
А потом было множество поездок по большой нашей стране, а потом нас наконец пустили с концертом в Москву, и то сначала не в Москву, а в Сетунь (не так, кстати, давно – в восемьдесят шестом), а потом в Польшу, а потом вдруг сразу в Японию, а потом было еще много стран, и первая наша пластинка, которую на «Мелодии» в ознаменование перестройки спешно сляпали без нашего участия, а потом вторая, которую мы делали сами, и музыка для кино, и съемки, и многое другое, чему здесь не хватает места.
С первой поездкой – в Польшу – случился казус. В Польше проходил фестиваль альтернативной музыки «Морковка» – поляки всегда очень любили все альтернативное. И звали туда они совсем не нас – они хотели видеть группу «Свинцовый туман». Какой-то сотрудник ЦК комсомола оформил вместо «Тумана» (о котором он и слыхом не слыхивал) «Машину времени». Я думаю, он искренне желал нам добра. К тому же он не имел понятия о том, что такое альтернативный рок, и на всякий случай слово «альтернативный» в приглашении заменил на «политический». Сочетание «политический рок» меня несколько смутило, но времени на раздумья не было. Если бы мы знали, что нас посылают вместо кого-то, мы бы, конечно, не поехали. Но нас в такие тонкости не посвящали.
Когда я увидел, какие ребята выходят на сцену, я понял, что случилась крупная подстава. «Звуки Му» на их фоне показались бы пионерским ансамблем. Мы со своими песнями были как раз тем, чему они яростно составляли альтернативу. А отступать было некуда. И мы отыграли – под оглушительный свист и улюлюканье зрителей, которые тоже, естественно, были альтернативными. Никогда не любил это направление. После Польши – особенно.
Но дверь за кордон была приоткрыта – по тогдашним неписаным правилам необходимо было сначала посетить соцстрану. И если поездка проходила без нареканий, то советскому гражданину можно было доверить поездку в страну капиталистического лагеря. Несмотря на то что к власти уже пришел Горбачев, все менялось не в один день.
Дорогой Михаил Сергеевич! Мне сейчас уже невозможно представить себе, что, если бы не вы – жизнь моя (что там моя – жизнь каждого из нас!) могла быть совсем другой. И я никогда бы не увидел мира – мы так бы и катались из Ростова в Барнаул, и проходили бесконечные переаттестации, и унылые партийные сволочи контролировали идеологическую направленность наших песен, а потом гаечки бы еще чуть-чуть затянули, и нас бы в конце концов разогнали к чертовой матери и в лучшем случае вытурили бы за кордон. Люди уже не помнят, что благодаря вам мы смогли ощутить себя частью мира – что может быть важнее? Просто мы живем в очень неблагодарной стране, Михаил Сергеевич. Не болейте и не обращайте внимания на идиотов.
Буквально пара месяцев после испытания в Польше – Япония! Международный рок-фестиваль! Ронни Джеймс Дио, Джеймс Браун, Джордж Дюк! И мы! Разбудите меня!
Я так психовал, что в самолете у меня пропал голос. Совсем. Это была какая-то молниеносная адская ангина на нервной почве – ни до, ни после со мной такого не случалось. Я молился, съел все таблетки – сначала свои, потом японские, которые принесли мне сотрудники посольства. Не брало. Я пил виски «Сантори» с кипятком – проверенное самурайское средство. Не помогало. На этом фоне впечатление от Токио было несколько стертым. Просто не покидало ощущение, что мы на Марсе.
В общем, мы сыграли. Конечно, не так, как могли бы, но в целом не позорно, и я даже умудрился что-то пропеть, а потом был банкет и джем-сейшн в ретро-рок-н-ролльном клубе, и мы братались с настоящими звездами рока, и я угощал их гаванскими сигарами – у нас на родине этого добра было еще много, и стоили они копейки, и все это было похоже на сон, и впечатлительный Заяц напился так, что заблевал весь потолок в своем номере.
А потом была двухмесячная поездка в Америку, и отличные концерты, и впервые в жизни работа на настоящей студии в Далласе, а потом уже масса стран, включая совершенно экзотический Мозамбик. Про каждую поездку можно было бы написать небольшую книжку – столько происходило интересного, неожиданного и смешного. Может быть, когда-нибудь соберусь.
А ведь всего этого могло и не быть. Как же нам повезло!
Нет, про Мозамбик расскажу. Бог его знает, как мы там оказались, – в перестроечные времена происходили самые разнообразные чудеса. В общем, мы приехали в город Мапуту играть в ночном клубе «Замби». Клуб принадлежал бывшему боксеру и совершенно опереточному бандиту по имени Алекс Барбозо. Работа нас не утомляла, тем более что местное черное население в клуб «Замби» не ходило по причине отсутствия денег, а немногочисленные дипломаты и представители всякого рода международных миссий имели выбор – клубов в городе было два. Так что играли мы не каждый день.
Развлечений у нас почти не было. Мы ходили в гости к Саше и Оле – оба журналисты ТАСС, жили там с двумя маленькими дочками и черным слугой Мануэлем. Жена Мануэля была известная колдунья, жрица вуду. Еще в городе располагались наши военные вертолетчики – как я понимаю, последние слезы нашей советской поддержки: по периферии Мозамбика шла гражданская война, в городе совершенно незаметная.
Вертолетчики были славные ребята, и мы с ними сильно выпивали – а что было еще делать? Однажды мы досидели до утра, когда им надо было лететь на задание. Ребята не хотели расставаться с нами и позвали нас с собой. Сейчас я понимаю, что, если бы я был к этому моменту трезв, я бы нашел в себе силы отказаться – ни фига себе, на задание! «Ну, вы же над Африкой никогда не летали!» – сказали ребята. К тому же ничего страшного не предполагается: никого бомбить не будут, они вообще транспортная авиация – так, привезти припасы и медикаменты в одну деревню. Если есть раненые – забрать. Все.
И мы полетели.
Над джунглями вставало солнце. Мы шли низко, как в фильме «Апокалипсис», почти касаясь колесами верхушек пальм. Я был настолько заворожен этой картиной, что не сразу заметил, что по радио кто-то ругается – на местном наречии. «Что это?» – спросил я. «А, это повстанцы, – равнодушно ответил пилот. – Вот он мне грозит – шестой, шестой, я тебя знаю, я тебя собью!» Я похолодел. «А собьет?» – «Не собьет, – сказал пилот. – Смысл? Мы вот сейчас в деревне товар сгрузим, а они ночью наедут и все заберут. Мы их уже два месяца кормим». – «А на обратном пути?» – на всякий случай спросил я. «А завтра кто добро повезет? Не, зачем им нас сбивать?»
Вскоре внизу показалась деревня – соломенные конусы крыш. От деревни к вырубленной в джунглях вертолетной площадке шеренгой бежали местные жители. Они размахивали руками и что-то кричали. Кого-то несли на носилках. «Радуются», – подумал я.
Мы обогнали их и приземлились, я вылез из вертолета. Солнце поднялось уже довольно высоко, прямо метрах в десяти от меня начиналась глухая стена тростника выше человеческого роста. Я, замирая от счастья, двинулся к ней. Как же я мечтал в детстве оказаться в настоящих джунглях! И – вот оно! В тростнике что-то шуршало, пробирался какой-то невидимый зверек, грохотали кузнечики, один, величиной с чайную ложку, сидел прямо передо мной. Время остановилось.
«Андрюха!» – услышал я дикий крик пилота. Он кричал совсем нехорошим голосом. «Андрюха, стоять!!» Я послушно замер. «Развернулся! И! По своим следам! В машину!» Я проделал все как робот, совершенно не понимая, что происходит. Оказалось, что повстанцы ночью заминировали взлетную полосу – об этом нам и спешили сообщить жители деревни.
В общем, на обратном пути нас тоже не сбили.
Кино в нашей жизни сыграло отчасти спасительную роль. Нас выручала несогласованность ведомств – этакая система удельных княжеств. В результате в тот момент, когда нас готовились дотоптать на эстраде, вдруг выходил на экраны фильм «Душа», и мы как ни в чем не бывало улыбались с афиш из-за спин Софии Ротару и Боярского, а когда три года спустя в разгар съемок «Начни сначала» до руководства «Мосфильма» доходило указание, что снимать нас все-таки не следует, мы приносили охранную грамоту, из которой следовало, что «Машина» является участником культурной программы XII Международного фестиваля молодежи и студентов в городе-герое Москве и, стало быть, топтать нас опять-таки не за что. А когда месяц спустя мы получали плюху от Министерства культуры за то, что что-то там не то на этом фестивале спели, – кино было уже снято, и поздно было махать руками.