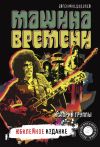Текст книги "Было, есть, будет…"

Автор книги: Андрей Макаревич
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Стаканы граненые и обычные тонкие – вперемежку, но надо брать граненый, потому что тонкий моментально нагреется от кофе и его будет очень трудно донести до стола.
Вилки навалены грудой в слегка помятом алюминиевом корытце. Они тоже алюминиевые, слегка жирноватые на ощупь, и у них сильно не хватает зубов, а сохранившиеся изогнуты причудливым образом – недавно специальным постановлением советской власти был отменен язычок на водочной крышке, теперь это называется «бескозырка», и снять ее без помощи постороннего колюще-режущего предмета невозможно.
Говорят, какой-то умник подсчитал экономию от бескозырок – сколько тысяч тонн металла будет сэкономлено, если не делать язычков.
Но вот ценой еще пары зубьев крышечка проткнута – естественно, под столом, вслепую, а двое твоих друзей заслоняют тебя от бдительных теток, и ты, рискуя порезать пальцы, сдираешь ненавистный металл с горлышка, а там еще коричневый картонный кружочек, а под ним – совсем уже тоненькая целлофановая пленочка, и – все.
И, конечно, разлить сразу на троих, а выпить можно и в два приема – после первого глотка чувство опасности отпускает, и что странно – небезосновательно. Человек выпивший и трезвый существуют в параллельных, хотя и близких, но разных реальностях, и то, что может произойти с одним, никогда не произойдет с другим. И наоборот.
И вот – стало тебе хорошо, и мир наполнился добротой, и день вроде не прожит зря, и дела не так уж безнадежны, а пельмени просто хороши – все ведь зависит от угла зрения, правда? И с тобой рядом твои дорогие друзья, и пошла отличная беседа, и кто-то уже закурил втихаря «Приму», пуская дым в рукав. Сколько таких пельменных, разбросанных по необъятному пространству страны, греют в этот миг наши души?
Вот входят, настороженно озираясь, трое военных в шинелях – явно приезжие, слушатели какой-нибудь академии или командированные, пытаются открыть под столом огнетушитель с красным портвейном, суетятся, бутылка выскальзывает из рук, громко разбивается, мутная багровая жидкость разлетается по кафельному полу, покрытому равномерной слякотью, в устоявшийся запах вплетаются новые краски. Сизый мужичонка в кепке, не оборачиваясь, презрительно констатирует: «И этим людям мы доверили защиту Родины!»
И приходят и приходят, и выпивают и едят пельмени, и тихо беседуют о чем-то дорогом, и опять спасаются ненадолго, и выходят, шатаясь, в темноту и метель, забывая портфели и авоськи на крючках под столами.
Ностальгия (греч.) – тоска по родине, как душевная болезнь.
Это у Даля. В словаре Ушакова – Ожегова практически то же самое. У иностранца Фасмера этого иностранного слова вообще нет. Мне кажется, сегодня это слово используют в более широком смысле. Сегодня бывает ностальгия по чему угодно – по песням Утесова, по старым дворам, по запаху домашних пирожков с капустой. Из тоски по родине ностальгия превратилась в тоску по прошлому.
Что это такое?
Почему тебе вдруг до судорог хочется бабушкиной запеканки, той самой, которой тебя пичкали в детстве и которая не вызывала у тебя тогда никаких теплых чувств?
Почему мерзкая, уродливая, насквозь фальшивая советская эстрада шестидесятых годов, из которой на девяносто процентов состоял шумовой фон твоей юности и которую ты ненавидел всеми фибрами своей юной души и прятался от нее с головой в битлов и роллингов, – почему сегодня эти песенки вызывают у тебя слезы умиления? Что, так хороши?
Советская эстрада советских времен заслуживает отдельного исследования. Как болезнь. Во-первых, она была уродлива сама по себе – как все, изготовленное советской властью либо по ее одобрению. У власти, врущей всему миру и самой себе, просто не могло получиться ничего честного – во всяком случае, на сцене. А еще – артисты, люди, как правило, нормальные и все понимающие, этой властью измордованные и ею же прикормленные, очень хотели сделать как надо – как у них, разница между Элвисом Пресли и Эдуардом Хилем была видна невооруженным глазом (если возникала возможность взглянуть на Элвиса Пресли. Ну хотя бы услышать). И очень тянуло в ту сторону, но, увы, с испуганной оглядкой на степень дозволенности. А степень эта колыхалась в зависимости от международной обстановки и от того, с какой ноги сегодня встал товарищ Суслов, но, в общем, колыхалась в небольших пределах и сама по себе была очень невысока. И от наложения на себя этого чуть-чуть дозволенного советская эстрада делалась еще уродливей.
Вы никогда не замечали, что «Веселые ребята» – очень плохой фильм? С совершенно диким фанерным сюжетом, с несмешными шутками, с ужасной игрой актеров – пожалуй, только про музыку ничего плохого не скажу. Если бы у нас тогда была возможность сравнить его с любым голливудским мюзиклом тех лет – мы бы поняли, откуда выросли эти кривые ноги. Ну не было у нас такой возможности – тогда. Можно нас простить. Но теперь-то! Ан нет – сидим, смотрим, глотаем сладкие сопли.
Казалось бы, все понятно, и нечего тут литературу разводить – не произведения нас радуют, а тот ассоциативный ряд, который они за собой тащат. Не фильм нам дорог, а телевизор «КВН-69», на крохотном черно-белом экранчике которого этот фильм показывают, и мы сами, с ногами сидящие на диване в комнате коммуналки, и мама, которая молодая и чистит нам яблоко. Не голос Майи Кристаллинской, а мотыльки, толкущиеся в свете фонарей танцплощадки в пионерлагере, первая сигарета и вон та девочка в белом свитере, которая, кажется, только что на тебя посмотрела.
Нас просто тянет в свое детство – где мир казался нам лучше, да и сами мы были лучше, и с помощью звуков старых песен и кадров старых фильмов мы наслаждаемся иллюзией нашего возвращения туда. Но заметьте: качество самих произведений в данном случае не имеет никакого значения – ты мог их в детстве любить, мог ненавидеть, а мог и не замечать, но если вы проглотили их тогда, как рыба крючок, то всю оставшуюся жизнь есть возможность потянуть за леску. И тут происходит подмена – эти произведения уже кажутся нам хорошими! Какими хорошими – великими! Они же работают! Они же пережили время! И модным становится ретро, и вот уже молодые люди копируют одежду и звук тех же шестидесятых, хотя не понимают, что это для нас – орех с начинкой, а для них он – пустой, и им весело и забавно.
Никогда не забуду, как вдруг взбеленился Алексей Семенович Козлов, когда на каком-то псевдоретровечере на сцену вышли несколько опереточные как бы стиляги лет двадцати от роду и запели что-то из Магомаева. Сквозь стиснутые зубы Алексей Семенович поведал мне, что в молодости они с друзьями назывались не стиляги, а штатники, а за напевание такой гадости, как твисты Магомаева, можно было вообще вылететь из их рядов. Ему было очень жалко своей молодости, он не хотел пускать туда этих юных недорослей.
Чего это нас так тянет в юность? Ну ладно, если тебе семьдесят. А если сорок? И жил ты неплохо и интересно, и многого добился, и получил почти все, о чем мечтал в детстве, и есть еще силы и желание идти дальше – что такое? И почему это все там кажется таким розовым? Оно ведь таким не было!
Мы чего-то не знаем.
И вот что удивительно – даже поняв механизм этой ностальгии, все равно не можешь защитить себя от его воздействия, и стоят у меня на полке рядом с битлами и роллингами и Жан Татлян, и Ободзинский, и Трошин, и очень люблю я, выпивая с друзьями, завести их негромко.
А если уж быть безупречно честным – так не от всех так уж и тошнило. Квартет «Аккорд», например, молодая Пьеха или ансамбль «Орэра» иногда даже нравились.
Что касается истории про доброту, то она не имеет никакого отношения ко всему сказанному выше. Но это дивная история. Случилась она в начале девяностых, когда народ впервые по-настоящему почуял, что можно просто взять и съездить за границу – отдохнуть. Ну, не на какие-нибудь Таити, а поближе и подешевле – скажем, в Турцию или на Кипр. В моду тогда вошли морские круизы – помните?
В основном по Средиземному морю, недели на две. Для привлечения туристов на пароход приглашали трех-четырех артистов – для заманухи. Артисты ехали бесплатно, давали за это концерт на борту, и все были довольны. Схема эта умерла так же быстро, как и родилась, – Средиземное море оказалось не таким уж большим, маршруты повторялись и быстро приелись, туристы иссякли, а известные артисты стали капризничать и требовать денег, и все кончилось.
Но тогда круизная лихорадка была в разгаре, и вследствие этого я с Ксюшей Стриж, Олегом Митяевым, Костей Тарасовым и кем-то еще оказался на борту огромного белоснежного теплохода, отправлявшегося по греческим островам Средиземного моря. На греческих островах мы не бывали, поездка обещала быть замечательной и таковой, надо сказать, и оказалась.
Утром мы причаливали к очередному острову, весь день гуляли по древним городкам и осматривали красоты, а вечером садились на наш теплоход, весело выпивали и за ночь перемещались на другой остров. Все острова чем-то походили друг на друга, поэтому я не смогу вспомнить сейчас название того, на котором произошла эта история. Тутос, Патмос, Пафос – что-то в этом роде.
Городок располагался на плоской вершине острова и напоминал семейство грибов, выросших на пне. Надо было подняться довольно высоко в гору, и вдруг ты оказывался в совершенной сказке – крохотные белоснежные домики с кривыми стенами, ярко-синие ставни, узкие мощеные, а то и просто выдолбленные в скале улочки, ни с того ни с сего выходящие к обрыву, за которым синело море. Стояло раннее утро, и мы были единственными прохожими (так и хочется сказать – зрителями), и это усиливало сходство с театральной декорацией. Редкие коты грелись на солнце, развалившись на подоконниках, и – никого. Над островом плыл невероятный запах жарящейся баранины – тут и там стояли мангалы с медленно вращающимся целым барашком на вертеле. С одной стороны мангал был закрыт щитом с фольгой – для отражения тепла, вертел крутился автоматически, барашек пах, хозяев не было видно. Мы уже знали, что все это будет готово не раньше середины дня и тогда их начнут продавать с молодым местным вином, но в ближайшие два часа рассчитывать не на что, и беспомощно глотали слюнки.
Где-то через час брожения по абсолютно пустым закоулочкам (вообще жизнь на этих островках, видимо, начинается позже) мы наткнулись на маленькое уютное кафе – четыре белых пластиковых столика на открытой террасе, выходящей прямо к обрыву, за которым – невероятно синее море (смотришь иногда на какую-нибудь открытку или фотографию в журнале и думаешь: не бывает на самом деле такого цвета! – бывает) и вдали внизу – наш пароход. Справа терраска ограничивалась белой мазаной стенкой, в дверях стоял хозяин, облокотившись о косяк, и благожелательно на нас поглядывал.
Я высказался в том смысле, что не случайно единственное открытое заведение расположено таким красивым образом и что будет очень правильным решением присесть тут и выпить легкого греческого вина, любуясь на панораму. Мы зашли, поздоровались с хозяином, присели за столик и попросили домашнего вина, воды и каких-нибудь орешков. Хозяин (это был дядька лет пятидесяти) выслушал нас, кивнул, скрылся в темном проеме двери и вернулся с подносом – две бутылки вина, вода, большие стаканы, плошечка с орехами. Выгрузил все это на наш столик и занял прежнюю позицию – в дверях. Мы чокнулись за сказочный островок, синее море, белый пароход и наше путешествие, выпили, закурили.
Вообще я не сторонник выпивания с утра и никогда этого не делаю, но в тех редчайших случаях, когда сами обстоятельства диктуют тебе ход событий и сопротивляться не только глупо, но и бессмысленно, – эффект бывает поразительным и не имеет ничего общего с постылым вечерним выпиванием. Как будто на сцене включают дополнительные софиты – краски становятся ярче, музыка – прекрасней, а люди – еще лучше, и кажется в эти минуты, что смысл твоей жизни (да что там твоей – тайна Божьего замысла!) где-то совсем рядом и надо только протянуть руку.
Наслаждаясь этой иллюзией, мы посидели минут тридцать, а потом я попросил кофе и счет.
«У меня нет кофе», – сказал хозяин, не меняя позы.
Кофе в Греции подают на каждом углу, и я удивился – что же это за кафе такое?
«Это не кафе, – ответил хозяин. – Это мой дом».
Думаете, он специально не выдавал себя, чтобы насладиться нашей неловкостью? Да ничего подобного – просто стоял в дверях своего домика на своей терраске, смотрел, щурясь, на восход, зашли люди (гости!), попросили вина – все нормально! Ну а уж что кофе не оказалось – пардон.
Боже, как мы извинялись, как пытались всучить ему деньги – при всей своей воспитанности человек все равно в кафе заходит не так, как в чужой дом, и сидит чуть иначе, и говорит с другими интонациями, и было страшно неудобно.
Никаких денег хозяин с нас, конечно, не взял, велел передать привет России и долго махал нам рукой и смеялся как ребенок.
«И человечество распространится по всему космосу и станет единым потоком лучистой энергии, которая мгновенно пронизывает пространство и время, все знает и ничего не хочет, что является прерогативой Богов». Это слова Циолковского.
Все знает и ничего не хочет. Мне бесконечно далеко до этого состояния. Я еще много чего хочу и очень много чего не знаю.
Я не знаю, почему однажды люди в сутанах (не Боги же!), собравшись вместе, решили, что отныне и вовеки четыре Евангелия станут для всех христиан мира каноном, а остальные – ересью. Как это они за всех нас решили?
Я не понимаю, почему, если Бог есть Любовь, основные слова, с которыми мы к нему обращаемся, – «прости» и «помилуй», да еще «побойся Бога».
Я не понимаю, почему во всех четырех Евангелиях Иисус гневался, скорбел, вопрошал и учил, но ни разу не улыбнулся.
Я не понимаю, почему ни один добродетельный поступок не толкает тебя к следующему, в то время как пороки плотно связаны друг с другом в одну цепочку (выпил – захотелось курить, покурил – захотелось добавить, добавил – захотелось к девкам и т. д.).
Я не понимаю, почему мы с таким наслаждением разрушаем себя – хрупкую и единственную машину, данную нам для путешествия по жизни.
Я не понимаю, почему у меня так и не получилось никакого счастья с женщинами, которых я любил больше всего на свете.
Я не понимаю, почему мы иногда так безжалостны к самым близким людям и разводим экивоки со всякими отдаленными мерзавцами.
И почему мы так беспечны?
И почему вдруг от каких-то нот или строк мурашки идут по спине и слеза просится на глаза?
Я не понимаю, почему перед сном я открываю газету и одновременно включаю телевизор, хотя ненавижу и то и другое.
И почему, как ни верти, я воспринимаю беседы, идущие в Интернете, как бессмысленное бормотание слепых людей в темной комнате?
Еще я не понимаю, почему человек до последней секунды с такой отчаянностью цепляется за жизнь, которую он и получил-то помимо собственной воли и желания, и совсем она не была хороша, и радости в ней было куда меньше, чем печали, а две-три короткие вспышки счастья оставили после себя разве что горьковатый привкус ностальгии.
Я бы очень хотел все это понять. И еще многое-многое другое. И тогда уже (может быть) – ничего не хотеть.
2001
Послесловие
Для меня лично самая верная примета захватывающе интересной книги – мысль, точней говоря, почти невыносимое чувство неизбежности потери и того, что чем быстрей я книгу эту проглатываю, тем тоскливей будет миг расставания с нею… переверну последнюю страничку, и, как в детстве, откроется мне чистый, без единой буковки, лист… и тогда вновь начнется блуждание в пустыне скуки, ничегонеделания, одиночества – одним словом, до встречи с новой интересной книгой продолжаться будет поиск наиболее безотказного оружия для убийства всесильного Времени.
Именно с этим чувством читал я книгу, которую в данный момент держишь ты в своих руках, Читатель. Книга прочитана тобой и мною. Но, опять-таки у меня лично, – это довольно странно, приятно и поистине неожиданно – нет ощущения одиночества и легкой опустошенности – обычной спутницы сбывшихся надежд или сполна удовлетворенного желания.
Не оттого ли, думаю, что, расставшись с книгой Андрея Макаревича, имею я возможность славно, весело, зачастую по-раблезиански, а порою, как теперь любят говорить, и духовно пообщаться с одним из самых знаменитых – впрочем, слава есть пустяк, – с одним из настоящих героев нашего обалденного времени, действительно любимым сразу двумя, если не тремя, поколениями россиян? Нет, решаю, дело совсем не в факторе личного знакомства и даже многолетней дружбы, поскольку, оказывается, чертовски много было для меня белых пятен, так сказать, в нравственной, музыкальной, а также художественной географии судьбы Автора, ну и, конечно, в биографической истории его личности.
Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что Автор с огромным душевным и писательским тактом оставил нас с тобой, Читатель, за невидимой оградой неких заповедных территорий, днем и ночью охраняемых преданными Ангелами личной жизни, пожалуй, бдительней, чем гигантская кавказская овчарка, не случайно носящая имя Батя, сторожит его, Автора, деревенское жилище. Тем не менее Муза Андрея Макаревича, мемуариста, так свободно и непринужденно водит его перышком, что Читатель, благородно увлеченный вдумчивым всматриванием в подробности детской жизни Автора и в образы любимых, близких ему людей – раз; в грустные, порою остроумно нарисованные картинки трагически абсурдной совковой жизни былых времен – два; вслушиванием в мир авторских мыслей и чувств, а также сопониманием интереснейших размышлений о музыке, живописи, подводной охоте и поварском искусстве – три и т. д. и т. п.; – Читатель, хочу я сказать, нисколько не чувствует себя посетителем частного музея, в богатейшие, надо полагать, запасники которого, увы, никогда его, беднягу, не допустят. То есть стиль мемуаров Андрея Макаревича наверняка сообщит впечатлениям просвещенного Читателя именно полноту, а не чувство муторной недосказанности, недостаточности, иначе говоря, некоторой ущербности, вызывающей у потребителей желтой прессы зверский аппетит на доклевывание остатков добычи стаи папарацци. Или же заставляющей прочь от себя отшвырнуть четвертьправду мемуаров – их сейчас более чем навалом на книжных развалах Отечества – как государственных деятелей времен первой оттепели, так и крупных гэбистов эпохи застоя.
Одним словом, стиль повествования вдохновителя и организатора коллективных побед «Машины Времени», если же без шуточек, то человека, с обликом которого никак не вяжется представление о фигуре мемуариста, делает его книгу совершенно свободной от той недоброкачественности текста, к которой принято относиться как к литературности, поскольку литературность – откедова на нее ни глянь – есть родственница, хоть и дальняя, самой пошлости.
Мне вдруг подумалось: какая выгодная позиция у послесловия по сравнению с предисловием. Вполне можно было бы занять целую страничку всего одним словом СПАСИБО.
Юз Алешковский
Вначале был звук

Каждый из нас когда-то слышал, что восемьдесят процентов информации поступает человеку через глаза. Не знаю, кто автор этой сентенции. И каким образом производились подсчеты. И вообще, что имеется в виду под информацией. Если исключительно содержащаяся в тексте – тогда да, конечно. Восемьдесят процентов – через глаза. А оставшиеся двадцать – через уши, по радио. Но мне кажется, что понятие «информация» – гораздо более широкое. И шум дождя сообщает тебе о том, что идет дождь, ничуть не хуже, чем круги на лужах, видимые глазами.
А теперь представьте себе железнодорожную катастрофу, которую вы наблюдаете с небольшого расстояния. Представили? А теперь разделите изображение и звук. Разделили? А теперь прокрутите перед своим внутренним взором сначала картинку, а потом ее звуковое сопровождение. И ручаюсь вам: картинка без звука оставит вас вполне равнодушным, а звук без картинки приведет в ужас. И если это так, то что тогда главнее?
Все мы знаем, как может напугать нас неожиданный громкий звук. Даже самый простой, вроде лопнувшего шарика над ухом. Что-то я не могу представить себе какую-либо неожиданную картину, способную нас напугать – если она лишена звуковой поддержки. Даже привидения в фильмах-страшилках режиссеры заставляют выть. Хотя настоящие привидения выть, наверно, не умеют.
Ночью мы спим. И глаза наши спят. А уши – нет. И будит нас звук. Странно, правда?
Если мы не хотим что-то видеть, мы закрываем глаза. Не руками, нет – у нас есть веки. А на ушах век нет, и руками затыкать их весьма неудобно. То есть природа разрешает нам иногда оставаться без зрения, и не разрешает без слуха. Значит, что с точки зрения природы важнее?
Возможность видеть мы получаем, появляясь из утробы на свет, да и то первые месяцы наблюдаем картину вверх ногами. А звуки начинаем слышать значительно раньше – на девять месяцев. Мой сын вел себя в животе у матери очень беспокойно, но неизменно затихал, как только начинала играть громкая хорошая музыка.
И вообще – если вначале было Слово, то Слово это было произнесено, а, скажем, не написано: не на чем еще было. Звук? Звук.
А восемьдесят, значит, через глаза? Ошибочка, граждане!
Если убедил – пошли дальше.
Пытаюсь нарисовать картину из звуков своего детства, роюсь в памяти. Радиоточка. Или трансляция. В общем, радио. Эта пластмассовая коробочка стояла в каждой квартире, в каждой столовой, в любой парикмахерской. Коробочка всегда была желтая или розовая – веселенького цвета. На фасадной ее стороне располагалось окошко для динамика, затянутое веселенькой же тряпочкой, и одна ручка – включение, она же громкость. Сзади – картонная крышка с круглыми отверстиями и провод. Провод вставлялся в специальную розетку – как для электричества, но поменьше, чтобы не перепутать. Все.
Сколько я помню, коробочка всегда и у всех находилась во включенном состоянии. Могло быть тише или громче. Коробочка вещала. Текстовая составляющая проходила мимо меня, не оставляя следов (в три-то года!). Разве что застревало в голове какое-нибудь непонятное слово («Телефон: Миусы Д-1…» Какие такие миусы? До сих пор мучаюсь.). В десять утра сажали слушать детскую передачу. Заставочка: на пианино, наверху, незатейливо – «Мы едем-едем-едем в далекие края…» И сразу, фальшиво-добрым старческим голоском: «Здравствуй, мой маленький дружок! Сегодня я расскажу тебе сказку…» Не нравилось: дядька кривлялся. Все равно слушал. Выбора не было. Иногда в передаче появлялось двое детей – кажется, Мишенька и Машенька. Я понимал, что это ненастоящие дети, а две взрослые тетки – одна, с голосом потолще и, наверно, сама поздоровее – за Мишу, а вторая, совсем писклявая – за Машу. От них было еще противней. Иногда приходил Захар Загадкин, пел песенку, загадывал детям загадки. В 11.00 – «Доброе утро, товарищи! Начинаем производственную гимнастику! Первое упражнение – потягивание. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч – и (под пианинку) раз, и два…»
Бедные мы, бедные.
В воскресенье, правда, было повеселее (может быть, потому что родители были дома – уже праздник!). Воскресная передача «С добрым утром!». Песня: «Друзья! Тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой – чем тяжелей была работа, тем краше день твой выходной! Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом – с добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!» Пелась задушевным, почти человеческим голосом.
Ну да, выходной был один – в воскресенье.
А живые, человеческие голоса звучали из трансляции очень редко. Дикторы говорили не как живые люди – медленно, торжественно и с какой-то совершенно особенной интонацией, которую ни описать, ни воспроизвести не берусь (кончилось это, кстати, совсем недавно – с появлением FM. Нет, раньше: Виктор Татарский с опальной передачей «Запишите на ваши магнитофоны». Он уже говорил по-другому. Но до этого еще двадцать лет). В трансляции иногда пели: мужчины – патриотические и военно-патриотические песни, женщины – русские народные. Мужчины пели грозно и утробно, женщины – как бы веселясь, специальными русско-народными голосами, с завитушками в конце фраз. Пытаюсь понять: почему мне, маленькому, не нравилось. Так вот: клянусь, я чувствовал, что они притворяются, поют не так, как хотят, а как надо.
Дети ведь очень здорово чувствуют фальшь. Лучше взрослых.
Неудивительно, что когда вдруг появлялась песня с человеческой мелодией и спетая человеческим голосом – она сразу становилась народной – на таком-то фоне. «Ландыши», «Я люблю тебя, жизнь», «Подмосковные вечера»… У всех этих песен была непростая судьба – советско-партийное руковод-ство сопротивлялось, искало пошлость, не пускало в эфир – кожей чуяли человеческое, собаки. Слово «сексуальность» применительно к артистке было просто немыслимо – даже «женственность» не очень приветствовалось – не время, товарищи! Поэтому певицы в лучшем случае изображали таких дурочек с бессмысленной улыбкой и легким покачиванием головой – остальные детали тела должны были оставаться неподвижными. Мужским певцам полагалась поза а-ля Кобзон – ноги на ширине плеч, руки по швам. Когда (двадцать лет спустя!) появился молодой Валерий Леонтьев, который просто не мог стоять на месте, его на экране до пояса закрывали какой-нибудь декорацией – картонным кубом, например, чтобы не было видно, как он вертит попой. С добрым утром, товарищ Лапин! Об этом можно написать отдельную книжку.
Сейчас перечитал и ужаснулся: вроде как жил маленький мальчик в глухой ненависти к окружающей звуковой среде. Нет, конечно – какие-то вещи завораживали: голос молодой Эдиты Пьехи в сопровождении ансамбля «Дружба», вокальный квартет «Аккорд», волшебное пение грузинского ансамбля «Орэра». Еще кое-что, о чем ниже. Просто они все были в меньшинстве, вываливались из общего фона.
Приходил с работы отец, садился за пианино. Пианино называется «Красный Октябрь», оно одето в серый льняной чехол. Отец приподнимает чехол, открывает ему пасть, полную белых и черных зубов, пробегает по ним руками. Здорово. Я хочу играть как отец, но понимаю, что это невозможно – руки у меня в два раза меньше, и я еле-еле достаю до клавиатуры носом. Единственная пьеса, которую я могу исполнять, – «Гроза». Для этого надо положить много книжек на стул – для высоты, потом на них забраться, открыть тяжеленную черную крышку. Пьеса «Гроза» – импровизационная, я придумал ее сам. Клавиши справа от меня – самые высокие – изображают молнию, клавиши слева – низкие – гром. Все что посередине, между ними, – это, видимо, дождь и вообще течение жизни. Я недоволен своим исполнительским мастерством, поэтому играю пьесу «Гроза» сам для себя, днем, когда никого нет дома и никто не слышит (няня не в счет, ей неинтересно). Приходила подружка со двора – Оля. Оля старше меня года на два, няня ругается, говорит, что она шалашовка. Не знаю такого слова, проникаюсь уважением. Оля показывает мне, как играть на пианино собачий вальс. Мне не нравится – там все время по черным, противно. И вообще отец играет лучше. Собачий вальс не пошел.
На пианино стоит телевизор, он называется КВН. Маленький серый его экранчик прикрыт выпуклой линзой, в которую налита вода. Страшно интересно! Линзу можно выдвигать вперед, и тогда экранчик кажется больше и больше, пока края его не начинают совсем расплываться. Вечером начинается передача – программа пока одна, но говорят, что скоро сделают вторую. На экране крутится телебашня – ее показывают изнутри, снизу вверх, она вся прозрачная и сделанная из палочек, хор поет непонятную белиберду: «Москва, ты самая какая-то красавица, бесконечная родимая земля, и неба синего нарядного красавица звезды алые Московского Кремля!» Сложение большого количества мужских и женских голосов звучит удивительно нехорошо. Долго после этого не любил хор вообще, пока уже лет в пятнадцать не услышал, как он на самом деле должен звучать: на пластинке Гордона Дженкинса. (Оказывается, нехорошо – это когда все поголовно мужчины и женщины поют с партийной интонацией и при этом не очень чисто.) Все остальные звуки, которые издавал КВН, были гораздо приятнее: песенка перед детской передачей («Начинаем, начинаем, начинаем передачу для ребят, в это время все ребята, все ребята к телевизорам спешат. Вы слышите, друзья, часы стучат, не будем больше ждать – начинаем передачу для ребят!»). Передача идет каждый вечер, мне ее включают в обязательном порядке. Там тетя Валя и два кукольных мальчика: Шустрик и Мямлик. Песенка нравится больше, чем сама передача – они говорят какую-то ерунду. Еще перед футболом духовой оркестр играет восхитительный футбольный марш (до сих пор хочу узнать имя автора – действительно отличный марш!). А еще по телевизору все время перерывы (естественно, почти все программы идут в живой трансляции, и надо перетащить камеру из одной студии в другую). В этот момент на экране появляется мультяшный человечек, его зовут Тритатушкин, у него в руках ведро краски и кисть, он пишет на экране слово «Перерыв» и при этом поет песню: «Тритатушкин, тритата, перерывчик, тритата!»
Не помните? То-то! А пластинки? Волшебные черные переливающиеся диски. Они в конвертах из оберточной бумаги, друг на друга без конвертов их класть нельзя: царапаются. Посередине – круглая наклейка голубого цвета, написано: «Мелодия» и цифры – 33 и 1/3. Я уже знаю, что это – скорость вращения пластинки, это пластинки новые, потому что у нас еще есть старые – толстые, тяжелые, и на них написано – 78 об. мин. Там на стороне только одна песня, а на новых – четыре или даже шесть! На проигрывателе специальный переключатель скорости: 78–45 – 33 1/3 (сорок пять – это вообще непонятно зачем, у нас в стране и пластинок таких нет, только за границей). Очень смешно получается, если взять старую пластину – на ней записан фокстрот «Марина» – и завести на 33. Дядька поет очень тягуче и нечеловеческим басом. А если наоборот – какую-нибудь новую на 78 – еще смешнее: ансамбль буратин. Отец не разрешает, говорит, что от этого пластинки портятся. Я, в общем, к ним и не прикасаюсь – отец их заводит сам, если только не играет на пианино (так что звуки радио – это долгий день с момента ухода родителей на работу до их возвращения). Отец ставит печальную тягучую музыку, я знаю, что это называется «Рахманинов», или сборник «Вокруг света» – у нас их много, там песни на иностранных языках. Мне нравится на польском и английском. На польском смешно, а на английском как-то все по-особенному звучит: там есть что-то неуловимое, и вот оно как раз нравится, и хочется покачиваться в такт. Есть еще пластиночка бразильского квартета «Фарроупилья» (был в Рио-де-Жанейро пару лет назад в самом большом пластиночном магазине – не нашел! Даже не слышали про такое. Годы, годы…). Советский Союз, наверно, тогда дружил с братским народом Бразилии, иначе с чего бы эту «Фарроупилью» у нас напечатали. Вся страна пела вслед за ними: «Ма-ма-йо кера! Ма-ма-йо кера!» Но любимая моя была не эта. Она называлась «Самба должна иметь пандейру». Я не знал, что такое «самба», тем более – что такое «пандейра», и каким образом первая собирается иметь вторую. Но красота названия завораживала. Вообще бразильская фонетика очень близка к русской, и в текстах «Фарроупильи» мне тут и там слышались обрывки русских фраз, совершенно лишенные смысла и тем особенно привлекательные. Так вот, «Самба должна иметь пандейру» просто подбрасывала. Я готов был слушать ее бесконечно. (Невероятно – эта пластинка у меня сохранилась, правда за треском и шипом музыки уже почти не осталось. Зато есть целых две того же года и почти непиленные – одну нашел мне критик Петр Шепотинник, другую принесла добрая пожилая женщина-учительница, когда я по радио рассказал о своей мечте – вернуть самому себе любимую песню спустя пятьдесят лет. Ребята! Это не тот случай, когда в детстве влюбился в какую-то ерунду – это действительно убойный номер. Сейчас самбу так уже не играют и не поют.)