Текст книги "Апостол"
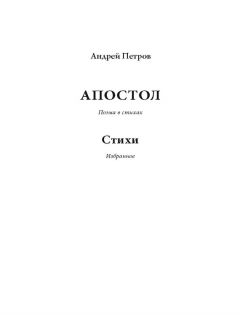
Автор книги: Андрей Петров
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
«У меня нет ничего кроме тебя, моя жизнь…»
Странно. прошел еще один день.
неторопливо. шаркая эхом часов.
уставший вечер смял подо мной постель.
без сожаления, без лишних слов.
упал последний час полуночным гостем,
закончив отсчитывать свою жизнь,
бестактным стуком разбуженный,
вернулся, всеми забытый,
в извечный круг. опять один.
трепетом ветра коснулась ночь
жесткой щеки небритого дня.
против течения снова идти,
против себя, в кровь раздирая мысли.
так нужно. неважно кому и неважно зачем.
знает время свое ремесло,
покровом забвенья мои укрывая следы
в лесах святого безмолвия
и бесконечно далекой мечты,
сквозь пальцы ушедшей когда-то.
какой останемся памятью мы
на этой земле, согретой солнцем великой надежды
и бесконечной грусти неведенья?
что станет с делами
из праха веков сотворенных жизнью
и ушедших бесследно дорогой времен и потерь?
услышан ли голос того, кто имя беззвучно шептал
ночью бессонной, нас призывая к смирению?
– все позади. так было, так будет, так есть
в этом мире иллюзий и страхов,
живущих в садах одиночества душ
с потерянной памятью. великих архатов
достигнет лишь тот, чье сердце покоем полно
и безмятежно взирает на день быстротечный,
в котором – свободно оно.
«Будь что будет…»
У меня нет ничего кроме тебя, моя жизнь.
в беспечной свободе твоя правда.
в том вдохе, в котором исчезнет последняя мысль,
в том взгляде, который не видит пути обратно.
погасли костры нелепых восторгов,
и годы бесценным покровом легли
на плечи могучих бессмертных атлантов,
не знающих мрака бездушных могил.
окончено время пустых разговоров,
низложено бремя неправедных дел,
и руки дрожат у последнего вора,
и алчность, как миф, забыта совсем.
не надо бороться, зачем отрекаться
от жизни своей, без оглядки летя
к никчемным, пустым, эфемерным соблазнам,
до старческой немощи пьющим меня?
пройдет вечный голод потерянных душ,
и жажда отпустит иссушенный разум,
который из пастыря страждущих тел
великим творцом возродится однажды.
«Просыпайся! посыпайся! просыпайся!..»
Будь что будет.
то, что есть, – мое.
ничто не исчезнет.
никто…
и станет день ночью
всего на одну.
и станет ночь короче
на ту звезду,
что падает
в мое сердце.
было время, была боль.
прошла, забыта,
исподволь,
забрав дни и годы
вопреки
желанию царя природы,
раба тоски
и вечности
длиною в жизнь.
было сказано
сгоряча
и услышано,
чуть дыша,
самым искренним, дорогим,
тем, кто любит или любим
до дрожи в голосе
и немом взгляде
каплями за окном.
прости.
снова шепотом.
ни о чем.
вкусом, запахом, взглядом,
легким касанием
случайным плечом.
так просто быть рядом.
так больно быть случаем.
в прошлом.
но только в твоем.
жребий? судьба? —
секундный порыв
оставил свой след в наших днях,
не зная о них;
промелькнул беспечным прохожим
в голубых очках
и с зонтиком дырявым
в неверных руках.
счастливый!
– иди с миром…
Высоцкому
Просыпайся! посыпайся! просыпайся!
просыпайся! – тебе говорю!
подняв голову, открой, наконец, глаза!
пред тобой на ладони весь мир!
пред тобой замолчат города
в смирении принимая судьбу!
просыпайся! – тебе говорю! —
народ, в неверии сгинувший,
продавший своих отцов,
до смертной тоски загулявший,
чуму приютивший под кров,
кровавой старухой обманутый,
упавший к ее ногам,
свободой ее называвший,
воскресший, как древний храм,
из руин слепого неверия.
брошены камни. нечего ждать.
в спину дышать бесполезно.
стала бессонница мучить
и вспять все повернулось,
бесследно – прошлое кануло в лету,
оставив рябь на песке,
и волны смывают ее забвением
и вновь создают, но не мне
читать эти строки танцующих дюн,
упавших звездой на востоке,
на север ушедших от бурь
и вновь возрожденных во пло́ти.
просыпайся! просыпайся! просыпайся!
просыпайся! – тебе говорю! —
народ, в неверии сгинувший
и воскресший, как древний храм.
просыпайся, дитя мира! просыпайся,
исцелившись от ран распятия
на кресте смертоносного века!
искупивший себя веригами тюрем,
окропившийся собственной кровью
под рубиновым треснувшим небом!
над крепостью, увенчанной звездами,
поднимись с колен во весь рост!
беспризорными, босыми росами
обойди свою даль бескрайнюю,
обними ту святую Россь,
за которую шел на плаху,
и мешком покрывал эшафот
белокурые головы братьев,
и на дыбе безмолвствовал рот!
в кандалах обретая бессмертие,
в черных шахтах истерзанный дух
возродится в неистовом сердце
бесконечностью сомкнутых рук,
устремленный в едином порыве,
подхвативший священный оплот,
через тысячу лет наваждений
о себе возвестивший народ!
«Она слушала меня, опустив глаза…»
Вышел из тела – так тому и быть.
значит, время пришло, значит, кончился срок.
и свеча прогорела, как сердце твое,
и кровавой слезой ты истек.
боль охрипшим надрывом, страх холодным ручьем
по склоненным взашеям бил из горла ключом.
беспробудно трезвея, безвозвратно в пути,
беспричинно теряясь, шли минуты твои
по эфирам, по сценам и по злачным местам,
встав со сбитых коленей, шел по шатким мостам,
норовя в колею или в вольный обрыв,
но цыганский мотив неожиданно стих.
перестало звучать, перестало хрипеть,
непривычно сдавило загрудинную клеть;
липко, цепко, бездарно, но зато навсегда.
та, что раньше спасала, – далеко от тебя.
а что нынче спасет – та всегда под рукой.
а капелла звучит ей поминочный вой.
знать бы где, знать бы как, подготовить бы сук,
чтоб не очень высокий и удобный для рук,
чтоб покрыть его тальком, чтоб не очень скользил,
чтобы хваткой последней поздороваться с ним.
и петлей равнодушной, надорвав желваки,
с того света вернуться напряженьем руки.
не прощаясь по жизни, легкой поступью в тлен,
в параллели миров, не жалея колен,
да и мыслей разбитых, неоконченных дел —
разомкнуть, развязать, сделать то, что не спел.
«Многих она спасала…»
Она слушала меня, опустив глаза.
обидой дышала, обиду звала
своей гордостью, истоптанной мной
по беспечности моей, как всегда босой.
обуть бы ее да прибрать к земле
на пользу людям, цветам и мне.
беспечность эта – порок и ложь!
не трогай гордость и проживешь
еще немного тоскливых зим,
еще немного пройдешь по ним.
тихо.
«так было всегда. так повелось у нас»,
– слышу я в лоб тупым приговором слету.
я эту фразу съедал не раз,
запив, не морщась, ее блевотой
слов оправдания, затертых до дыр,
до прободения кислотных язв,
и языком безликих лиц,
лизавших камни не по зубам.
«так было всегда. так повелось».
– не вам судить беспечных,
в наивной дерзости доверившихся сну!
предательской рукой все взвешено до грамма,
в котором мелочность и будничный покой
заключены навек.
какая грусть и жалость!
пройти сквозь стены слов, пройти сквозь времена
осмелится не каждый.
и даже если дан бесценный этот дар,
то в жертву принесешь однажды ты жизнь свою,
глупец, беспечностью заклятый!
в пустом, неведомом раю ты будешь жить один,
как тот, распятый,
прославленный в веках, но потерявший жизнь,
как ветром стертый прах.
– так говорят они, в тщедушии своем
нашедшие отраду и избавление от тягостных трудов, —
искать везде ее, ту призрачную правду,
которая в душе заблудшей беспробудно спит
в мучительном плену, и в забытьи застонет тихо
и в сердце постучит.
«так было всегда, так повелось».
– железные слова не терпят возражений.
не терпят ничего и никогда,
не сожалея ни о чем, не устремляясь вдаль,
не ведают о крыльях за спиной, мечтая об известном,
как старенький дикарь, ютятся в шалаше,
не видя города вокруг, как встарь,
затягивая сказку о былом, и – вдруг – выходит песня,
выходит боком, протискиваясь в горло, но потом —
приходит время весен!
– всему вокруг цвести и буйствовать дано в любые времена,
и будет так, так повелось – согласен я теперь,
добавив: навсегда!
«Распадается целое в сумерках встреч…»
Многих она спасала,
прошептав над ухом нежно свою молитву,
взъерошив волосы, погладив по щеке теплом,
и сердце всхлипнет бывало
последним в жизни прощальным ритмом,
и поплывут круги, и промелькнут года,
потом – наступит миг покоя, счастливой тишины,
и если кто-то взвоет безнадежно от тоски и грусти,
то не услышишь ты ни звука, ни мольбы,
и даже в самом дальнем, забытом захолустье
не отпоют тебя в покойники попы
без предъявленья справки о безумстве.
увы! бумага – пропуск в небеса.
холопам божьим поклониться – забыл
и вот уж сам холопом стал с двуликою душой.
забыться – не страшись на судьбоносном о́дре:
так проще и милей – без костылей молитв
тропой священной рощи идти в недремлющий Аид.
в стальной артерии, направленной в висок,
она жила беспечно короткий срок,
что разделил затвором вечность на «до» и «после»
тот маленький курок, который убивает человечность
одним движением.
и удивленно вскинув мысли в облака – застыть,
не закрывая глаз наивным однолюбом,
как в тот, как в самый первый предрассветный раз,
когда увидел мир, пожалованный людям.
«Стало невмоготу. совсем…»
Распадается целое в сумерках встреч.
телом вибрирует вечер. до напряжения.
в речь переходя движением дерзким.
ласково посмотрев, врубит топорным словом
в линию между плеч. резко.
до крови́ прикусив последнее эхо,
сплюнув оскомину пустоцветия фраз,
напрочь, навзничь, в урочный час
до колен закатав рукава,
пройдет босиком по струнам
и ляжет шальным перебором
аккордов тысяч до ста,
слегка пригубив пурпуром губ и карием глаз
жажду мою и твой экстаз.
распадается целое в сумерках, распадается в нас
мыслями сказанными и недосказанными до основания,
до оголенных жил,
жил бы себе да жил озорным балагуром
и, может быть, даже выжил,
если бы не просил, если бы не встретил ту,
с безразличным прищуром голубых глаз.
оказалось, такое бывает.
оказалось, такое убивает враз,
заглянув в душу однажды
и оставшись там навсегда.
может, пойти да забыться с продажной?
говорят – помогает, но кажется мне,
что едва ли поможет сейчас
этот холодный душ из идеальных поз
и заученных фраз, и если это спасает,
то не меня и не в этот раз.
кричу тебе в глаза жестами жалких слов.
знаю, что не услышишь,
но я повторять готов эти мантры безголосой мольбы:
ты видишь? видишь?! ты! ты! ты…
потерял слова в высокой траве
каплями перламутров.
падают руки в изумрудные заросли на самом дне
той мимолетной случайной разлуки
всего на несколько лет. такой пустяк!
мы будем считать бесконечные дни,
мы будем веселиться от скуки,
мы будем! будем! мы! мы! мы…
по вере дается терпение. я знаю.
надежду обратив в старость,
сгинула навсегда наша беспечность,
наше вечное завтра, пришла усталость,
дряхлеющим палачом, не смотря в удивление глаз,
силой назвавшая слабость и мудростью лепет глупцов,
это всегда восхищало нас своей простотой
и нелепостью, и дерзкой наглостью слабеющих губ
шепчем, конфузясь плебейски,
какую-то важную грусть про «те времена»,
про выцветший мраморный бюст,
квартиру в четыре угла,
в которых подвыпивший Пруст
вопросы свои задает лениво
и даже немножко вальяжно: ты веришь? веришь?!
– не отвечай, не надо! Прусту уже не важно,
в каком настроении ты встретишь его вопрос.
все верят. но многие силу звезд считают своим спасением.
все верят. у всех возникают сомнения: а вдруг?
что если правда?!
поставят на случай свечу и забудут
до новой вселенской грусти свой страх.
так проще… – нет, что ты! я не шучу!
над верой нельзя шутить!
смертельно важный вопрос!
за веру не грех и убить неверную душу.
но разве может такая быть?
– ответ я уже не услышу под градом камней
и хрипящих проклятий бородатых ртов.
зачем я это сказал?! я к смерти еще не готов,
и множество неоконченных дел ждут жизни моей,
я должен закончить их, должен, но —
не успел, не успел, не успел…
«Чудесен каждый день…»
Стало невмоготу. совсем.
из последних, из крайних, вверх, к Нему,
беспризорно и босо
одиноким бредом бреду потерянно в никуда,
из осени в зиму и снова в осень.
монету на счастье в кулак зачем-то,
и, выдавив пять децибел шума,
сердце давление сбросило и просело,
вытолкнув последние силы
в ослабевшее дряхлое тело.
и я не просил ничего, – зачем?
жизнь новая сопит рядом
под крышей моей и защитой стен.
спасала меня эта жизнь не раз
от мыслей шальных и таких же дел.
проснулось опять надо мною лето,
лучи по березам раскинув щедро,
веснушками листьев вступая в возраст,
созревший до самого, до предела.
привет! – посылаю я новому дню,
махнув пятерней над крышами,
и вновь потерянным бредом бреду
пустым, одиноким городом,
где снова меня не услышали.
в толпе затерялся мой сводный брат
– разум, стреноженный похотью, —
несчастный, ослепший в неверии раб
иллюзий, гордыни, сомнительных благ
и псевдосвободного ропота.
слетает листва, опадают снега,
стираются в памяти дни,
забудутся подвигов славных дела,
забудутся все короли,
герои, тираны, слова мудрецов,
напевы прекраснейших муз,
останется вечным на все времена
лишь трепет веснушек берез.
«Я выпил себя до дна. последние капли пустил из вен…»
Чудесен каждый день,
который настает наивным жизнелюбом,
восторженным юнцом приходит в мир
и, повзрослев, уходит мудрецом,
оставив след повсюду, где свет и тень,
играя, создают великие иллюзии творцов.
чудесен каждый миг в своем уединении
и в бесконечном, страстном бытие,
где ловит взгляд прекрасные мгновения,
где вечность улыбается во сне
улыбкой чуткого родительского бдения
и новой жизнью радуется мне.
чудесен каждый шаг неведомым открытием,
в котором познается жизнь.
понять ее – не в силах разум
и подрезает крылья,
на кончиках которых
душа творит добро.
чудесен каждый взгляд,
случайно повстречавший глаза твои,
не в силах отвести,
бывает узнаешь в одном
восторженном и истинном причастии,
куда и для чего тебе, мой друг, идти.
«Развенчан строками дождя. насквозь…»
Я выпил себя до дна. последние капли пустил из вен.
забыл, зачем пришел в этот мир, для чего в нем жил, для
чего взрослел.
точками и пробелами шелестела трава под ногами, опадая
росой,
я шагал, оголтело дыша летним спасом садов и пьянясь без забот
заливными, босыми лугами, – я шагал, колыхая в воде небеса.
зацвела облаками безбрежная гладь, отстраняя себя от земли
переливами радуг и млечностью звезд, в предрассветных
туманах ручьи,
ледяными потоками камни насквозь протыкая игривой струей,
белокурые локоны нежно вплели в распоясанный воздух
шальной.
и цепляясь за блики глазами, прозревая и веруя вновь,
голубит синева небесами в бесконечном движении кровь,
что стремится по венам и рекам, половодьем омыв берега,
возродить из земли человека и вернуть золотые века.
говорят, это дорого стоит. невозможно свободу купить,
не отдав за нее все родное, и потерь избежать, не испив
мед гордыни и деготь сомнений, и вина недозревшей тоски,
забродившей в наивном стремлении снова в гроздь превра —
титься лозы,
наслаждаясь полуденным солнцем, наполняясь лучистым
теплом,
и опасть в полнокровном юродстве, засыпая морщинистым
сном.
и нужна ли она человеку? чем свободный счастливей раба,
что безропотно платит собой, проповедуя жизнь за царя?
верит рабской душой в сопричастность, в становление выс —
ших начал
под железной пятою начальства в государствах, где каждый
украл
или плохо лежащий полтинник, что колодец прикрыл от ноги,
или хлебный обоз в тот зверинец, где растут молодые рабы,
или скудный паек споловинив, остальное отдал старикам,
чьим трудом, от вина обессилив, наслаждался под солнцами
стран,
где обрел, наконец, беззаботность, где закон бы его не достал,
позабыв про его чистоплотность и фальшиво-приятный
оскал.
раб остался рабом без работы и привычных, мозолистых ран,
без усталости, вечной зевоты, без пинков под увесистый срам.
раб остался рабом без цепей, без хозяев и без батогов,
только с рабской душой, видно с ней – не расстаться без смены
голов.
чем свободный счастливей раба? – тем, что нет у него за душой
дорогого земного угла, за который он вел с кем-то бой,
тем, что совесть чиста и рука не дрожит, открывая подъезд,
где тревогой вчерашнего сна притаился внезапный конец.
чем свободный счастливей раба? – тем, что знает свободу на
вкус,
не имел золотого ярма и стеклянной нелепостью бус
не затронуть его естество в неустанном стремлении «вне»,
и не помня, что значит «мое», позабыл притяжение «мне».
он свободен своей простотой, он свободен сегодняшним
днем,
не мечтает о визах всех стран и не грезит завтрашним сном.
он свободен «здесь и сейчас», он внимает: «иди и смотри»,
он прощает лукавый обман, не преследует мысли твои.
и среди современных рабов он шагает, не внемля тельцу,
золотыми рогами купюр не желает снимать наготу
с мыслей, с чувств, с беспроцентной любви, надевая стандартный
аршин,
забывая о вечных словах, забывая о песнях души.
«И не исполнив свой обет…»
Развенчан строками дождя. насквозь.
как древний миф, изорван и скомкан вновь,
казалось бы, в себя, но все не так,
все непривычно ново.
не узнаю ни фраз, ни междометий,
иду поверх неузнанных голов,
укрытых переплетами столетий
и вросших в пол под ножками столов.
развенчан, огранен и отшлифован.
прозрачен, как дворцовое стекло,
умытое фонтанною слюною,
что брызжет от восторга мне в лицо.
пройду по каменеющим тропинкам
под сенью перепиленных стволов
к веселым, отрезвляющим поминкам
по лживой недосказанности слов.
забылось. ну и пусть. не надо.
не надо так навязчиво молчать
глаза закрыв пред сполохами ада,
где в пору мою душу отпевать.
она поблекла, растрепалась, износилась,
стопталась до нуля, заподлицо,
и меньше жизни подарила до могилы
и тоньше волоса венчальное кольцо.
«Еще четыре года ждать…»
И не исполнив свой обет,
судьбу переписав под облаками,
идем по краю жизни, слыша «нет»
и веруя в возможность отрицания.
кто скажет мне, откуда вдохновение
приходит в душу строками стихов,
кто вкладывает кисть в трепещущую руку,
вдыхая образы бессмертия в творцов?
откуда звук в гармонии единой
является великому слепцу
и гордому глухому пилигриму,
не слышащему звука наяву?
как уловить дыханье провидения,
не чувствуя божественный покой,
и отсекать от глыбы заблуждений
все лишнее и бренное? позволь
словам свободными от разума рождаться!
позволь рукам свободно сотворять!
позволь глазам на солнце улыбаться!
позволь другим и падать и вставать!
«Я ходил по стальному небу…»
Еще четыре года ждать,
четыре долгих ожидания
до дней, которые вернут
меня и время в день молчания.
еще четыре раза верить,
четыре раза воскрешаться,
еще четыре засыпать,
мечтая вновь не просыпаться.
предсказан срок безумной девой.
в лохмотьях гордой наготы
она неистово воспела
восход на царствие звезды.
звезды любви, звезды прощения,
звезды искупленных грехов,
звезды начала примирения
вождей, народов и богов.
четыре года – это вечность —
пятнадцать сотен дней в ночи,
ее жестокая безгрешность
убьет последние грехи.
придет рассвет… – уже не верю.
пройдет тоска… – уже не жду.
я щели в окнах не заклею,
чтоб свежий воздух был в раю.
тюрьма души комфортом нежит,
свободой тело дорожит,
и все пути к себе отрежет,
и все обратные застит.
свободно жить в тюрьме – проклятие.
свободу сеять – геноцид.
снимаюсь с этого распятия —
мой путь в изгнание лежит.
«Треснувшим смехом начинается день…»
Я ходил по стальному небу,
каблуки до мозолей сбивал,
терся лбом о небесную твердь,
до крови кулаки раздирал
о зазубрины горных вершин,
о беззубые бритвы снегов,
перекраивал свой идеал
по бесчисленным меркам мирков.
было время великих начал
и пространство внезапных концов,
я вселенную медленно вжал
в междозубие стиснутых слов,
подбирая аккорды для струн,
на отвалах чужих рудников
беспричинно поддерживал пыл
бестолково-безусых юнцов.
чем прошелся по мне этот день?
захребетная силится боль
разогнуться и вычеркнуть нерв
из безжалостных списков неволь,
где ржавеют скрижалями страх,
изнуряющий голод и бред
низколобых, больных мудрецов,
в благодать превращающих грех.
зацепился за розу ветров
и под кожу четыре шипа
проникающим медленно в кровь
ядом знаний втравили меня
в бесполезно-докучливый мир
рассуждений наивных детей,
смыслом жизни своей возгласив
доказательство тленных идей.
запестрела безликая зыбь
в зеркалах городских площадей,
где не страшно в безлуние выть
желтоглазьем ночных фонарей.
по бордюрам наметив пути
и во все заходя тупики,
отшутился ликующий сброд
от вопросов о цели пути.
мне не скинуть проклятий чужих
с обгоревших под солнцами плеч;
задубею распятием шкур
там, где мог бы спокойно залечь
на соломы содомских полей,
и в гоморровы пазухи нор
мне не втиснуть свободную речь,
от тоски преходящую в ор.
чем запомнится эта война?
– в ней слова убивали навылет,
и в бесчисленно-мелких правах
мы права потеряли на имя,
на свободу без страха идти,
быть услышанным всеми без лжи,
зацепившись за розу ветров,
мы себя потеряли во ржи.
подростковых амбиций рабы,
мы империи строим в мечтах;
на осколках кровавой страны
мы мечтаем о целых мирах,
затоптав молодые ростки,
задушив вдохновенье творцов,
всенародною волей толпы
задыхаемся волей дельцов.
так и надо, так будет всегда:
в услужении будем ходить,
на задворках родного угла
горбылями забытыми гнить,
в тьме туманов отравленных душ
в одиночествах будем стоять,
лишь себя бескорыстно любя,
лишь себя не желая распять.
Треснувшим смехом начинается день.
с полной луной укатила на запад ночь.
мороз в низинах сковал беззащитность капе́ль
и наутро оставил, убравшись до вечера прочь.
десять сорок протрещали приход зимы,
вдоволь наевшись стоцветием облепих;
нет больше цвета на ветках колючих тихонь,
нет больше цвета в пустынных глазах моих.
мерзлым панцирем горбится в небо земля.
тысячи пиков взметнула застывшая бледная грязь.
змеем черным ползет по пути колея,
в каждый двор заползая и там до весны затаясь.
день взошел миллиардом холодных свечей.
нет тепла в ослабевших далеких лучах,
и в застывшем полудне даже самая серая тень
заявляет на свет о своих эксклюзивно-законных правах.
садит в землю кольцо за бетонным кольцом,
выгребая ведром бесконечную жидкую хлябь,
человек в перепачканной робе и с мрачно-застывшим лицом,
каждодневно мечтая до чистой воды докопать.
встрепенулся наивностью и простотой нескончаемых дум
в перекошенной шахте чужих заблуждений и праведных вер,
но и этот посмертно-последний подъем изнуряющих сил
станет целью стандартных решительно-экстренных мер.
высыхают людские колодцы в томленье засушливых лет,
нет ни капли росы в измученных засухой треснувших ртах.
не было дня, чтоб никто ничего не просил взамен,
если б случился такой, то все раздавалось бы просто так!
травит памятью дней бесконечная вязкая ночь.
летаргической комой спасаю никчемную жалкую жизнь.
мне хватило бы капли тепла, чтоб сегодня себя превозмочь.
мне хватило бы капли дождя, чтоб родиться сегодня немного другим.
направляет судьба подзатыльником бодрым вперед,
перемахивать ямы и стены различных нелепых причин.
через многие тяготы нам предстоит переправиться вброд,
забываясь под масками разных бездушных личин.
зацелованы ступни в припадке плебейской любви.
каждый гвоздь облизали и даже повыше колен
умудрились поставить засосы больные моралью рабы,
однополо сплетаясь в клубы недолюбленных матерью тел.
повторяет упрямо уроки для нас терпеливая жизнь.
век за веком слагаясь в эпохи причудливых форм и теней.
подросли мы заметно в белково-разумную ширь,
но удушливо стало и беспросветно темней.
в ремесле разглядев свой единственно-правильный путь,
затаились в гробницах домов и квартир города,
совершенство вонзая в бездушно-дышащую грудь
и монеты вставляя при жизни в пустые глаза.
поднимается пыль от дыхания старых ветров.
и короткая память в восторге от мертвых идей.
направляются полчища вновь возрожденных сынов
на холодные плахи отмоленных вновь площадей.
не спасет нас от грусти бессмысленно-праведный бунт.
не прозреет слепой, без конца повторяя мотив
той молитвы, с которой ведут на священный убой
безнадежно-оглохших и всех – безнадежно других.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































