Читать книгу "Перекличка Камен. Филологические этюды"
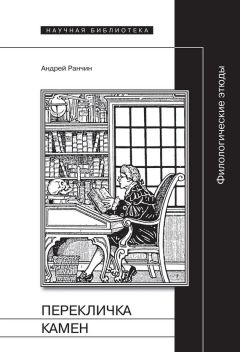
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Что и почему едят помещики в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»
[62]62
Впервые: Коды повседневности в славянской культуре: Еда и одежда. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Алетейя, 2011. Печатается с дополнениями.
[Закрыть]
Гастрономические вкусы и наклонности гоголевских помещиков из «Мертвых душ» являются важной характеристикой, средством раскрытия характеров, одним из способов авторской оценки и инструментом символизации их образов.
Я намеренно ограничиваюсь только некоторыми сопоставлениями гастрономических мотивов и образов в описании помещичьей жизни в первом томе «Мертвых душ» с литературной «гастрономией» в других сочинениях Гоголя, отказываясь от параллелей с более широким литературным контекстом, хотя прекрасно сознаю ограниченные возможности имманентного анализа. Впрочем, я не мог избежать некоторых сопоставлений с фольклором.
В «гастрономическом» коде «Мертвых душ» выделяются пары персонажей: Манилов – Плюшкин и Коробочка – Собакевич. Рассмотрим обе пары.
Манилов и ПлюшкинВ гостях у Манилова Чичиков обедает, но гастрономическая тема элиминирована, вкушение яств главным героем не описано[63]63
См. об этом подробнее в статье «Еще раз о композиции “помещичьих” глав первого тома поэмы Н.В. Гоголя “Мертвые души”», изданной в настоящей книге. В экспозиционной характеристике четы Маниловых вкушение пищи присутствует: «Несмотря на то, что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: “Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек”. Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно» (V; 31). Однако еда в этом фрагменте, во-первых, словно лишается питательных признаков, превращаясь благодаря уменьшительно-ласкательным суффиксам в нечто очень субтильное и полуэфемерное, а во-вторых, становится элементом иного, эротического кода; показательны приравнивание благодаря уменьшительно-ласкательным суффиксам «душеньки» и «ротика» к «яблочку», «конфетке», «орешку» и «кусочку», а также эротические коннотации вкушения оных «ротиком».
[Закрыть].
У Плюшкина же Чичиков есть побрезговал. Сходство ситуаций значимое: если Коробочка, Ноздрев (он, впрочем, на особенный манер) и Собакевич не чураются телесного, удовольствий плоти и их болезнь заключается в неразвитости и/или отсутствии духовного начала, то у Манилова духовное начало измельчало, а у Плюшкина чудовищно извращено.
Однако по признакам, связанным с концептом еды, Плюшкин не только соотнесен с Маниловым, но и противопоставлен ему, как, впрочем, и всем остальным помещикам первого тома. Первая из двух деталей, ниже рассматриваемых, – не еда, а знак еды, но у Плюшкина и реальная еда, будучи испорчена, приобретает чисто виртуальные, семиотические свойства. Таково, например, яичко на «мраморном позеленевшем прессе» (V; 145)[64]64
Символическим значением яйцо наделено еще в повести «Сорочинская ярмарка»: попович рассказывает Хивре о подношениях, полученных его отцом: «<…> Батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, книшей с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частию протухлые» (I; 134–135). Протухшее яйцо выступает как знак греховности.
[Закрыть], а также подпорченный кулич[65]65
См. об этом подробнее в статье «Еще раз о композиции “помещичьих” глав первого тома поэмы Н.В. Гоголя “Мертвые души”», изданной в настоящей книге.
[Закрыть].
Любопытно использование при нравственной характеристике Плюшкина гастрономической метафорики: «Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее <…>» (V; 150–151). Плюшкин в этой характеристике – единственный из помещиков, который «не ест», но которого «едят», «съедают» его собственные пороки.
Коробочка и СобакевичВ отличие от предыдущей пары это истинные и даже чрезмерные гурманы (особенно Собакевич). Соответственно, если пороки первых двух имеют скорее духовный характер, то у вторых – скорее «плотский».
Коробочка
Хозяйка угощает Чичикова, в частности, блинами, из которых «гость свернул три блина и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот <…>
– У вас, матушка, блинцы очень вкусны, – сказал Чичиков, принимаясь за принесенное горячее» (V; 71–72).
Было бы соблазнительно соотнести угощение блинами со славянской ритуальной трапезой по покойнику, причем в роли покойника («мертвой души») могут выступать как хозяйка, так и гость или оба персонажа. (Вообще, Коробочка ассоциируется с инфернальным миром, будучи наделена чертами ведьмы и Бабы-яги, о чем писали А.Д. Синявский и М.Я. Вайскопф[66]66
Ср.: Терц А. <Синявский А.Д.> В тени Гоголя. Лондон; Париж, 1975. С. 413–415; Вайскопф М.Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. 2-е изд., испр. и расшир. М., 2002. С. 505.
[Закрыть].) У Коробочки Чичиков «чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом». Сон может быть в данном контексте заместителем смерти. В волшебных сказках именно Баба-яга испытывает героя, ставя перед ним задачу не уснуть[67]67
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. [3-е изд.]. СПб., 1996. С. 80–81. Образ Бабы-яги привлекал внимание Гоголя – писателя; она персонаж «Ночи накануне Ивана Купала». Черты Бабы-яги прослеживаются в образе «жертвы могилы», старухи с мутными глазами, отворяющей ворота в <Главах из романа «Гетьман»> (VII; 100).
[Закрыть].
Но Коробочка еще и владелица настоящего меда, который пытается продать заезжему гостю. Мед же – реальный, а не метафорический – наряду с блинами использовался в похоронном обряде: «Пока покойник еще в доме, его угощают блинами: когда пекут блины, первый блин, еще горячий, иногда смазанный медом, кладут на лавку в головах умершего, или на окно, или на божницу. <…> На похоронах и поминках принято подавать кутью <…> вареный ячмень или пшеницу с разведенным водою медом, затем блины, кисель с медом <…> основной напиток – подслащенное медом пиво или брага»[68]68
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Пер. с нем. К.Д. Цивиной. М., 1991. С. 356. На конференции «Концепт еды в славянских культурах (заседание 3 декабря 2008 года) Дечка Чавдарова задала автору этих строк вопрос, как соотносятся символическая связь Коробочки с миром мертвых и с Бабой-ягой, с одной стороны, и семантика ее имени Анастасия (‘воскресшая’ – греч.); сама же она предложила в качестве объяснения принцип контраста. Такое объяснение можно принять. На этом же заседании М.В. Загидуллина высказала предположение, что имя и отчество Коробочки Настасья Петровна могут восходить к именованию медведицы в русских сказках, что дополнительно свидетельствует о ее сходстве с Михаилом Семеновичем Собакевичем, похожим на средней величины медведя. Это предположение мне представляется слишком смелым.
[Закрыть].
Собакевич
Собакевич тоже хлебосол и гурман, но он также и чревоугодник. Вместе с тем он «патриот в еде» – поглощает щи и няню, обвиняя наученного французом губернаторского повара в приготовлении кота под видом зайца и напоминая об обыкновении французов есть лягушек; достается от обжоры Собакевича французам и немцам и за то, что «выдумали диету, лечить голодом!» (V; 123–124).
Поглощаемая Собакевичем за обедом и усердно предлагаемая Чичикову «няня, известное блюдо, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками» (V; 123) – это контекстуально полугротескный образ, фактически метафорическое изображение самого Собакевича, в котором желудок составляет все, а душа и мысль запрятаны необычайно глубоко. Получается, что желудок словно обволакивает всего Собакевича, являясь его покровом, кожей.
Способность Собакевича к поглощению пищи представлена как черта поистине эпическая. Позднее, на приеме в городе, Собакевич в мгновение ока съел осетра.
В быту Собакевича как бы въяве осуществлено то, что было бахвальством у Ноздрева. Таков невероятный индюк ростом с теленка[69]69
Гиперболизированный, громадный индюк напоминает хвастливые рассуждения о своих индейках помещика Ивана Ивановича из повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка»; ср.: (I; 354).
[Закрыть], набитый «невесть чем», кстати «аукающийся» с индейским петухом Коробочки, которому Чичиков сказал «дурака»: теперь, поедая индюка, Чичиков словно мстит старому знакомому. А «редька, варенная в меду» (V; 126) заставляет вспомнить о метафорическом меде дома Коробочки.
Весьма красноречиво обращение во время обеда Собакевича к супруге «душенька» и «душа». Лексема, обозначающая душу, ставится в гастрономический контекст, что создает эффект комического оксюморона. Отчасти аналогичный случай представлен в «Ревизоре»: записка городничего на счете («уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек» [III/IV; 334]). Дополнительный комический эффект заключается в том, что супруга Собакевича – это словно его душа, в теле самого хозяина как бы отсутствующая.
Показательно и внутреннее (не осознаваемое самим Михаилом Семеновичем) противоречие между грехом чревоугодия, которому он предается, и ритуальной чистотой в пище и перекрещиванием рта.
Однако отношение к Собакевичу никак не сводится к сатире, отчужденности и т. д. Ранее, в связи с обедом Чичикова в придорожном трактире, Гоголь замечал: «Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей» (V; 76–77). Конечно, эта «исповедь»-признание, эта зависть подсвечены иронией[70]70
Впрочем, для зависти этим «господам» у автора «Мертвых душ» был реальный физиологический резон: Гоголь страдал желудком и был вынужден отказываться от пищи; сетования по этому прискорбному поводу содержатся в его письме А.С. Данилевскому от 31 декабря 1838 года.
[Закрыть] и контрастируют с другим признанием автора в «плюшкинской» главе, уже совершенно серьезным и патетическим, – с признанием в оскудении чувств, в старении души (V; 139–140).
Но изображение обильной трапезы в «Мертвых душах» не сводится к иронической трактовке и к изображению греха чревоугодия, хотя собакевичевское объедание – это, конечно, порок и грех. Во-первых, сытный и даже чрезмерный обед – проявление симпатичного Гоголю хлебосольства. П.М. Бицилли, анализируя образ жизни персонажей «Старосветских помещиков», провел параллель с характеристикой усадебного времяпрепровождения в «Евгении Онегине»[71]71
Бицилли П.М. Проблема человека у Гоголя // Бицилли П.М. Избранные труды / Сост., подгот. текстов и коммент. В.П. Вомперского и И.В. Анненковой. М., 1996. С. 570.
[Закрыть]. П.М. Бицилли обращает внимание на низкий, комический или полукомический план изображения усадебного быта обоими писателями. Однако этот быт, полный дорогих автору «Евгения Онегина» «привычек милой старины», для Пушкина не только «низкий». Как и для автора «Старосветских помещиков».
Хлебосольство представлено как симпатичная автору черта патриархального быта и как выражение гостеприимства еще в предисловии к первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Зато уж как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. <…> Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объедение, да и полно» (I; 119).
Панегирик еде в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» исполнен иронии и даже приобретает мрачный тон в соотнесенности с изображаемой страшной историей ссоры двух пошло-самодовольных приятелей: «Не стану описывать кушаньев, какие были за столом! Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об утрибке, которую подавали к борщу, ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, – о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях потому, что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах» (I; 663). Однако эта ирония, как представляется, не направлена на гастрономические изыски и на гурманство как таковые. По-видимому, аналогичным образом можно трактовать и изображение обеда в повести «Коляска»: «Обед был чрезвычайный: осетрина, белуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что повар еще со вчерашнего дня не брал в рот горячего, и четыре солдата с ножами в руках работали на помощь ему всю ночь фрикасеи и желе» (III/IV; 200).
Гоголевские помещики-хлебосолы – Григорий Григорьевич Сторченко (повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка») и Петр Петрович Петух (второй том «Мертвых душ»). О хлебосольстве богатых помещиков как о глубоко симпатичной ему черте Гоголь упоминает в письме матери из Любека от 25 августа 1829 года[72]72
И.А. Виноградов, трактуя отношение Гоголя к гастрономии, к обедам и к хлебосольству как негативное и непосредственно связывая с представлением о грехе чревоугодия (и, шире, угождения плоти), ссылается на свидетельства писем Петру П. Косяровскому от 13 сентября 1836, года Н.Я. Прокоповичу от 27 сентября 1836 года и М.П. Балабиной от 7 ноября 1838 года н. ст. (Виноградов И.А. Гоголь – художник и мыслитель: Христианские основы миросозерцания. М., 2000. С. 82). Однако в первом из этих писем Гоголь всего лишь противопоставляет радость простых домашних обедов после работ в саду роскошным угощениям в доме вельможи Д.П. Трощинского, отнюдь не высказываясь по поводу вкушения пищи как такового. В двух же других письмах, действительно, выражено раздражение от бесконечных европейских обедов и от толков о еде. И.А. Виноградов безусловно прав, рассматривая их оценку Гоголем как неприятие пошлости, но и здесь нет ригористического осуждения любви к вкусной пище. В письме М.П. Балабиной Гоголь обращается к антитезе романтического плана, а не к христианской оппозиции духа и плоти, противопоставляя «луну» и «фантастический плащ немецкого студента» (Германию «сказок Гофмана») «скучным табльдотам» и «бесконечным толкам о том, из каких блюд был обед и в каком городе лучше едят» (Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. / Вступ. ст. А.А. Карпова; Сост. и коммент. А.А. Карпова и М.Н. Виролайнен. М., 1988. С. 313). Вместе с тем, по характеристике И.А. Виноградова, Гоголь стремился к уподоблению и даже к превращению русского имения в монастырь; И.А. Виноградов ссылается на предсмертное завещание Гоголя сестрам и на письмо родным от 25 января н. ст. 1847 года, в котором автор «Мертвых душ», в частности, советует ограничить обеденный стол только продуктами домашнего производства и приготовления, отказавшись от покупных. – Виноградов И.А. Гоголь – художник и мыслитель: С. 118–119.
[Закрыть].
Сытная, хотя и лишенная «излишеств» Собакевича и гастрономических изысков еда представлена как идиллия трапезы в поэме «Ганц Кюхельгартен». Хозяйка Берта приглашает за стол:
«…лучше сядем мы
Теперь за стол, не то простынет все:
И каша с рисом и вином душистым,
И сахарный горох, каплун горячий,
Зажаренный с изюмом в масле». Вот
За стол они садятся мирно;
И скоро вмиг вино все оживило
И, светлое, смех в душу пролило.
(VII; 26)[73]73
А в сознании простонародного рассказчика в повести «Вечер накануне Ивана Купала» вкусная пища даже предстает неотъемлемым признаком загробного благополучия: «Дед мой (Царство ему Небесное! чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду!) умел чудно рассказывать» (I; 154). Естественно, это высказывание, языческое по сути, подсвечено авторской иронией, однако не подвергнуто автором ригористической оценке.
[Закрыть]
В письме XXII «Русский помещик (Письмо к Б. Н. Б…..му)» из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» вкушение еды, совместная трапеза помещика с мужиками также наделены значением патриархального идиллического пира, соединяющего барина с его крепостными; но общий обед наделяется и значением религиозным – наподобие общих трапез – агап первых христиан; обед сравнивается с угощением в Светлое Христово Воскресение (VI; 144–145).
Обед, совместное вкушение пищи для Гоголя имеет особенное значение, и не случайно в этом же письме автор советует: «Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякий день. Читай с ним вместе духовные книги: тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего» (VI; 147). Насыщение плоти и духовная трапеза (вкушение слов из церковных книг) поставлены рядом[74]74
О религиозной и мифологической трактовке еды у Гоголя см.: Успенский Б.А. Время в гоголевском «Носе» («Нос» глазами этнографа) // Успенский Б.А. Историко-филологические очерки. М.: Языки славянской культуры, 2004.
[Закрыть].
Механическое, незаинтересованное, «невкусное» поглощение пищи представлено Гоголем как бесспорный изъян, как проявление внутренней ущербности в повести «Шинель», герой которой Акакий Акакиевич Башмачкин «приходя домой, <…> садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом» (III/IV; 161).
И наконец, обжорство Собакевича и Петуха – сниженный вариант «богатырства» и русской «широты» и безудержности. Собакевич и Петух в этом отношении напоминают персонажа русских волшебных сказок Объедало (сюжет о шести товарищах – тип АТ 313, например тексты № 137, 138 и 144 из сборника А.Н. Афанасьева; а также текст № 219 «Морской царь и Василиса Премудрая»[75]75
Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. / Изд. подгот. Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков. М., 1985. (Серия «Литературные памятники»). Т. 2. С. 141.
[Закрыть]). Не случайно Собакевич всячески подчеркивает свою «русскость», нещадно браня иноземцев-французов и их кухню. Но ведь и автор – хотя и в совсем ином плане – прославляет русское начало, противопоставляя его иноземным навыкам и обычаям в знаменитом лирическом отступлении о Руси – «птице тройке».
Способность к поглощению пищи в огромных количествах представлена как черта эпической героики в повести «Тарас Бульба», в которой Тарас произносит о еде такие слова: «<…> Тащи нам всего барана, козу давай <…>!» (I/II; 411, текст второй редакции). Они перекликаются с высказыванием Собакевича: «У меня когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся!» (V; 125).
Совершенно особенное место занимает в ряду помещиков из первого тома «Мертвых душ» НОЗДРЕВ. Он лжегурман: стремится к изысканности, пытается потрафлять вкусу, но из этого получается нечто чудовищное. Принцип «кучи» безраздельно властвует в ноздревской гастрономии: его повар «руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец – он сыпал перец, капуста ли попалась – совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох, – словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет» (V; 95). Так же обстоит дело с вином: «Мадера, точно, горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки» (V; 95–96). Ноздрев в галерее посещенных Чичиковым помещиков – центральный персонаж, третий из пяти, и как гастроном противопоставлен всем прочим.
Анализ «гастрономического» кода показывает неполное соответствие гоголевскому тексту господствующих в науке трактовок композиции помещичьих глав.
Приложение
В тени Пушкина, или Гоголь-2009: Неюбилейные заметки о двухсотлетнем юбилее
[76]76
Впервые: Новое литературное обозрение. 2010. № 103.
[Закрыть]
Непредвзятый и сколь бы то ни было внимательный наблюдатель празднования двухсотлетия со дня рождения Гоголя в марте – апреле 2009 года не мог бы не отметить разительный контраст между характером посвященных ему официальных юбилейных торжеств и характером пушкинских торжеств десятилетней давности[77]77
Говоря об официальных торжествах, я подразумеваю не только собственно мероприятия с участием представителей власти, но и рекламу юбилеев, ими заказанную и оплаченную, и посвященные обеим годовщинам телепрограммы – как на государственном, так и на формально частном телевидении (разница между первым и вторым в политике телевещания, по крайней мере в этом конкретном случае, эфемерна).
Также замечу: я не сравниваю отражения двух юбилеев в разнообразных конференциях, круглых столах и прочих акциях административно-научного рода: с этой точки зрения Николай Васильевич не уступил Александру Сергеевичу.
[Закрыть]. Тогда к опекушинскому «кумиру» поэта возлагал венки не кто-нибудь, а сам премьер Степашин; непосредственно клали венки к монументу офицеры, исполняя медленные ламбадообразные движения (помесь вальса с фрунтом, способная изумить знатоков плац-парадных экзерцисов, таких как граф Аракчеев и иже с ним.) Бронзовый «кумир» на Тверской стал олицетворением горацианского «памятника нерукотворного», вознесшегося «главою непокорной» выше «Александрийского столпа»; к творению Опекушина должен был проторить незарастающую тропу «всяк сущий» в Российской Федерации «язык» – от «гордого внука славян» до не менее гордого чеченца. Был запущен обратный отсчет времени: в телевизионных «вставках» начали считать оставшиеся до дня рождения Поэта дни, считать, словно годы до Рождества Христова или до конца света[78]78
Эта эсхатология «а la Пушкин» была блестяще спародирована в сочиненном тогда же анекдоте: «До дня рождения Пушкина осталось *** дней (количество дней – на усмотрение рассказчика. – А.Р.). Заплати налоги и спи спокойно!» Внезапная одержимость власти культурой и ее неизменная мытарская озабоченность, отразившаяся в настойчивом телепризыве к гражданам платить подати, в этой остроте уравнены, – как и в телеэфире «пушкинского» года.
[Закрыть]. Телеканал НТВ, в то время уже не проявлявший особенной любви и почтения к классике, приветствовал двухсотлетие «нашего всего» эпической длительности пятисерийным фильмом Леонида Парфенова «Живой Пушкин», показанным в прайм-тайм по одной серии в день. Москва оделась плакатами, на которых реяли строки, отныне раз и навсегда ставшие пушкинскими: «Я лиру посвятил народу своему», «Средь шумного бала» и иже с ними. Иногда среди них, как ни странно, даже встречались стихи, действительно написанные юбиляром.
В сравнении с пушкинским гоголевский юбилей прошел блекло и почти незаметно. Ни подобных церемониальных действий, ни транспарантов с изречениями. Впрочем, Парфенов не преминул отметить и эту литературную дату телефильмом. Однако премьера «Птицы-Гоголя», показанного за один вечер в позднее время по ОРТ, уступила в значимости показу «Живого Пушкина», к тому же «Птица-Гоголь» серьезно проиграл сериалу о Пушкине как в продолжительности (140 минут против 205), так и в количестве серий (2 против 5). В отличие от недели с Пушкиным, который «и теперь живее всех живых», – поздний дремотный вечер с диковинной птицей. Финал же выглядел совсем неказисто: вместо редкого гоголя, способного долететь до середины Днепра, Леонид Парфенов запустил в небеса селезнем зауряднейшей кряквы.
Новый большой сериал о Гоголе представил лишь телеканал «Культура» – фильм «Оправдание Золотусс…», виноват, «…Гоголя», представляющий собой фактически экранизацию давней ЖЗЛовской книги Игоря Золотусского. Но «Культура» – канал особый, тут уж положение обязывает.
Вокруг дня рождения Пушкина в телевизионной сетке тесно угнездились показы разнообразных фильмов – художественных и документальных. Вокруг гоголевской даты – почти пустота, причем для демонстрации фильмов по Гоголю подчас словно в насмешку было выбрано самое неудачное время, как в случае с «Вием», явившимся на канале «ТВ Центр» отнюдь не в зловещую полночь, а в бодрое раннешкольное утро.
Произошла простая вещь: Гоголь споткнулся «об Пушкина». В этом в общем-то нет ничего особенного: ни один русский классик не выдержит состязания с «нашим всем»[79]79
Единственным исключением мог бы стать в какой-то степени Достоевский. О его значимости для сознания общества свидетельствует рейтинг писателя в телепрограмме «Имя России»; Достоевский – хороший экспортный товар, в отличие от нефти не зависящий от конъюнктуры рынка; он – знаменитый «душевед» – автор «психологических триллеров»; он оказался «раскрученным» благодаря новому телесериалу по «Идиоту» и настойчивой рекламе фильма; автор «Бесов» воспринимается как проницательный предсказатель российских бед двадцатого века и в этом смысле неложный наставник; наконец, он оказался успешно освоен масскультом: и глянцевые журналы, и модные показы сделали своим слоганом изречение «Красота спасет мир!». (Заметим: такая известность и популярность отнюдь не означает, что произведения писателя много и увлеченно читают, это «магия» имени и мифология образа.) Впрочем, Достоевский способен составить конкуренцию скорее Гоголю, чем Пушкину: и как приверженец идеи избранничества и всемирной миссии русского народа, и как критик основ западной цивилизации, и как один из создателей мифа о Пушкине он «играет на поле» творца «Мертвых душ» и «Выбранных мест из переписки с друзьями».
[Закрыть]. В случае с Гоголем были, однако, и специфические причины, связанные с расхожими представлениями о писателе, которые авторы официальных и полуофициальных культурных проектов не могли не принимать во внимание, тем более что, скорее всего, сами их разделяли. Причина первая – самая очевидная и потому неинтересная для раздумий. Автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Мертвых душ» пал жертвой политического противостояния Украины и России: хитрый малоросс, создатель «Тараса Бульбы» – украинской «Илиады» в прозе, пусть и на русском языке, пусть и завершающейся предречением старого Тараса о будущем переходе Малороссии под руку великого православного царя, как представилось творцам и исполнителям современной российской политики, смотрелся в роли национального русского писателя несколько странно. Претензии Украины на «своего Гоголя» (впрочем, сочетавшиеся с опасливым отношением к омоскалившемуся соотечественнику) подлили масла в огонь этого спора «Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем».
Существеннее другое: быть признанным в роли национального гения, воплотившего в своих творениях дух народа и страны, может, очевидно, только автор значительных и «жизнеутверждающих» сочинений, обратившийся к истории нации и установивший некоторый комплекс мотивов, образов, парадигм, образовавших тот язык, посредством которого нация описывает свое прошлое и выражает собственные ценности. Конечно, само это представление о национальном гении, уходящее корнями в романтическую эпоху, – мифологема, а не явление наличествующей действительности[80]80
О механизме этого представления см.: Песков А.М. Пушкин – alter ego русской души. Историософские основания общего места // Песков А.М. «Русская идея» и «русская душа»: Очерки русской историософии. М., 2007. С. 76–80. А.М. Песков, однако, прямо не связывает замещение вакансии первого национального поэта именно Пушкиным с реальными свойствами его творчества.
В связи с этой темой см., например: Debreczeny P. «Житие Александра Болдинского»: Pushkin’ Elevation to Sainthood in Soviet Culture // Late Soviet Culture / Ed. by T. Lahusen and G. Kuperman. Durham, NC: Duke University Press, 1993. P. 47 ff; Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении (О литературной репутации Пушкина) // Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001. (Новое литературное обозрение. Серия «Научная библиотека»).
[Закрыть]. Как известно, можно быть убежденным, что за выкрученные лампочки в подъезде ответствен Пушкин, не зная, кто это собственно такой. Тем не менее канонизация писателя как главного и первого выразителя национальной культуры совсем не произвольна. Вот череда вопросов, предполагающих однозначные ответы. Русская женщина – Татьяна Ларина. Русская любовь – см. предыдущий ответ. Стихи про русскую любовь – «Я помню чудное мгновенье…». Истинный русский историограф – летописец Пимен. Русский бунт – «бессмысленный и беспощадный». Русский характер – читай калмыцкую сказку в «Капитанской дочке». Сентенции на все случаи жизни и русской истории: «Товарищ, верь: взойдет она…»[81]81
Принадлежность этого известного послания Пушкину небесспорна. Недавно вновь были высказаны соображения о необходимости его разжалования до ранга «Dubia» и о принадлежности перу другого автора или авторов; см.: Ивинский Д.П. «Любви, надежды, тихой славы…»: к вопросу об авторстве, адресате и датировке // Ивинский Д.П. А.С. Пушкин: Жизнь и творчество: Пособие по спецкурсу. М., 2009. Вып. 1. С. 215–236. Но в восприятии пушкинского творчества не только читателями-нефилологами, но и филологами– непушкинистами это текст безусловно пушкинский.
[Закрыть]; «Нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит»; «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста»; «Народ безмолвствует»; «Два чувства дивно близки нам <…> Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам»; «Не дорого ценю я громкие права, От коих не одна кружится голова. <…> Иные, лучшие мне дороги права; Иная, лучшая потребна мне свобода: Зависеть от царя, зависеть от народа – Не все ли нам равно?».
Пушкин – создатель признанных эталонными русских литературных сказок[82]82
В одном случае (поэма «Руслан и Людмила») – создатель образцового поэтического вступления к сказке. Сама поэма-сказка не стала таким образцом, но о «дубе зеленом» знают точно все, даже не ведая, что такое лукоморье.
[Закрыть]. Пушкин – автор «Евгения Онегина» – «энциклопедии русской жизни»[83]83
Затасканное до дыр и замызганное до неприличия определение Белинского, на взгляд автора этих строк, исконно очень содержательное и глубокое.
[Закрыть] – великосветской и усадебной. Он наш Шекспир, написавший «Бориса Годунова» – трагедию на сюжет о событиях Смутного времени. Он певец «державца полумира», демиурга – творца новой России Петра Великого («Медный Всадник») и бытописатель простых и сердечных нравов, способный без пафоса и велеречивости изображать истинные долг и благородство («Капитанская дочка»).
Не менее важно, что в пушкинских текстах (не только в относящихся к изящной словесности, но и в дневниках или письмах) как будто бы естественно, органично сращены два контрастных начала русского национального самосознания Нового времени: либерализм, опьянение свободой – и трезвый консерватизм и монархизм. По меткой характеристике Георгия Федотова, автор «Вольности» и «Стансов» – «певец империи и свободы»: «<…> [B] его храме Аполлона было два алтаря: России и свободы.
Могло ли быть иначе при его цельности, при его укорененности во всеединстве, выражаясь языком ненавистной ему философии? Пушкин никогда не отъединял своей личности от мира, от России, от народа и государства русского. В то же время его живое нравственное сознание, хотя и подчиненное эстетическому, не позволяло принять все действительное как разумное. Отсюда революционность его юных лет и умеренная оппозиция режиму Николая I. Но главное, поэт не мог никогда и ни при каких обстоятельствах отречься от того, что составляло основу его духа, от свободы. Свобода и Россия – это два метафизических корня, из которых вырастает его личность.
Но Россия была дана Пушкину не только в аспекте женственном – природы, народности, как для Некрасова или Блока, но и в мужеском – государства, Империи. С другой стороны, свобода, личная, творческая, стремилась к своему политическому выражению. Так само собой дается одно из главных силовых напряжений пушкинского творчества: Империя и Свобода.
Замечательно: как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно»[84]84
Федотов Г.П. Певец империи и свободы // Пушкин в русской философской критике: Конец XIX – первая половина XX в. / Сост., вступ. ст., библиогр. справки Р.А. Гальцевой. М., 1990. С. 356–357.
[Закрыть].
Конечно, это представление о противоречивом, неустойчивом, но все же равновесии Империи и Свободы у Пушкина может быть и оспорено, и пересмотрено. Конечно, сопоставляя портрет поэта, написанный яркими красками либеральной палитры, с его суровым ликом, созданным по канонам консервативного дискурса, наивный наблюдатель может и не догадаться, что на этих двух картинах запечатлено одно и то же лицо. Естественно, непредвзятый пушкинист напомнит об эволюции взглядов «певца Империи и Свободы». И все же некоторые существенные особенности и пушкинского творчества, и пушкинского миросозерцания эта мифологема схватывает. Пушкин – друг царя и Пушкин – друг декабристов совпадают в одном лице прежде всего потому, что «певец Империи и Свободы» не изложил своих политических взглядов в виде системы, целостного нарратива: с друзьями Пушкин переписывался, но своих «Выбранных мест <…>» не написал.
Так же еще не затронуто творчество Пушкина расколом славянофильства и западничества: эта роковая развилка русского самосознания на его пути еще не встретится. Примирены в нем, насколько это возможно, и начала языческое и христианское: «Языческий, мятежный, чувственный и героический Пушкин (как его определяет К. Леонтьев) вместе с тем обнаруживается нам как один из глубочайших гениев русского христианского духа»[85]85
Франк С.Л. Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике. С. 395.
[Закрыть].
Представление об авторе «Евгения Онегина» и «Капитанской дочки» как о национальном гении нимало не затуманивают даже его известные высказывания об отечестве, исполненные желчи и злости: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь»[86]86
Письмо А.С. Пушкина кн. П.А. Вяземскому от 27 мая 1826 года (XIII; 280).
[Закрыть]. Или: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!»[87]87
Письмо жене от 18 мая 1836 года (XVI; 117–118).
[Закрыть] Однако эти строки, между прочим, широко известные[88]88
Цитата из письма Вяземскому стала даже предметом обсуждения в интернет-блогах.
[Закрыть], оказываясь растворенными в живительной кастальской влаге пушкинских творений, лишаются исконного яда.
С Гоголем все намного хуже. 30 октября 1837 года он написал В.А. Жуковскому из Рима: «Если бы вы знали, с какою радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. – Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине и пожалел только, что поэтическая часть этого сна: вы да три, четыре оставивших вечную радость воспоминания в душе моей не перешли в действительность. Еще одно безвозвратное… О Пушкин, Пушкин! Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни и как печально было мое пробуждение. Что бы за жизнь моя была после этого в Петербурге, но как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и весь впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Гляжу, как исступленный, на все и не нагляжусь до сих пор»[89]89
Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. [М.; Л.], 1952. Т. 11. С. 111–112.
[Закрыть]. Этих строк не смыть ни лирическому отступлению о Руси – птице тройке из «Мертвых душ», ни призывам проездиться по просторам отчизны и обустраивать «монастырь ваш – всю Россию», наводняющим страницы «Выбранных мест из переписки с друзьями». Во-первых, лучшие, восторженные строки о России перелетная птица Гоголь написал, пребывая в «прекрасном далеке». Во-вторых, живописные картины России, представленные в его самых известных сочинениях – в «Ревизоре» и в первом томе «Мертвых душ», по преимуществу удручающи. «Где, скажите, где видали вы города, в которых ни одно светлое чувство не мелькнуло бы в душе ни одного обитателя; где добродетель, ум, честь, все общественные связи были бы всеми забыты, попраны; где невежество и разврат тяготели бы равно и безразлично над всеми; где, наконец, самая природа была бы мертва, грустна, печальна без изменений? Не говорим о России: укажите нам где угодно такой город. <…> Еще больше, если вы предполагаете ваш проклятый город в России, то вы клевещете не только на человека, но и на родину свою. <…> Кто против того, что есть у нас, как и везде, Собакевичи, Плюшкины, Ноздревы, но не такие они, да если бы и такие попались вам, они исключения, они уроды. Как же по собранию уродов изображаете вы человека и где естественность и верность изображений, за которые превозносите вы “Мертвые души”?» Тяжелое это чтение: «Когда мы прочли их, нам показалось, что мы вышли на свежий воздух из какой-то неопрятной гостиницы, где поневоле должен проезжий пробыть несколько часов…» (Н.А. Полевой)[90]90
Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя // Полевой Н.А., Полевой Кс. А. Литературная критика: Статьи и рецензии: 1825–1842 / Сост., вступ. ст. и коммент. В. Березиной и И. Сухих. Л., 1990. С. 347, 359.
[Закрыть].
Примерно полвека спустя такая суровая оценка будет обобщена В.В. Розановым: «Свое главное произведение он назвал “Мертвые души”, и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно же, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, что за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно состояло?»[91]91
Розанов В.В. Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского: Опыт критического комментария // Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития: Литературно-эстетические работы разных лет / Сост. и вступ. ст. В.В. Ерофеева; Коммент. Олега Дарка. М., 1990. (Серия «История эстетики в памятниках и документах»). С. 48.
[Закрыть] Словом, «[м]ертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь и мертвые души только увидел он в ней»[92]92
Там же. С. 50.
[Закрыть].
Сочинения Гоголя Розанов представил, осмыслил как болезненный, режущий контраст пушкинскому творчеству: «Пушкин есть как бы символ жизни: он – весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество. Все, что живет, – влечет его, и подходя ко всему – он любит его и воплощает. <…> Ничего напряженного в нем нет, никакого болезненного воображения или неправильного чувства. <…> Пушкин научает нас чище и благороднее чувствовать, отгоняет всякий нагар душевный, но он не налагает на нас никакой удушливой формы. И, любя его поэзию, каждый остается самим собою»[93]93
Розанов В.В. Пушкин и Гоголь // Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития. С. 226–227.
[Закрыть].
Не то, совсем не то Гоголь. О, не верьте этому Гоголю: «На этой картине совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они»[94]94
Там же. С. 231.
[Закрыть].
Эти суждения несложно отвести как пристрастные, этот взгляд на Гоголя признать близоруким[95]95
Так, сочувственно пишущий о Розанове биограф вынужден признать его оценку Гоголя «необычной» (что верно только в отношении розановского, а не гоголевского времени) и «чрезвычайно субъективной». – Фатеев В.А. В.В. Розанов: Жизнь. Творчество. Личность. Л., 1991. С. 58–59.
[Закрыть]. Не реже, а даже чаще критики, в том числе не очень известные, признавали, что «его живая речь, надолго живые образы и картины» симпатичны «русскому сердцу» и что персонажи Гоголя – не карикатуры, а «типы, черты которых везде разбросаны, под которые более или менее подходят многие и многие»[96]96
Выражения автора анонимной статьи «Отзыв провинциала на статью о Гоголе, помещенную в “Северной пчеле”, № 87. – Московские ведомости. 1852. 24 июня. № 76. Цит. по переизд. в приложении к статье: Свиясов Е.В. Эпизод полемики о Гоголе 1852 года // Русская литература. 1980. № 1. С. 131–132; по убедительному предположению публикатора, автором этой заметки был Г.П. Данилевский.
[Закрыть]. И все же национальным писателем, подобным, хотя бы и лишь отчасти, легендарному Гомеру, автора «Мертвых душ» решился назвать только увлеченный и несдержанный К.С. Аксаков. В жестоких суждениях Н.А. Полевого и В.В. Розанова некоторая доля истины все-таки запечатлена. (Причем представление о персонажах Гоголя как о психологически и нравственно «уродливых существах» и «нелюдях» тиражируется в современной популярной энциклопедической литературе для детей[97]97
См., например: Страхова Т. Николай Васильевич Гоголь // Русские писатели / Ред. группа: Л. Поликовская, Т. Евсеева, А. Пикуль. М., 2009. (Серия «Современная энциклопедия»). С. 39, 47. Разительное противоречие между такой аттестацией персонажей «Мертвых душ» и указанием автора на типичность своих «странных героев» во внимание попросту не принимается.
[Закрыть].) Можно признавать действующих лиц «Ревизора» и персонажей первого тома «Мертвых душ» не воплотившимися исчадиями ада, а обыкновенными людьми, не лишенными симпатичных свойств. И все же «положительного лица» в своей пьесе не обнаружил сам автор, а в первом томе поэмы таковых персонажей лишь пообещал представить в дальнейшем. Отдельные читатели могут, как того желал сочинитель, признать свое родство с Хлестаковым или Чичиковым, обнаружить в себе их черты и даже незабвенного Павла Ивановича посчитать «героем нашего времени»[98]98
Признание, сделанное автором «Отзыва провинциала <…>»; см.: Свиясов Е.В. Эпизод полемики о Гоголе 1852 года. С. 132.
[Закрыть]. Однако нация от такого зеркала предпочтет отвернуться и сходства не признать – по крайней мере публично. Можно негодовать и удивляться вместе с персонажем Леонида Добычина: «Слыхал ли ты <…> будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов – мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим». Но умиляться Чичикову и мечтать «дружить», как он с Маниловым, смог только этот маленький и наивный герой-рассказчик[99]99
Добычин Л. Город Эн: Роман, повести, рассказы, письма. М., 2007. С. 63.
[Закрыть]. Проехаться раз-другой по России можно и в обществе Гоголя. Но длительные прогулки приятнее с Пушкиным.
Как ни изворачивайся, а далеко «подлецу» Чичикову («Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!» [VI; 223])[100]100
Между прочим, Чичиков – пожалуй, самый известный персонаж русской изящной словесности, разительно контрастирующий с «положительным образом предпринимателя», на отсутствие которого в отечественной литературе с сожалением указывали некоторые чиновники Министерства образования, ведя неофициальные беседы с учителями и оправдывая выведение литературы из числа предметов, подлежащих обязательной аттестации в форме выпускного экзамена; см. об этом: Волков С. ЕГЭ по литературе – взгляд учителя // Единый государственный экзамен: Белая книга / Сост. В.Я. Линков, В.А. Недзвецкий, И.В. Петровицкая. М., 2008. С. 214–215. Мне довелось читать однажды сочинение абитуриента, поступавшего на экономический факультет и убежденного, что персонаж «Мертвых душ» может быть примером для многих современных бизнесменов, так как использует «относительно честные» методы обогащения и не наносит большого ущерба казне. Сие мнение, однако, не может не оставаться курьезом: авторская оценка «милейшего» Павла Ивановича совершенно недвусмысленна.
[Закрыть] и до «бедного» Евгения, и до простосердечных супругов Мироновых. Боже, как грустна наша Россия!..
Остается восторг перед летящей Русью и перед русскими, любящими быструю езду (любовь, ставшая ныне национальной проблемой России). Однако чувство гоголевского повествователя к России и само олицетворение родины в образе чудесной и завораживающей своим обликом красавицы столь экстатичны, сверхъестественны, что оказываются за пределом психологической нормы «обычного» читателя: ими нельзя не восторгаться, но в них почти невозможно совпасть с автором. И к тому же позитивная, «светлая» экзальтация у Гоголя – создателя образа Руси – оказывается облачена в те же стилистические одежды, что и демоническая красота панночки из «Вия». По-видимому, невольно – по иронии стиля[101]101
См. об этом: Эпштейн М. Ирония стиля: Демоническое в образе России у Гоголя // Новое литературное обозрение. 1996. № 19.
[Закрыть].









































