Текст книги "Потому и сидим (сборник)"
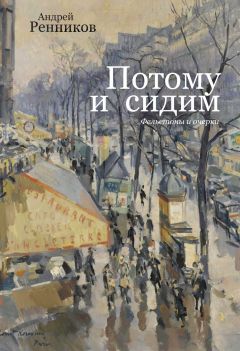
Автор книги: Андрей Ренников
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
В салоне госпожи Тютиковой
I.
Собралось нас на этот файф-о-клок немного, всего пятеро. Но разговор был весьма оживленный.
Беседовали о России, о Франции, о дальневосточных делах, о ближне-западных.
И, как всегда, красноречивее всех оказался Николай Васильевич.
– Вот, вы говорите – пирожные… – Горячился он, размешивая ложечкой сахар и негодующе глядя на Веру Степановну. – А вспомните-ка наши петербургские птифуры[195]195
Птифур (от фр. petit-four) – миниатюрные пирожные из бисквитного или песочного теста с различными начинками и украшениями.
[Закрыть]! От «О гурме». Разве можно сравнить? Здесь пирожные ешь, ешь, жуешь, жуешь – сам не знаешь, когда кончишь. А наши положишь в рот – и благородство неизъяснимое. Тают от одного дыхания во рту. Будто, было и не было. Легкое прикосновение к языку, мечта… А булки? Скажите, пожалуйста, где у французов настоящие булки? Круассаны, что ли? Или мадлены[196]196
Мадлен (от фр. madeleine) – миниатюрное бисквитное печенье в форме морских гребешков.
[Закрыть]? У нас же… И подрумяненные, с маком, в виде аппетитного рога… И с сахарной пудрой, витые, нежной бледности, умышленно чуть-чуть недопеченные… И обсыпанные миндалем. И не обсыпанные… А выборгские крендели, помните? А тульские пряники? А вяземские? А калужское тесто? Да я за кило их гато крошки вяземского пряника не дам! Кусочек выборгского кренделя на какой угодно свадебный торт обменяю!
– Ну, это вы, Николай Васильевич, слишком, – любезно возразила хозяйка, благосклонно выслушав речь экспансивного гостя. – Что-что, а кондитерские изделия во Франции самые лучшие в мире. По-моему, если уж можно о чем с французами спорить, то это, конечно, в мануфактуре. Подумайте, никогда я не предполагала раньше, что русское полотно выше всякого европейского. Дайте мне сейчас на выбор наше, голландское, французское и немецкое, я ни на одну минуту не задумаюсь и возьму наше. Мягкость, шелковистость, прочность, добротность…
– Полотно! – с горьким смехом воскликнул Николай Васильевич, придвигая к себе корзинку с пирожными. – Да что говорить о полотне, когда даже простой ситец наш не имеет в Европе себе равного? Простой ситец, понимаете? Который мы все презирали, считали мелкобуржуазным товаром. Может быть, вы, господа, думаете, что я шовинист? Стараюсь проявить максимум национального чувства? А ну-ка, ответьте, в таком случае: что вы найдете здесь за десять копеек, то есть за один франк двадцать пять? Пойдите на какой пожелаете сольд, ждите какого угодно блана или энвантсра – все равно – аттанде-с! Дешевле трех, четырех франков за метр не найдете. И что дадут, спрашивается? Дрянь! Чистейшую дрянь! Надеть стыдно. Показаться на глаза людям совестно. А наш ситец – на ситцевые балы даже годился. Иногда от креп-де-шина не отличишь. Зефир, положительно, зефир! Наденет женщина скромное платьице из ситца, выйдет на улицу и прямо королева идет. Поступь какая! Вкусу сколько! Каше[197]197
«Cachet» – здесь: высший класс, блеск (фр.).
[Закрыть]!
– Ну, это вы, Николай Васильевич, тоже чересчур… – вмешалась в разговор мадам Печенкина. – Если уметь покупать, то в Париже можно очень дешево одеваться. Белье, материя, перчатки… Вообще, все прекрасно. А вот, если про что говорить, это, по-моему, про удобства жизни. Я никогда так не мерзла, даже в Петрозаводске, как мерзну здесь. Затем, частая порча «о курант», неуверенность в горячей воде…
– В Петрозаводске! – горько прервал мадам Печенкину Николай Васильевич, отпивая глоток чая и заедая пирожным. – Вы говорите, Петрозаводск. Да я, понимаете, в Иркутске бывал! В Александровск, на Мурмане, ездил. И нигде такого собачьего холода. В Петербурге если уж ставили центральное отопление, то это было, действительно, отопление, а не аллегория. Топили так, что дышать нечем было. Нагишом иногда по квартире ходили. В холодную ванну кидались! А вода? Если текла, то текла! Если написано, что горячая, то, действительно, горячая. Кожа с руки моментально слезала, если, не дай Бог, случайно коснешься. А у них? Написано шод, а идет черт знает что. И ко всему прочему деревянные лестницы. Где вы видели в Петербурге деревянные лестницы? Это разве благоустройство? Каждую ночь засыпаешь и не знаешь, обуглишься к утру или не обуглишься. Каждый крик внизу, у консьержа, нервирует. Каждый возглас на улице – в дрожь бросает.
– Да, деревянные лестницы, конечно, нехороши, – скромно заметил молчавший до сих пор Петр Сергеевич, – в этом я с вами согласен. Однако, не странно ли? У них почти никогда пожаров не случается. Иногда где-нибудь загорится и сейчас же потушат. А у нас, помните?
– У нас! – обиделся Николай Васильевич, овладев всецело корзинкой с пирожными. – В том то и дело голубчик, что у нас, если что было, то, действительно, было. Пожар так пожар. Дом горит, так уж горит. Всем видно, что пожар, а не суррогат какой-нибудь. Искры летят, люди кричат, соседние дома пылают. В России, батенька, не только дома загорались, иногда целые деревни выгорали начисто, это вам не фунт изюма! А наводнения у них какие? Видели? Срам просто! Куриная Марна немного поднимется, Сена поднимется – и все газеты орут. Цыпленка откуда-то унесло. Забор повалило! А петербургских наводнений не угодно ли? С Тритоном, погруженным в воду? А волжских? Когда с одного берега другого не видно? Даже эпидемии здесь и то – ерунда. Легким гриппом десятая часть населения заболеет – и уже все в ужасе. Паника. Народное бедствие! А холеры девяносто второго года не угодно ли? А сыпняка не хотите? У нас, если уж эпидемия, то эпидемия, если пожар, то пожар… И после этого, вы еще говорите: Франция! Нет, господа, извините. Хотя я раньше западником был и вольнодумством до революции отличался, и родиной своей совсем не гордился, но теперь дудки! Довольно! Укатали Сивку крутые горки!..
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 22 октября 1929, № 1603, с. 3.
II.
Вчера опять собрались у Веры Степановны. Был Николай Васильевич, г-жа Печенкина, Петр Сергеевич и еще кто-то.
На этот раз беседа вращалась вокруг любопытного вопроса: как произойдет свержение большевиков.
Вера Степановна и Петр Сергеевич категорически заявляли, что советская система повалится только от внешнего толчка. Война с Китаем сыграет, быть может, роль. Столкновение с Польшей. С Румынией.
Николай Васильевич не менее категорически утверждал, что дело решится путем восстания в красной армии.
А Печенкина опровергала гипотезу о внешнем толчке, о красной армия, настаивала на том, что конец наступит от восстаний в деревне и, в качестве неопровержимого аргумента, ссылалась на какое-то письмо, недавно полученное ею из советской России.
– Ведь, вы же не знаете всего, господа, – многозначительно возражала она. – А мне крестьянство вполне определенно пишет, чего нужно ожидать в ближайшем будущем.
Постепенно разговор принял беспорядочно-буйный характер. Убежденная соображениями Николая Васильевича, Вера Степановна незаметно переменила точку зрения, начала утверждать, что все произойдет изнутри. Петр Сергеевич, приняв во внимание письмо русского крестьянства Печенкиной, склонился к восстанию в деревне. А что касается Николая Васильевича, то он случайно вспомнил о том, что коммунисты заигрывают с красной армией, – и начал неожиданно защищать интервенцию.
– Вся беда только в том, господа, что у нас средств никаких нет, – горячо говорил он, строго оглядывая своих собеседников. – А вот, представьте, что какой-нибудь американский миллиардер пожертвует, вдруг, свое состояние… Что можно в этом случае, сделать! Я лично, например, поступил бы так: зафрахтовал бы несколько десятков пароходов, погрузил бы на них аэропланы и пробрался бы тайно мимо Норвегии к Кольскому полуострову. От Мурманского берега до Москвы сколько? Меньше полутора тысяч верст. Вот наши летчики сели бы в аппараты, налетели бы на Москву в тот день, когда там происходит съезд коммунистической партии, забросали бы Кремль бомбами и вернулись бы. А всех главных большевиков сразу, как не бывало. В один момент уничтожены. Не только верхушка, даже представители с мест.
– Это-то заманчиво, конечно. – недоверчиво заметил в ответ на слова торжествующего Николая Василевича, Петр Сергеевич. – Но только… Что потом? Потом-то, что будет?
– А потом – потом пусть сам народ решает, как поступить, – не на шутку рассердился Николай Васильевич. – Десанта, разумеется, мы дать не в состоянии, никто не согласится пропустить через свою территорию. Но разве моего плана мало? Что ж мы? Все до конца обязаны делать? Не только в рот положить, но разжевать тоже?
– Нет, Николай Васильевич, я этого совсем не одобряю, – испуганно проговорила Вера Степановна. – Разрушать Кремль… Уничтожать исторические ценности… Из-за каких-то разбойников. Господь с вами! Лучше уж пусть все произойдет как-нибудь иначе. При помощи красной армии, что ли. Или, вот, крестьянства, с которым переписывается Надежда Андреевна…
– Ну, что ж, – обидчиво усмехнулся Николай Васильевич. – Как угодно. Только имейте в виду, господа, что история у нас, русских, вообще какая-то юродивая. Если мы ей не поможем, она такой фортель выкинет, что рады не будете. Вот, вы, Петр Сергеевич, мечтаете о Бонапарте. Ну, а если Бонапартом Троцкий сделается? Воспользуется удобным моментом, высадится возле Одессы и провозгласит себя императором. Признаете вы его или нет?
– Троцкого? Что он говорит! – всплеснула руками Печенкина.
– Троцкого, конечно, не признаю, – хмуро ответил Петр Сергеевич. – Но кого-нибудь другого…
– А Ройзенмана?
– Ройзенмана тоже… Но Ворошилова, например…
– А Керенского?
– Что ж… В крайнем случае… Если Керенский добьется…
– Керенского? Вы согласны Керенского?
– Господа! Он с ума сошел!
– Пусть тогда лучше Буденный!
– Буденный? Извините… Крестьянство, которое мне пишет, говорит, что…
– Погодите, Надежда Андреевна! Дайте кончить!
– Боже мой, Боже мой! – разочарованно вздохнула Вера Степановна, когда общий шум кончился, и каждый остался при своем мнении. – Вижу я, что не скоро все-таки мы в Россию поедем. Даже, если свергнут большевиков, и то необходимо подумать, можно ли возвращаться. Во всяком случае, я всегда благодарю Создателя, что у меня, кроме родины, свой мезон де кутюр[198]198
Maison de couture – дом моды, ателье (фр.).
[Закрыть] есть. Россия Россией, конечно… Но кутюр всегда может понадобиться.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 29 октября 1929, № 1610, с. 3.
Хозяйство кошкарева
У нас принято сейчас считать, что самым глубоким провидцем нынешнего большевизма был Ф. М. Достоевский.
Его «Бесы» в настоящее время сделались чуть ли не настольной книгой для каждого радикального интеллигента, который хочет тряхнуть стариной и с любовью помянуть зарю своей политической юности и полдень своей общественной деятельности.
Однако, превознося Достоевского, было бы несправедливо забывать о другом, не менее гениальном писателе.
Предсказавшем то же кое-что, пожалуй, даже подробнее, чем автор «Бесов».
Правда, у этого писателя по адресу революционно-настроенной интеллигенции, сказано очень мало. Приналегал он больше на помещиков да на администрацию. Доходил в своем пессимизме даже до взглядов Собакевича: один только хороший человек в городе – прокурор, да и тот свинья.
Однако, как верно подметил этот мрачный талант будущее устройство советской России!
Если Достоевский выявил, главным образом, психологический момент большевизма, то Гоголь блестяще предугадал административную сторону.
Достоевский предсказал внутреннюю сущность советской власти, Гоголь же всю внешнюю организацию.
И при том, как точно!
«У полковника Кошкарева, – провиденциально говорит он в „Мертвых душах“, – все было необыкновенно. Постройки, перестройки, кучи известки, кирпича и бревен по всем улицам. Выстроены были дома, в роде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: „Депо земледельческих орудий“. На другом „Главная счетная экспедиция“. На третьем „Комитет сельских дел“, „Школа нормального просвещения крестьян“»…
И везде пусто.
«Кошкарев – продолжает дальше автор, – боролся с невежеством мужика тем, что старался одеть его в немецкие штаны… Писарь, управитель и бухгалтер должны были у него получать университетское образование… Крестьянин должен был быть воспитан так, чтобы, идя за плугом, мог читать в то же время книгу о громоотводах».
И никто, конечно, ничего не делал. И никто ничего не читал.
А делопроизводство, чтобы имение процветало, налажено было у Кошкарева следующим образом. «Всякое желание, в письменной форме, направляется в комиссию всяких прошений. Из комиссии всяких прошений – в комитет сельских дел. Из комитета сельских дел – к главноуправляющему. От главноуправляющего – в комиссию построений. Из комиссии построений – в комиссию наблюдения…»
Если же ко всей этой картине прибавить еще указания автора, будто у Кошкарева для хозяйственных справок, с одной стороны, была книга «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности и в применении к уразумению органических начал общества обоюдного раздвоения общественной производительности», а, с другой стороны, председателем комиссии прошений являлся бывший камердинер, то аналогия с современным советским аппаратом получается изумительная. Все до мельчайших деталей предсказано!
И председатель Тимошка. И комитеты. И строительство. И громоотводы за плугом.
Правда, мне могут возразить, что хозяйственный аппарат у большевиков налаживал вовсе не полковник Кошкарев, а не имеющие чина пролетарские вожди.
Но разве дело в чине?
Кошкарев, разумеется, во время революции успел приобрести псевдоним. Скрыл свое прошлое. Стал усердным спецом. Единственным помещиком, оказавшимся полезным советам.
И, вот, опытная рука его теперь видна всюду. В совнархозе. В профсоюзе. В пятилетке. В рекостроях.
Это он, как легко догадаться, составляет советам обстоятельные анкеты о петухах, посылает для учета в Москву возы с убитыми тараканами, обсеменяет поля с аэропланов, продает мужичкам немецкие штаны по особым прошениям через комиссию наблюдения за построениями.
И не просто так, здорово живешь, нет!
Всегда по руководству. Строго научно. Заменив только старое «Предуготовительное вступление к уразумению органических начал общества обоюдного раздвоения общественной производительности» – «Капиталом» Маркса.
Ну, разве, не удивительный провидец Гоголь?
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 27 октября 1929, № 1608, с. 3.
Праздничный привет
Вот, слава Богу, уже и двенадцатая годовщина советов наступила.
Как время быстро бежит!
Давно ли мы, интеллигенты, гордо расхаживали по Петербургу с красными бантами, радостно лобызались при встрече, поздравляя друг друга с новой эпохой, с новой эрой?
А, между тем, сколько воды утекло! В Неве… В Москве-реке… В реках вавилонских… И даже в эмигрантских речах. На собраниях.
Ну, что же… Видно, не суждено было нам, буржуям, испытать длительной радости после победы. Заплатили за миг счастья чем могли, с не обсохшими от поцелуев губами бежали. Кто куда.
И передали завоеванные блага мужичкам и рабочим.
В самом начале, помню, глодало мою душу нехорошее завистливое чувство к пролетариату.
Досадно было смотреть на вдохновенные лица рабочих, завоевавших для себя все и не оставивших нам ничего. Неприятно было встречать богоносцев-крестьян, с вилами и топорами в руках определявших, сколько человеку земли нужно…
Но, вот, прошли месяцы, годы. Утихло раздражение, забылась обида. И улеглась в душе презренная зависть.
– Что поделаешь! – каждую годовщину приходит в голову примиренная мысль. – Если не мы, пусть хоть пришедший нам на смену пролетариат наслаждается счастьем.
Не все ли равно, в конце концов, кому на Руси жить хорошо? Лишь бы общая сумма довольства в стране была максимальной.
Разумеется, не многие из рабочих и крестьян поверят, например, в мою искренность. Подумают, будто хитрю. Но даю честное слово: нет сейчас у меня по отношению к ним ни капли злобы, ни тени раздражения.
Читаю ежедневно в газетах, уже сколько лет, как хорошо устроился после завоеваний крестьянин. И вчуже радуюсь.
У каждого мужичка – усадьба. У каждого – мебель красного дерева. Рояль. Гобелены. Дуняшка, с досадой глядевшая раньше в окно на обстановку помещика, сидит сейчас сама в вольтеровском кресле, читает французский роман…
Читай, Дуняша!
Тятька Агафон ходит свободным барином в енотовой шубе по своим необозримым полям, любовно осматривает буйные озимые. В амбарах у него через щели выпирает зерно. На лугах – табуны лошадей, стада коров. На дворе – несметная птица…
Радуйся, Агафоша!
А мамка Аграфена, вся в кружевах и в атласе, гуляет в цветнике, распевает романсы, сморкается в платок с гербом, срезает хризантемы в саду…
Сморкайся, Аграфена!
Казалось бы, при виде такого торжества крестьянской власти могла бы снова вспыхнуть обида, разгореться застарелая зависть. И ничего! Ровно ничего! Тихое примиренное настроение. Светлая радость чужой удаче.
– Благословляю вас, поля, холмы родные!
Не поверят мне, наверно, и городские рабочие, избранный трудящийся элемент человечества. Но, опять-таки, даю честное слово: прошла у меня злоба и против них, та злоба, с которой относился я к ним в Петербурге во время выступления Корнилова.
Вот, прочел на днях, что в день двенадцатой годовщины всем рабочим будет выдана двухдневная порция муки. У человека, не умеющего владеть собою, наверно, помутилось бы в глазах от зависти при виде такого подарка. Поднялась бы со дна души черная муть.
А у меня – опять ничего. Привык. Ежедневно, ведь, читаю, как благоденствует пролетариат, осуществляя свою власть. У каждого рабочего собственный выезд. Абонемент в Большом театре. Паркетные полы. Люстры. Зал для балов.
И при таком благополучии, что такое двойная порция муки? Даже крупчатки?
Нет, пусть нам верят или не верят, но мы, буржуи, действительно, давно остыли в своих чувствах и не собираемся отвоевывать у пролетариата его рабоче-крестьянского счастья. Сидим мы в стороне, побежденные, никому не нужные, наблюдаем пышные годовщины победы и без всякой зависти восклицаем от чистого сердца:
– Поздравляем, товарищи!
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 6 ноября 1929, № 1618, с. 3.
Книжная полка
Сижу в книжном магазине и просматриваю детские книги.
Какой блеск у переплетов старых довоенных изданий! Целая полка с чудесами Вольфа[199]199
Маврикий Осипович Вольф (1825–1883) – издатель, книготорговец. Издавал русскую и иностранную художественную и научную литературу с многочисленными высококачественными иллюстрациями, книги по искусству, педагогике, журналы «Вокруг света», «Новый мир», «Задушевное слово» и др.
[Закрыть], Девриена[200]200
Альфред Федорович Девриен (1842–1920) – издатель, специализировался преимущественно по литературе по сельскому хозяйству, естествознанию и георгафии, а также выпускал книги для детей и юношества. В 1917 г. эмигрировал. После его кончины в 1920-х гг. его сын в Берлине издавал книги под маркой «Изд-во А. Ф. Девриена».
[Закрыть], Суворина[201]201
Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) – журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург, основатель газеты и издательства «Новое время» (Петербург).
[Закрыть]. Горит еще не потускневшее золото тиснений, сверкает серебро заголовков, пышный букет цветного картона, коленкора, кожи.
Старость ли это или преждевременное впадание в детство – но насколько ближе душе моей разряженный том Рейнике-Лиса[202]202
Герой «Романа о Лисе» («Roman de Renard») – французские народные поэмы-фаблио (басни, стихотворные новеллы) XII–XIV вв. о Лисе по имени Ренар или Рейнике; были популярны по всей Европе; наиболее известное переложение для детей сделал И. – В. Гёте.
[Закрыть]; чем все чахоточные книги последнего времени!
Сравнить, например, с бароном Мюнхгаузеном нашумевшее произведение Ремарка. Насколько благороднее, правдивее и чище барон!
Если бы не проклятая необходимость следить за новой литературой, чтобы не казаться невеждой за чайным столом у знакомых, я бы только и делал, что читал «Золотую библиотеку»[203]203
Серия мировой и отечественной литературы для детей и юношества «Товарищества М. О. Вольфа», выпущенная во второй половине XIX – начале XX вв.
[Закрыть], «Зеленое царство» Кайгородова[204]204
Дмитрий Никифорович Кайгородов (1846–1924) – ученый-орнитолог, профессор Петербургского лесного института, популяризатор естествознания и природы, автор многочисленных произведений для детей о природе, включая популярно-ботанические очерки «Из зеленого царства» (1888, 1912).
[Закрыть], «Отечественные героические рассказы» Абазы[205]205
Константин Константинович Абаза (1841–1905) – военный историк, писатель и педагог, автор учебников и руководств для начальных военных школ, а также популярных рассказов и очерков.
[Закрыть], «Путешествие Потанина по Тибету»[206]206
Григорий Николаевич Потанин (1835–1920) – исследователь Центральной Азии и Сибири; по его воспоминаниям в начале XX в. была составлена книга «Путешествия Г. Н. Потанина по Монголии, Тибету и Китаю».
[Закрыть]… И в виде отдыха сказки Афанасьева[207]207
Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871) – собиратель фольклора, историк и литературовед, подготовил и издал несколько сборников русских народных сказок.
[Закрыть] или «Князя Илико» Желиховской[208]208
Вера Петровна Желиховская (1835–1896) – писательница, сторонница теософии. Сестра Е. П. Блаватской. Писала повести и рассказы для юношества, публиковалась во многих детских журналах и журналах для семейного чтения.
[Закрыть].
Дурной тон, может быть. Но все равно. Трудно теперь определять тон, когда камертон у всей Европы утерян.
Перелистываю «Научные развлечения» Гастона Тиссандье[209]209
Гастон Тиссандье (Tissandier; 1843–1899) – французский химик, метеоролог, воздухоплаватель, писатель и издатель. Основатель и главный редактор журнала «Природа» («La Nature»), автор научно-популярных книг.
[Закрыть] с особенным удовольствием. Сколько милых воспоминаний из далекого прошлого! Как родные жалели, что подарили мне эту книгу на Рождество!
Все графины, помню, наполнялись крутыми яйцами, научно втиснутыми внутрь давлением воздуха. В детской комнате не пройти: огромные лужи. Это я по Тиссандье кипятил воду над свечой в тонкой бумажной коробочке. На кухне тоже потоп: вертел на веревке ведро с водой, чтобы убедиться в существовании центробежной силы…
Вспоминаются даже стихи, написанные тогда в честь этого таинственного явления природы:
«О ты, пространством бесконечная,
Сила центробежная, вечная!»
А, вот и Робинзон. Сколько времени не держал я его в руках! На обложке чудесный портрет героя. Сидит рядом с Пятницей у порога прелестной хижины, вокруг – аккуратные фруктовые деревья, сам он в новеньком костюмчике, бородка подстрижена, наверху даже подбрита. А Пятница – красавец, в локонах, прямо от парикмахера.
И на титульном листе трогательная надпись порыжевшими чернилами: «Дорогому Коле от мамочки».
Коля, Коля, где ты теперь? В Америке? В Африке? Что поделываешь, бедняга? Воспользовался ли опытом нашего общего милого предшественника? Или нет у тебя даже собственной хижины и некогда тебе подстричь твою отросшую бороду?
Читаю, перелистываю, вспоминаю… А вокруг – сутолока. Толпятся покупатели. Нерешительно перебирают книги, испытывают мучительную борьбу между внешним видом издания и внутренним состоянием кошелька… И слышу, как рядом со мной молоденькая дама совещается с мужем, что купить к Рождеству семилетнему сыну.
– Ну, бери, в таком случае, Мюнхгаузена.
– Ах, нет. Он может все это принять всерьез.
– Шура всерьез? Что ж ему три года, по-твоему?
– Не три года, Петенька, но все-таки… После рассказов Владимира Степановича об его охоте в Смоленской губернии Шура всему может поверить.
– Ладно. Возьмем тогда вот это… Жюля Верна. На аэростате.
– И это не подойдет, Петенька. Теперь все летают на аэропланах, а я вдруг аэростат. Вот что. Возьмем лучше «Каштанку» Чехова. Правда?
– Что же… Чехов наш, таганрогский. Я ничего не имею. Только поймет ли Шурка? Не рано?
– Отчего рано, Петя. Во-первых, всем нам приятно перечитать. Во-вторых, дедушка как раз болен, дадим ему тоже. А, в-третьих, Шуре будет, в некотором роде, на вырост. Сейчас не поймет, после начнет разбирать. Не часто же приходится покупать книги!
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 30 декабря 1929, № 1672, с. 2.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































