Текст книги "Потому и сидим (сборник)"
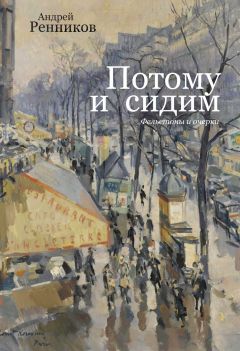
Автор книги: Андрей Ренников
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Серый беженец
Николай Иванович достал из комода старый порыжевший портфель, вытряхнул из него оставшиеся до получки жалованья двадцать пять франков, пять всунул обратно в портфель, двадцать аккуратно положил в кошелек и вышел на улицу.
На рю Вожирар в этот час было шумно и людно. Сновали взад и вперед пешеходы, проносились такси. Ради экономии Николай Иванович решил весь путь проделать пешком.
– Вот и Страстная неделя начинается… – с грустью подумал он. – Нужно обязательно не опоздать в четверг на двенадцать Евангелий. Если погода будет хорошая, можно, пожалуй, и свечу до дому донести…
Он вспомнил, по какому делу идет сейчас, вздохнул. Там опять распоряжение – запретить празднование Пасхи. Нельзя заказывать куличей. Красить яйца. Негодяи продолжают издеваться, а население терпит.
Николай Иванович нахмурился, оглянулся по сторонам. Прохожие шли мимо, кто с беспечным видом, кто сосредоточенно. У каждого своя забота. Но кому из них приходится думать о самом главном? Жизнь налажена… Устроена…
Сбоку сверкнула стеклом большая витрина. Галстуки, шляпы, перчатки, носки. Николай Иванович с любопытством остановился, начал рассматривать.
Галстуки – его слабость. В Петербурге, он помнит – как-то сосчитал для курьеза – было сорок три экземпляра. Висели в шкапу на внутренней стороне дверцы. Большая часть никогда не надевались: или слишком яркие, или ложились неважно. Было всего три, четыре любимых, притом не из самых дорогих…
– Вот, этот, пожалуй, ничего… – с любовью прошептал он, взглянув на один, темно-синий с черными мягкими полосами. – Сейчас все какие-то сумасшедшие – пестрые, крикливые, а этот благороден. Сколько стоит? Двадцать? Недорого…
Николай Иванович нащупал в кармане кошелек, усмехнулся, торопливо продолжал путь.
– И без галстука хорош. Костюму четвертый год, шляпа с отсыревшей лентой, а туда же: галстук. Если уж покупать, то носки. Удивительно, почему носки не делают из чего-нибудь такого, что не рвется? А это что? Мундштуки? Посмотрим, какие…
Он опять остановился, опять начал разглядывать. Плоский, впереди, за двенадцать франков, совсем солиден. Круглые обыкновенно имеют простой вид, в особенности светлые. Сразу видно, что стекло или вообще дрянь. Но граненые и темные недурны. В Петербурге ведь мундштуков тоже была целая коллекция. Короткие, длинные, узкие, пузатенькие. Смешно: когда бежал, взял самый скверный, а настоящие янтарные, с золотыми ободками, оставил для сохранности. Хороша вышла сохранность!
Подойдя к скверу, где нужно поворачивать в сторону, Николай Ивановича издали увидел за столиком кафе Бирюкова. Этого Бирюкова он не любил. Опустился, стал безразличным, мечтает жениться на богатой француженке, чтобы открыть свое предприятие… А брат его Алексей, тот не таков. Весь загорается, когда говорит о России, пылает ненавистью при новом известии о зверствах… Как-то во время откровенной беседы говорил, и видимо, искренно, без рисовки, что если бы знал, что семья здесь не умрет с голоду, не задумываясь, перебрался бы нелегально в триэсерию: рискнул бы жизнью…
– Николай Иванович, вы? Присаживайтесь.
Бирюков сдвинул стул, любезно указал на место рядом.
– Нет, нет. Дела.
– Какие, там, дела? Ведь, работа же у вас ночная. Хлопнем по деми! Или ординерчика…
– Благодарю, не могу.
Николай Иванович пил вообще редко, но сказать правду, пиво любил. Если холодное, со льда, и настоящее немецкое, то даже очень. Только Бирюков, разумеется, за него не будет платить. Дай Бог, если придется только за себя.
– Очень жаль. Очень. А вчера, знаете, я на смотрины ходил. Весьма любопытно. Заплатил посреднической французской фирме сто франков вперед, а если женюсь, еще должен двести. Однако, невесты пока никуда. Или лицом корявые, или денежное куррикулум витэ[220]220
Резюме (лат.).
[Закрыть] не важное…
Не садясь за столик, Николай Иванович выслушал Бирюкова, предложил ему пойти вместе с ним, объяснив цель своей прогулки, и когда тот, пренебрежительно махнув рукой, отказался, отправился дальше. Пройдя сквер, миновал мэрию, повернул на рю Мадмуазель, дошел до дома номер 81, где помещается Союз галлиполийцев, и, войдя внутрь, попросил принять от него пожертвование.
– На какую цель?
– В комитет помощи семьям борцов, пострадавших за родину…
– Пожалуйста. Сколько?
– К сожалению, пока только двадцать…
* * *
В Страстной четверг Николай Иванович пойдет на двенадцать Евангелий. Какая будет погода, неизвестно. Может быть, дождь, может быть, еще хуже – ветер. Но свечу свою Николай Иванович все-таки донесет до дому. Я уверен.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 14 апреля 1930, № 1777, с. 2.
На страстной неделе
Как ни мала наша русская колония сравнительно с населением Парижа, а все-таки предпраздничная суета православных уже сильно заметна.
Французы – те ничем не отмечают приближения Пасхи. Кто спешил раньше, тот спешит и сейчас. Кому нечего было делать месяц назад, тому и сейчас нечего делать.
А мы – не то. Сядешь в автобус и слышишь:
– Душечка, уверяю вас, что раньше вечера пятницы творог опасно покупать. Прокиснет.
– Ах, дорогая, но что делать, если у меня свободные часы только в четверг?
В метро тоже. В каждом вагоне обязательно чей-нибудь уверенный бас или баритон, покрывающий шум движения поезда и хлопанье дверец:
– О барашке, милый мой, не мечтаю. Где достанешь? Но вот с окороком можете поздравить. Хотя три кило всего, карликовый, но настоящий. И кость есть, и корочка… Приходите в воскресенье попробовать.
В общем, по мере приближения к субботе, русский гул по Парижу разносится все сильней и сильней. В магазинах толкутся какие-то странные старушки в чепцах, дергают приказчиков за рукава:
– Мусье! Когда же ты мою душу отпустишь? Ефы[221]221
От фр. œufs – яйца.
[Закрыть] давай! Ефы! Компран?[222]222
Comprends? – Понимаешь? (фр.)
[Закрыть]
В местных булочных опытные русские хозяйки заранее совещаются с пекарями о куличах, пытливо стараясь угадать, можно ли доверить православное тесто католикам.
– А вы не сожжете, месье?
– А печь не будет слишком горячая?
– А вы сами присмотрите?
– А угли останутся вокруг, или вы выгребаете?
Приближается Пасха. Волнение растет. Париж приходит в движение.
Жива еще, видно, национальная Россия. Не угасает русский дух среди французского населения.
* * *
А в это время там, в Москве, с первых дней Страстной недели начинается заметное затишье.
Сядет пассажир в трамвай, прислушивается, и никто ни слова о Пасхе.
– Какая погодка, а?
– Да, черт бы ее побрал.
– Говорят, в кооперативе в четверг утром можно будет восьмушку творога получить.
– Что вы! Что вы! К чему мне творог?
С каждым днем, по мере приближения праздников, оживление на улицах исчезает. В магазины стараются не заходить – долго ли до греха! На тротуаре со знакомыми встреча опасна: кто-нибудь скажет неосторожно что-либо о куличе или пасхе – пропадай тогда со всей семьей.
А между тем, есть такие сорвиголовы, которым и себя не жаль, и подвести добрых друзей ничего не стоит. Встретишься с этаким, ответишь на поклон, а он вдруг, на всю улицу как заревет:
– А я, знаете, к Светлому Празднику окорок у одного частника раздобыл!
Приближается Пасха. Волнение в Москве затихает. Движения никакого. Квартиры все чаще и чаще замыкаются на ключ, ставни прикрываются, шторы задергиваются. И быть может только внутри, со двора, какая-нибудь таинственная фигура проскользнет с корзиной, исчезнет за дверью. А внутри шепот:
– Яйца достала?
– Пятнадцать…
– А краска есть?
– Есть.
– Дрожжи Марья Ивановна обещала завтра… Муку Федор Петрович принесет вечером, когда совершенно стемнеет… Только ради Бога, никому. Тс-с! Погоди! Кто-то идет!
* * *
Вот про нас, эмигрантов, говорят, будто мы денационализируемся. Будто, оторванные от родины, начинаем забывать о России.
А между тем, у меня лично совсем другое ощущение. Живу здесь – и не только не чувствую денационализации, а наоборот. Смущаюсь даже, видя, как русский Париж слишком громко и шумно осуществляет свой быт.
Совсем не то было бы, наверное, если бы поехал я сейчас в Москву, сел бы в трамвай и прислушался.
Кто это – едут и говорят только о погоде? Католики или денационализированные православные москвичи?
Магометане, открещивающиеся от окорока, или, с позволения сказать, святая, денационализированная Русь?
Здесь, в Париже, пойдешь под Рождество к приятелю – елка. На Пасху заглянешь – кулич. В семье – русский дух. У церковной ограды – тоже. Издания русские, заседания русские, театры русские…
А там? В дом вошел… Никакого русского духа – один испорченный воздух. К церковной ограде пробрался – вокруг богохульники… Газету в руки взял – язык не русский. В театр заглянул – пьеса эфиопская…
Приближается Пасха. Оживление в нашем национальном быту увеличивается. Русский гул по Парижу разносится сильней и сильней. И в эти дни особенно ясно заметно, что в сущности вовсе не мы, эмигранты, а оно само – российское население оторвалось от России и денационализируется.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 16 апреля 1930, № 1779, с. 3.
Рассказ визитера
– Ну как встретили праздник? Все ли благополучно? – любезно начала расспрашивать хозяйка.
– Благодарю вас, Лидия Николаевна. Разговлялись-то мы нормально, как полагается. Но что перед этим происходило, не приведи Господи!
Сергей Дмитриевич проглотил кусок сырной пасхи, запил вином, вытер носовым платком губы и продолжал:
– У нас в Медоне, сами знаете, жизнь патриархальная, провинциальная, предпраздничные приготовления поэтому особенно бурно проходят. Парижане обычно как поступают? Заказывают в русском магазине куличи или покупают готовые, вот и возни никакой. А наши медонские дамы – ни за что. Им обязательно нужно тесто дома готовить. Денег ни у кого нет, на какие средства будешь существовать до первого, неизвестно, а они с цепи сорвались. Яиц – пять десятков, муки восемь кило, сахару – соответственно. В лоханке целая гора теста стоит, поднимается, а как дело доходит до распределения по формам, класть, оказывается, некуда. Жена, например, уверяла, что пяти консервных банок из-под горошка за глаза хватит, а как раскладывать начала, три четверти теста на глазах без приюта осталось. «Сережа, – кричит она мне. – Тащи кастрюлю с металлической ручкой!» Принес я кастрюлю. «Сережа! Давай фаянсовую вазу с камина!» Снял вазу. «А еще ничего нет? Может быть, в шляпу? Или, знаешь, у тебя на письменном столе жестяной бокал для карандашей есть. Выкинь карандаши!»
Не буду рассказывать, Лидия Николаевна, до чего дело дошло, пока мы выложили все из лоханки. Излишне вспоминать и то, как перед этим всю ночь я месил тесто, добиваясь, чтобы оно не прилипало к рукам. Ужасная ночь была! С одной стороны, как будто, Вальпургиева, а с другой – чистейшая Варфоломеевская. Но, вот, наступило, наконец, утро, все отлично поднялось, и тут-то и началось самое главное.
Дело в том, что в доме у нас все мужчины очень рано уходят на службу, остаются одни только дамы, да я с молодым человеком, художником Шурой. Обсудили наши дамы, как им формы в пекарню тащить, и решили положить сообща в детскую колясочку.
– Борис, – попросила мужа одна из соседок, – помоги, пожалуйста, перед уходом отвезти колясочку в пекарню.
– Я, мать моя, целый день у Рено тележку вожу, хватит с меня, – возразил муж.
– Шура, повезите, в таком случае вы, – обратилась одна из дам к молодому художнику.
– Я? Через весь Медон с детской колясочкой? Извините. Я не женатый.
Тут, разумеется, все дамские взоры обратились уже на меня. Хотя мне тоже нужно спешно работать, но кто из беженцев считает серьезной работу, которая производится дома?
– Господа! – говорю я дамам. – Я вполне понимаю, что отвезти всю эту груду не под силу даже Брунгильде. Но поймите: я слишком пожилой человек. Не к лицу мне детская колясочка на городской улице!
– Сергей Дмитриевич! Ей-Богу никто нечего не подумает! Разве дедушки не возят внуков?
Убедили они меня, в конце концов. Наложили в колясочку все свои банки, жестянки, кастрюли, покрыли сверху разными тряпками. Взялся я за ручки, с трудом выехал из сантье, покатил среди улицы.
А дамы за мной.
– Цыгане поехали! – послышалось с тротуара чье-то замечание.
– Или турки, – добавил другой голос. – Один муж, пять жен… Интересно, чей ребенок?
Предположение относительно турок мне не показалось оскорбительным. Пусть думают, если хотят. Но, вот, цыгане – это уже свинство. И, главное, дамы сами виноваты. Почему не укрыли тесто вместо тряпок свеженьким детским одеяльцем?
Я недовольно дернул к себе коляску, которая неудержимо тащила меня по спуску, распластал сверху кусок материи, который показался более элегантным, уложил белую тряпочку в том месте, где у детей помещается чепчик, и снова поехал.
– Крап! Крап!
С двух сторон узкой улицы, как назло, автомобили, и не простые, а необычайных размеров. Один «Самаритен», другой «О бон марше».
– Пассе, мсье!
Оба шофера любезно затормозили. Один дал задний ход, чтобы легче было разминуться. Другой осторожно начал меня объезжать, с нежной улыбкой заглядывая в колясочку.
– Сын иди дочь? – крикнул он сверху.
– Сын, – отвечал я.
– Смотрите, он руку у вас высунул!.. – испуганно добавил шофер, увидев завернутую в салфетку оттопыренную ручку кастрюли. – И затем, обратите внимание, мсье: у него открылся живот!
Подлая материя, действительно, слезла в одном месте, обнаружила пухлое тесто. Обливаясь потом, весь красный от унижения, не придя в себя еще от позорного сравнения с цыганами, я подъехал, наконец, к пекарне… Дамы засуетились. А жена пекаря выскочила, громко начала кричать в дверь, зовя своего мужа:
– Марсель, вьен вуар! Тут юн вуатюр плен де гато[223]223
Vien voir! Toute une voiture plein de gateau! – Иди посмотри! Тут целая машина пирогов! (фр.).
[Закрыть]!
Да-с, Лидия Николаевна… Сколько дней уже прошло с этого путешествия. Пасху отпраздновали, куличи почти все съели, а, вот, как вспомню я колясочку, до сих пор на душе обидное чувство. Соседка обозвала меня дедушкой, прохожие турком, цыганом. А, главное, какими словами обложил бы самаритенский шофер, давший задний ход, если бы догадался, что никакого ребенка у меня нет и в помине?
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 23 апреля 1930, № 1786, с. 3.
О детях
Трудно живется нашим детям школьного возраста.
Дело не в материальных лишениях. Это еще полбеды.
Но изволь учиться во французском лицее и сохранять чистоту русского языка или приобретать правильное представление о русской истории.
В одном из лицеев учительница француженка при всем классе как-то поучала русскую девочку:
– А вы знаете, Нинет, почему ваши родители находятся сейчас в Париже? Потому что русские офицеры изменили союзникам, и им пришлось бежать из России от народного гнева.
В другом лицее преподаватель поучал аудиторию в присутствии русских мальчиков:
– Из всех русских царей самым выдающимся оказался Петр Великий, но и тот по происхождению был голландцем из Амстердама.
Я уже забыл все те перлы и диаманты, о которых мне со вздохом рассказывали огорченные родители. Подобных анекдотов из русской истории, наверно, немало в памяти наших педагогов, интересующихся постановкой образования русских детей заграницей.
Однако, беда часто не ограничивается этой фактической стороной. Психологически детям подчас тоже очень трудно приходится, в особенности, когда нужно настроить себя в тон к требованиям иностранных преподавателей.
Дочка моих добрых знакомых как-то на письменном уроке должна была ответить на тему: «почему я люблю свою маму?».
С точки зрения нашей, иррационально-православной, девочка написала прекрасно:
«Я люблю свою маму потому, что она обо мне заботится и дает все, что нужно. Но если бы она не заботилась и ничего не давала, я бы все-таки ее любила, потому что она моя мама».
Но учительница рассердилась, поставила единицу и приписала:
«Очень плохо. Слишком кратко и совсем необоснованно».
Одному русскому мальчугану, не так давно приехавшему из Закавказья и описавшему в классном сочинении «Красоты моей родины», как у них в саду росли мандарины и бамбук, учитель сделал строжайший выговор:
– Неужели вам не стыдно быть таким вруном, Иваноф? Разве мы не знаем, какие в России морозы?
* * *
Все это я привел вовсе не к тому, чтобы предостеречь родителей от отдачи детей в иностранные учебные заведения.
Однако, когда есть возможность поместить сына или дочь в русскую гимназию, дать им помимо иностранных языков и свой Закон Божий, и свою литературу, и свою историю, и свою географию – и если для этого нужно только небольшое усилие – поддержать существующие русские учебные заведения, то кто может не радоваться?
Хотя голландский выходец Петр Великий встречается не везде, хотя против мандаринов и бамбука ополчаются не все преподаватели, но к чему подобные осложнения в детском мозгу, если можно их избежать?
Ведь, совсем не далек от истины тот рассказ, который я слышал недавно об одном русском молодом человеке, окончившем французский лицей и плохо говорящем на родном языке.
Его как-то спросили:
– Вы знаете что-нибудь о царствовании Екатерины Второй?
– О, да. Кое-что. Екатерина Великая была, это самое… чревата последствиями.
* * *
А теперь к сути дела.
И к сути простой.
Сегодня, 26-го в залах Виктор Гюго – большой концерт-бал в пользу русского лицея имени Императора Николая II.
Концерт и кабаре при любезном участии лучших артистов.
Участвует, кроме того, оркестр Союза русских инвалидов. Будут лотерея, котильон, призы, бой цветов, два буфета…
Соотечественники! Все, кому дорог русский язык и русский, а не голландский Петр Великий – идите!
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 26 апреля 1930, № 1789, с. 3.
Гнилая Европа
На вчерашнем файв-о-клоке у Анны Викторовны разговор все время вращался вокруг квартирного вопроса.
Сравнивали домохозяев и квартирных хозяек французских, немецких, сербских, болгарских, и чешских.
– Нет, господа, – уверенно говорила Вера Степановна, – самые несносные хозяйки все-таки сербские. Я три года прожила в Югославии, и скажу вам, что страшнее этих старух ничего нельзя себе вообразить… Три года, кажется, небольшой срок, а знаете, сколько мы с Котиком квартир переменили? Двадцать восемь! В Новом Саду, когда жили там, буквально кочевали из одного дома в другой. Поселились сначала у какой-то вдовы Иованович… Неделю прожили и вдруг хозяйка заявляет: «Будьте добры, господжо, в конце месяца освободите комнату. Ваш муж много курит, у меня от табачного дыма портятся драпировки на окнах». Перебрались мы с Котиком в другой дом, думали, будет спокойнее, но новая хозяйка через несколько дней опять скандалит: «Вы много, господа, дома сидите. Я предполагала, что оба будете служить, приходить только вечером, а оказывается, весь день только и делаете, что ерзаете на креслах и пружины продавливаете. Очистите кучу!» Переехали мы с Котиком через некоторое время в Белград, получили работу, обрадовались, что вот, в столице условия в квартирном отношении приличнее. И что бы вы думали? Через неделю – недоразумение. «Почему вас по вечерам дома никогда нет? – злобно спрашивает хозяйка. – Мой дом не ночлежный приют. Прошу вас или вечером дома сидеть или совсем убираться!» Перебрались мы от этой ведьмы на Пуанкарову улицу, но и там условия не лучше: хозяйкины платья висят в нашем шкапу, белье хозяйкиной дочери лежит в нашем комоде… Живешь и не знаешь, где твоя территория, где хозяйская. Решили, наконец, поселиться в большом новом доме, построенном по всем правилам европейского комфорта. – Ну, – говорю я Котику, – теперь, кажется, отдохнем. Центральное отопление, вода, лифт. – И что получилось? Вздумали как-то подняться на лифте, а домохозяин увидел и скандал закатил, «Я, – кричит, – не для того лифт ставил, чтобы квартиранты на нем ездили. На лифте я только своим детям позволяю кататься, да и то только по воскресеньям!»
– Эх, Вера Степановна, – устало произнес Дмитрий Иванович, когда соседка окончила свою горячую речь. – Слушаю я вас, слушаю и думаю: что такое сербские хозяева сравнительно с болгарскими? Дети! У меня, вот в Варне был такой случай… Жил я на окраине в маленькой старой хибарке. И как-то испортилась у меня выходная дверь. От дождей что ли, от старости, но, чтобы запереть, нужно поднимать ее на петлях вверх, полчаса, не меньше, возиться. Заявляю я об этом хозяину, прошу починку произвести – а тот в ус не дует. Позвал я тогда жандарма, показал, что и как, жандарм согласился со мной, сделал хозяину внушение и тот по виду смирился. Пришел на следующий день, снял с петель дверь и унес. Проходит час, я сижу. Проходит два – я сижу. Уйти нельзя – вся комната настежь, а сидеть тоже не могу – работа не ждет. Бегу я к хозяину в соседский двор. «Ну, что, Стоян, как с дверью?» – «А я отдал ее мастеру». – «А где мастер?» – «Ушел вместе с дверью». – «А какой его адрес?» – «Не знаю». Поверите ли, три дня после этого я около зияющего входа торчал днем и ночью, глаз не смыкал. Вещей хотя и немного и дрянь порядочная, но для того разве я остатки от большевиков спас, чтобы их в Варне раскрали?
– Я не понимаю вас, господа, – обидчиво заметила по окончании речи Дмитрия Ивановича, Наталья Владимировна. – Вы рассказываете какие-то истории про балканские страны, а между тем, у нас здесь, во Франции, истории тоже не лучше случаются. Вот, вы знаете, например, сколько в позапрошлом году при уходе с квартиры за продавленное кресло заплатили? Тря тысячи. А сейчас, у себя в банлье, знаете, что я терплю? Хозяйка дома каждый день заходит, смотрит, хорошо ли у меня натерты полы. И мастика, по ее мнению, не та, и щетки не такие, как нужно.
А вы посмотрите, в какой панике мои соседи Синицыны. Перед концом каждого терма, когда хозяин должен придти за деньгами, вся семья – как один человек – принимается за чистку с уборкой. Мебель выбивается, лестница красится, сад подметается… А вы говорите: Болгария!
– Ну, Наталья Владимировна, если бы вы пожили в Англии, вы не то бы еще сказали… – раздался из угла чей-то нерешительный голос.
– Или в Германии…
Однако, английский голос из угла и немецкий осведомитель не успели развить своих мыслей. Обычно хранивший молчание на наших собраниях, старый профессор Федор Андреевич почему-то вдруг встрепенулся, обвел рассеянным взглядом присутствовавших, и произнес:
– А, вот, если хотите, и я расскажу… Тоже возмутительный случай. Приехали, знаете, мы с Марьей Семеновной в город, отправились нанимать квартиру, и нашли, наконец, небольшой отдельный домик. Вид у здания был, действительно, Бог знает какой. Оконные рамы прогнили, половицы продавлены, обои ободраны!.. Зато дешево. Подумали мы с Марусей, обсудили, как быть, и решили весь дом отремонтировать на свой счет. Хозяин, конечно, охотно согласился. Перестлали мы полы, рамы новые вставили, стены оклеили, крышу починили. А когда все закончили, приходит, вдруг, хозяин, смотрит и говорит: «А знаете, господа, дома совсем не узнать. Ей-Богу. Теперь за такой домик втрое дороже можно взять. Со следующего месяца будьте добры платить уже не тридцать, а восемьдесят».
– Чего восемьдесят? Марок? – удивленно отозвалась со своего места Вера Степановна.
– Неужели фунтов? – тревожно добавила хозяйка. – Это где с вами было, Федор Андреевич.
– Где? А в России, Анна Викторовна.
– То есть как в России? Когда?
– А в 1903-м году. В Казани. Когда я, знаете, экстраординарным туда перевезен был. Но каков-то хозяин, а? Подумайте: «вместо тридцати – восемьдесят». И бывают же такие люди на свете!
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 3 мая 1930, № 1796, с. 3.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































