Текст книги "Ради радости"
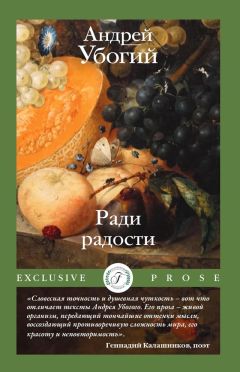
Автор книги: Андрей Убогий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Большинство из тех ложек, что мне приходилось потом держать в пальцах – детских, мальчишеских, подростковых, – в памяти не задержались. Но вот что меня удивило и что я запомнил, так это дюралевые гнутые ложки родного советского «Общепита». Они, небрежно сполоснутые тёткой-посудомойкой, лежали обычно в гремящих железных лотках, и большинство из них было странным образом покорёжено. Черенок был то завит винтом, то согнут в дугу, то вовсе отломан, словно эти казённые ложки нарочно терзала и портила неведомая сила. А потом, полюбив «Общепит» и проведя немало часов в его сумрачных недрах, я не раз наблюдал, как подвыпившие мужики увечат эти самые ложки – как их крутят и гнут в грубых пальцах, как черенки чуть ли не завязывают в узел – и какая при этом тоска наполняет хмельные, угрюмые взоры. Словно жизнь была мужикам так тяжела, так давила и мучила их, что это мучение неосознанно передавалось их пальцам, терзающим ложку, отчего она, бедная, и превращалась в уродливо скрученный жгут.
Но вот какую ложку свернуть в узел было нельзя, так это исконно крестьянскую, деревянную, её можно было только сломать или сжечь. Оставшись, быть может, последним из символов избяной деревенской Руси – той, есенинско-клюевской, канувшей в Лету, – деревянная ложка доносит до нас отголоски уклада веками отлаженной жизни. Тем более что деревянная ложка давно уж не столько прибор для еды, сколько ещё и музыкальный инструмент или предмет декоративного искусства. Костяной перестук этих ложек, рассыпанный под «Камаринского» или под «Барыню», напоминает лихой перестук кастаньет, их испанских сестёр.
А когда деревянные ложки расписаны мастерами из Палеха или Мстёры, то глаз не оторвать от их лаковой пестроты, от яркости черни и золота, охры и киновари. Такую ложку и в суп-то бывает жаль опускать, её только держать, как цветок, за стебель да любоваться её красочным буйством.
Но когда всё же ешь деревянною ложкой, то возникает чувство, что ты поедаешь именно ложку, а сама еда – это всего лишь придаток к ней. Ты и облизываешь ложку, и прикусываешь её, и стараешься так её обсосать, словно это не ложка, а мозговая сладкая кость. Недаром деревянные ложки, бывшие в частом употреблении, становятся стёрты, обгрызены – именно «съедены», как о них говорят.
Излишне писать, что любая еда, если зачёрпывать её деревянною ложкой, обретает вкус изначальный и правильный. Разве можно сравнить горшок гречневой каши или тарелку наваристых щей, рядом с которыми мы положили любимую деревянную ложку, с теми же блюдами, но оснащенными ложкой стальной? Есть простую, исконную пищу металлической ложкой почти то же самое, что выйти на пахоту или покос в бальных лаковых туфлях: смешно, неуместно, неловко.
Вообще, раз уж мы заговорили о деревянных ложках, можно добавить, что расписная липовая ложка – своего рода портрет той нации, что её сотворила. Она и проста – даже, можно сказать, простодушно-наивна, – она небогата и недолговечна (а русские и до сих пор живут меньше других), но в то же самое время душевна, тепла и нарядна и очень талантлива. Деревянная ложка – это и танец, и песня, которую мы порой держим в руках, часто даже не замечая того, каким праздником нас одарила судьба.
ЛОЗА ЧЕРНОГОРИИ. Черногория очень красива. Но, как всегда, чем прекрасней что-либо, тем труднее поведать об этом словами. Это как с девушкой: чем она больше нравится, тем глупее твой вид и нескладнее речи.
Вот как отразить на бумаге не просто серпантин горной дороги – наш как бы взлёт по каньону, над бирюзовою лентой реки, что мелькает внизу, среди бурых скал, – но ещё и ту смесь восторга и страха, которая охватывала, когда колесо автобуса на поворотах чуть ли не повисало над бездной, где на дне пропасти ржавели останки рухнувших туда автомобилей? А водитель к тому же гнал так, словно он торопился скорее попасть не то в рай, не то в ад, уж не знаю, куда ему было назначено.
Наконец мы остановились у горного монастыря и с облегчением ступили на твёрдую землю. Я, как обычно, отбился от группы и пошёл побродить по задворкам: мимо пасеки, где возился монах с дымарём, мимо скудного монастырского огорода и виноградника, обошёл вокруг храма, который по форме и цвету почти не отличался от окружающих скал, и вышел к церковной лавке, где торговали богослужебною утварью. Здесь были свечи, кресты и иконки, цепочки и чётки, бутылочки масла, молитвенники и лампадки цветного стекла. И вдруг среди этих, мерцающих позолотой предметов я увидел приличных размеров бутыль, на которой было написано «лоза». Встретить бутыль виноградного самогона вот именно здесь, где всё было чинно и благопристойно, где воздух пропитан был воском и ладаном, вовсе не показалось мне странным. Я вспомнил, что латинское «spiritus» означает как «спирт», так и «дух». Да и само получение спирта – возгонку – изобрели как раз в монастырях ещё в раннем Средневековье, так что здешняя лоза занимала своё законное место.
Старая женщина, что торговала в той лавке, заметила, как я внимательно рассматриваю бутыль, и, улыбнувшись, спросила:
– Руси'я?
– Руси'я, – кивнул я в ответ.
И, не дожидаясь, что я у неё попрошу, старушка налила мне полную рюмку пахучего и ледяного – аж запотело стекло – самогона.
– На здравие! – сказал я, подняв рюмку, залпом выпил и вытер слезу: уж очень крепка оказалась та монастырская лоза.
Я бы, конечно, ещё постоял рядом с доброй старушкой, поговорил бы о чём-нибудь с ней – рюмка лозы магическим образом увеличила мой запас сербских слов, – но, увы, пора было ехать.
Автобус, натужно гудя, опять потащил нас выше и выше по серпантину, колёса на поворотах снова едва не зависали над пропастью, но теперь, после выпитой лозы, почти не было страшно. Не то чтобы действовал хмель – он почти и не ощущался, – но в душе укреплялось глубокое чувство покоя. Как будто возгонка – процесс, при котором из виноградных отжимок получается самогон, – могла совершиться с любым из предметов и даже с любым состоянием души. Недавно тебе было страшно смотреть на ту пропасть, по краю которой, гудя, поднимался автобус, но теперь только чувство полёта вызывали те горные виды, что открывались глазам. Склоны гор становились всё более голы, по каменным осыпям медленно лился туман – или мы уже въехали в слой облаков? – и орлы, что кружили под нами, казались теперь не крупнее ворон. Туман становился всё гуще – водителю даже пришлось включить фары, – и уже начинало мерещиться, что подъём бесконечен: если вдруг кончится горная эта дорога, то наш автобус сумеет, натужно гудя, подниматься даже по облакам…
ЛУКОВИЦА. Согласитесь: приятно держать в руке золотисто-сухую и шелестящую луковицу. И коль уж мы её взяли – что с нею делать?
Можно очистить её, нарезать на крупные сочные доли и, сморгнув слезу, поставить на кухонный стол. Можно, не очищая, положить её рядом с солонкой, буханкою хлеба и старым ножом с костяным черенком и писать натюрморт. А ещё можно, опустив луковицу в банку с водой, дожидаться, пока она пустит зелёные перья посередине морозной и снежной зимы.
Проросшая луковица на подоконнике, перед заиндевелым стекло, мне памятна с детства. Простая, казалось бы, вещь – что может быть проще луковицы? – становилась тогда чем-то праздничным и необыкновенным. Нарушался сам ход времен – средь зимы наступала весна! – и любой, кто бросал взгляд на проросшую луковицу, всегда улыбался.
Зелёные перья тянулись всё выше, а с донца луковицы всё гуще свисала борода из белёсых корней. Вода в банке мутнела; а сама луковица день ото дня становилась всё более дряблой, пустой: её сила и жизнь уходила в зелёные стрелы. Наступал тот момент, когда мама срывала два-три пера, шинковала их на доске и бросала в кастрюлю с картофельным супом.
– О-о, летом пахнет! – Отец, прикрывая глаза, вдыхал острый луковый запах, и ты, подражая ему, начинал тоже старательно нюхать тарелку.
Действительно, пахло травою, полуденным зноем – пахло истомой далёкого летнего дня, которая сохранялась вот в этой луковице, и даже зима не могла одолеть этих запахов лета и жизни.
С луковицей связано и ещё одно, уже школьное воспоминание. Классе в пятом или шестом, когда мы начинали курс биологии, один из уроков был посвящён изучению клеток кожицы лука. Нам раздали предметные стёкла – они были прямоугольными, шероховатыми на торцах – и стёкла покровные, легкие, как лепестки. Потом по рядам пустили сахарно-белую луковицу. Каждому надо было пинцетом снять с неё полупрозрачную плёнку и разложить её на предметном стекле. Затем препарат нужно было прокрасить. Пипетка роняла с дрожащего кончика каплю рыжего йода, и она растекалась по луковой плёнке янтарным пятном. Теперь, накрыв кожицу лука невесомым покровным стеклом, можно было класть её под объектив микроскопа.
Тут я с трудом удерживаюсь, чтобы не пуститься в пространные описания самого микроскопа. Как сейчас, вижу его гнутый штатив, напоминающий чью-то усердно согбенную спину, его ствол, что нацелен туда, где обычное зренье бессильно, его круглый столик, с блестящей пластиной-зажимом, с винтами подачи, и вижу тот солнечный блик от рефлектора, который было так интересно ловить. Сначала наводишь подвижное круглое зеркальце на окно, ловишь им свет и направляешь его в потаённый, загадочный мир микроскопа. И в момент, когда солнечный зайчик попадал на отверстие столика, поле зрения вдруг просветлялось, и в его бледно-матовом круге ты угадывал некие контуры. Теперь, осторожно и не дыша, надо было чуть подработать винтами – объектив отступал на какие-то полмиллиметра, – и вдруг открывалась картина, которую я не могу позабыть до сих пор.
Ряды ровных клеток лежали в мерцающем, тающем блеске: цитоплазма, казалось, дышала, пузыри вакуолей напоминали жемчужины, а зрачки карих клеточных ядер, они будто смотрели навстречу тебе, вопрошая: «Ну, как ты, приятель?»
И вот ныне, почти полвека спустя, я думаю: каково было жить тому мальчику, что находил друзей в клетках кожицы лука? Видимо, очень непросто: в большом одиночестве должен жить человек, для которого даже кожица лука – подруга. Но зато такой человек никогда и нигде не останется совершенно один: уж чего-чего, а луковицы жизнь для него не пожалеет…
МАЛИНА. «Не жизнь, а малина», – говорим мы порой. Большей похвалы этой ягоде трудно и высказать; на этом вполне можно ставить точку.
Но жаль расставаться с малиной так скоро. Она-то нас не оставляет даже зимой: когда ты, иззябнув, уже начиная покашливать и шмыгать носом, ставишь на стол блюдце малинового варенья и принимаешься за целебное чаепитие. И удивительно, сколько жара содержит в себе это варенье: стоит проглотить пару сладких крупитчатых ложек, как в тебе загорается словно костёр, лоб и виски покрываются потом, и простуду буквально выпаривает из груди.
То, как много в малине сухого, добротного жара, ты знаешь и по весенним кострам. Как только в саду сходит снег, наступает пора выламывать старые малиновые побеги. Сухие высокие прутья ломаются с лёгким, стреляющим треском, почти что с таким, с каким они скоро займутся в костре. На глазах растёт груда хвороста, пара лимонниц танцует над ней, и это порхание бабочек над сухою малиной окончательно убеждает тебя: да, наступила весна.
Ну что, поджигаем? Неуверенный огонёк спички сначала исчез внутри вороха прутьев, повалил густой белый дым, но вдруг, как-то разом, малиновый хворост оказался охвачен гудящим и бледным огнём! От костра полыхнуло таким жаром, что хотя ты и отшатнулся от пламени, от его гула и треска, но брови тебе всё равно опалило.
Вот это костёр! Сухая малина не просто сгорает, а тает в огне; пламенный вихрь подхватывает и уносит вверх листья, мусор, золу и даже лёгкие ветки, которые вспыхивают и догорают уже на лету. Вилами ты подцепил на меже и бросил в огонь какую-то драную тряпку – то ли кофту, то ли рубаху? – и вот она вспыхнула тоже, и весенний костёр в этот миг стал почти ритуальным: он стал тем языческим пламенем, на котором сгорает Зима-Кострома.
Ну, что же, зима сожжена, теперь ждём в гости лето. А летом одно из любимых занятий – наведаться в сад по малину. Если утро росистое, листья малины темны, тяжелы; и рука, что ты сунул в куст, мгновенно становится мокрой по локоть. На ладонь липнут мелкий лиственный сор, паутина, какие-то мошки-козявки, но ты тянешь пальцы к тем налитым, почти черным от спелости ягодам, что падают, стоит только коснуться их мягко-ворсистого бока.
Вынимаешь ладонь из куста, когда в ней краснеет десяток малиновых ягод, и первым делом вдохнёшь из горсти запах спелого лета. Наверное, именно эту минуту и представляют себе, когда говорят: «Эх, не жизнь, а малина!» Когда же одними губами подбираешь с ладони душистую мякоть, отчего-то всегда представляешь себе, что ты сейчас лошадь, которую кормит заботливо-щедрая чья-то рука. Что ж, поэт сказал верно: все мы немножечко лошади, и все мы нуждаемся в ласке, которой нам так не хватает.
МЕД. Конечно, мед – да с краюхою свежего хлеба! – кушанье истинно райское. Даже в Библии говорится о нём. В Евангелии от Луки, где повествуется о явлении Христа ученикам уже после Воскресения, мы читаем: «Они подали ему часть печёной рыбы и сотового мёда. И, взяв, ел пред ними» (Лк, 42–43).
Но это касается воспоминаний всего человечества, для каждого же из нас есть свои собственные «медовые» воспоминания. Так, мне с раннего детства памятна пасека – мир клубящихся пчёл, дымарей, ульев, рамок, медогонок и сот, – мир, прикасаясь к которому я всё уверенней чувствую: рай существует.
И в этом раю, который конечно же есть уже потому, что мы с вами способны помыслить, представить его, не может не быть старых яблонь и ульев, стоящих под ними, запахов мёда, воска и дыма и слитного, словно органная фуга, гудения пчёл…
Пчеловодом был мой прадед, Денис Максимович Попов. Он прожил долго, девяносто три года, и поэтому я хорошо его помню. От старика исходил запах пасеки: запах холодного дыма, вощины и рамок – тех самых, что косо висели в сарае, на старинном кованом гвозде, вбитом в стену. Прадед был худощав, медлителен и молчалив, таким и должен быть глубокий старик – тем более пасечник. И я его, помню, любил, хотя откуда мне, пятилетнему, было знать, что такое любовь! Я всегда волновался, увидев Дениса Максимовича, и меня всегда тянуло к нему: хотелось встать рядом с ним, прижимаясь щекой к прохладному рукаву его пиджака (старик ходил в пиджаке даже в самое пекло), и подышать тем особенным запахом дыма и мёда, который, как я теперь понимаю, был будто дыханием вечности.
Прадед в неё, вечность, скоро и убыл; я же остался жить пока без него, в мире временном и несовершенном. Но пасека, о которой я нет-нет да и вспоминаю – те самые синие ульи, вольготно стоящие в тени старых яблонь, – создает для меня как бы мост между жизнью и райскою вечностью. Это воспоминание, так неразрывно слившееся с мечтой, что я уже толком и не понимаю, в прошлое или в будущее устремляется внутренний взор, когда мысли о пасеке вновь посещают меня.
Часто думаю: неужели жизнь не подарит мне, пускай в самом конце, летний полдень, наполненный слитным гудением пчёл? Попыхтев дымарём, я медленно подойду к возбуждённому улью, гудящему, словно орган, и сниму с него крышку. Пчелиный клубящийся город, со всем своим множеством сот, со всей суетою строительства и размножения, откроется мне, поразив, и уже не впервые, таким сходством с людской, в суете и трудах протекающей, жизнью. Я выну тяжелую рамку, смахну с неё серых, легко отлетающих пчёл, увижу, что соты полны, и мысли о собственной смерти, которые в эту минуту меня посетят, не будут иметь ни особенной важности, ни интереса. «Ну, помру так помру, – как-то очень обыденно, просто подумаю я. – Не я, как говорится, первый. Слава Богу, пожил, поработал, помаялся: что ещё нужно? Жизнь идёт, пчёлы гудят, взяток нынче хороший – в такое-то славное лето не жаль и уйти…»
МИДИИ ЛИСКИ. Что же мы, не едали изысканных блюд? Ещё как едали – вот, скажем, мидий.
В Лисьей бухте Восточного Крыма – Лиске, как любовно её называют нудисты, что с давних времён приезжают сюда, – впервые я оказался с молодою женой в знойный день августа. Склоны хребта Эчки-Даг плыли в мареве, море сонно вздыхало, а обнажённые люди, что загорали вокруг, казались почти миражами. Откровенная нагота для нас, детей пуританской советской эпохи, была ещё непривычна, и мне в самом деле казалось, что вон те две красотки почти шоколадного цвета существуют только в моей голове, отуманенной зноем.
Но не будешь же долго и тупо глазеть на голых красоток, забыв про жену и про море? И вот я ныряю, любуясь подводными скалами, серебристыми искрами рыб в толще бледно-зелёной воды и шустрыми крабами, что шныряют по дну. «Интересно, а что это там за ракушки на скалах? – думал я, фыркая и отдуваясь, и снова ныряя. – Наверное, мидии… что-то такое я слышал о них…» Через полчаса я наломал пару дюжин крупных мидий и гордо показал сетку с добычей супруге.
– Что это? – удивилась Елена.
– Это мидии. Деликатес. Надо будет попробовать…
Но мой голос был, видно, не слишком уверенным, и Лена смотрела на черных моллюсков с большим недоверием. Для надёжности я решил проконсультироваться у аборигенов Лиски, нудистов: в самом ли деле съедобно то, что я набрал в сетку-авоську? Выбрал двух обнажённых наяд и направился к ним.
– Девушки, подскажите: а вот это есть можно? – Я показал свою сетку с мидиями.
Красотки лениво взглянули на сетку, с которой сочилась вода, потом осмотрели меня – о, сколько всего было в их томных, насмешливых взглядах! – и, улыбнувшись, кивнули:
– Да, можно…
Одна из них, помню, с ехидцей добавила:
– Кстати, моллюски повышают потенцию…
В общем, эти наяды чуть меня не околдовали, и я бежал от них, как Одиссей от Цирцеи.
Но как и на чём было мидий готовить? У коктебельской старухи, сдававшей нам комнату, я выпросил старую сковородку и побрёл с ней на берег того ручейка, что течёт через весь Коктебель. Бурьян, перевитый побегами ежевики, вставал непролазной стеной, едва нашлось место для костерка. Я положил сковородку на два кирпича, развёл под ней огонь, высыпал мидий на разогретый чугун и в ожидании пиршества отхлебнул из бутыли, предусмотрительно взятой с собой.
Чем хорош Крым? Тем, что в любом его месте – хоть среди бурьяна, хоть на обочине пыльной дороги, хоть где угодно – можно сполна ощутить негу зноя и юга, покой созерцания и равновесие между собою и миром, то равновесие, что гораздо трудней обрести под неласковым северным небом. Вот и теперь, сев на жёсткую землю и слушая звоны цикад, я словно выпал из времени, места, себя самого и блаженно поплыл, сам не зная, куда…
Но из нирваны меня возвратили треск раскрывавшихся мидий и шкворчанье вскипевшей в их створках воды. Как я понимал, кушанье было готово. Признаюсь, с недоверием я брал в руки горячую мидийную скорлупу и рассматривал складчатый смуглый комочек, лежавший меж перламутровых створок. Вспомнился вдруг Собакевич из «Мёртвых душ», с его фразой: «Уж я-то знаю, на что устрица похожа!» Действительно, вид у моллюска был откровенный, весьма непристойный.
А вот вкус – тот, напротив, оказался застенчиво-нежный. Что-то чуть сладковатое, отдающее солью моря и горьким дымком костерка – что-то, состоящее из полутонов и намёков и оставляющее послевкусие неисполненного желания. Нечто подобное, помнится, я ощущал, когда девушка, которую я ожидал где-нибудь под часами, на свидание так и не приходила, и на душе у меня оставалась такая же нежная горечь, как и на языке после медленно пережёванной мидии.
Но вдруг, разминая во рту очередной сладко-горько-солёный комочек обманного мяса, я чувствовал на зубах костяной стук… и сплёвывал на ладонь небольшую жемчужину. И до сих пор у нас где-то хранится – надо будет спросить у жены – десяток таких вот жемчужин, добытых мной в мидиях Лиски.
МЛАДЕНЧЕСКАЯ КАШКА. Не каша, а именно кашка: речь о той «размазне», которой мы кормим наших младенцев, а потом доедаем за ними и сами.
Но кашка, понятное дело, не сразу становится главною пищей ребёнка. Вначале всего материнская грудь, этот, по выражению одного из чеховских персонажей, «буфет для младенца». Вряд ли, конечно, кто-то из нас может вспомнить, как кормили грудным молоком его самого; зато, наблюдая ребёнка, чавкающего и пускающего пузыри у материнской груди, каждый может представить, как это было когда-то и с ним. Мир был тогда опрокинут, нечёток, почти нереален – само его существование оставалось ещё под вопросом, – но несомненной реальностью выступала тёплая, даже местами горячая материнская грудь. Вытесняя весь мир, она и сама была целым миром: нависая, как мягко-упругое облако, она подавалась от нетерпеливых движений младенца – толчков его головы, беспорядочно шарящих ручек, – но всегда возвращалась, опять вытесняя собою весь прочий, сомнительно-призрачный мир.
Младенец у материнской груди, то засыпающий, то опять начинающий искать тёплый сосок, – не лучшее ли из состояний, какие когда-либо нам были дарованы? Это был, в сущности, рай, из которого, правда, нас быстро изгнали, но до сих пор, бродя по пустыне неласковой жизни, мы храним память об этом утерянном рае.
И вот именно детская кашка, которую мы доедаем за малым ребёнком, есть некий мост между нами и нашим младенчеством. Задумчиво шлёпая ложкой по жиденькой «размазне» в разрисованной детской тарелке, мы хотя бы отчасти, но исполняем наказ «быть, как дети», то есть, в сущности, движемся в сторону рая. Состояние детской безгрешности, тихого счастья, доверия к миру, который вдруг кажется нам и заботлив, и добр, – всё это, забытое и непривычное взрослому, оживает в душе рядом с детской тарелкою каши. Она – словно оклик и зов, возвращающий нас в незапамятно-давнее детство. Недаром и позже, в те дни нашей жизни, когда мы «близимся к началу своему», то есть во время тяжёлой болезни или в пору немощной старости, детская кашка снова становится главной, этой единственной пищей.
Чем накормим больного, который так слаб, что и ложку-то сам не сумеет держать? Ясное дело, молочною жиденькой кашкой. Как говорила мне, помнится, одна санитарка: «Ешь, милый, ешь: коли серёдка сыта – так и краюшки радуются…» Ведь больному важнее всего не лекарства, не разные там перевязки да клизмы; нет, важнее всего осознание того, что жизнь ещё не отторгла его, не забыла, не обделила заботой и лаской, раз она поднесла ему эту тарелку, которая вдруг напомнила дни далёкого детства…
А старик… что дадим старику? Уж верно, не устриц или омаров; нет, мы тоже нальём ему жиденькой кашки. И для него вновь воскреснут далёкие – или теперь уже близкие? – дни, когда мать или бабка кормили его. Эта пресная кашка тогда ему вовсе не нравилась, но он принимал и теперь принимает её со смирением, как условие жизни, которая в старости так же малопонятна ему, старику, как была малопонятна тогда, ещё в самом начале. «Ешь, милый, ешь, иначе не вырастешь», – говорила заботливо и терпеливо покойница-мать. «А зачем мне и было расти?» – думает, верно, старик (то есть тот же, по сути, ребёнок), ковыряясь дрожащею ложкой в тарелке своей – неужели той самой, за целую жизнь недоеденной? – кашки…
МОЛОДОЙ ГОЛОД. Годы юности прошли в общежитии медиков, в комнате на семерых. И мы всегда были голодными, независимо ни от времени суток, ни от того, сколько съели еды.
После ноябрьских праздников, когда все возвращались в общагу из дома, пространство между двойных рам окна оказывалось чуть не на треть завалено свёртками со съестными припасами. По-особому сумрачно тогда становилось в нашей комнате номер двенадцать – сумрачно, но хорошо. Сама мысль, что у нас столько сала, капусты, варенья и разных солений-квашений, она нас согревала. А согреться было необходимо: в старой общаге топили из рук вон плохо, изо ртов валил пар, а на подоконнике за ночь замерзала в стаканах вода. Вот мы и ели почти непрерывно, и на глазах убывали межоконные наши запасы. Даже ночью случалось проснуться, чтобы затеять ночной перекус.
Бывало, бессонно ворочаешься на скрипучей казённой кровати – ноги мёрзнут, в желудке урчит – и слышишь, как в темноте так же бессонно вздыхают, ворочаясь, шесть твоих сотоварищей.
– Эй, вы что там, не спите? – окликаешь их шёпотом.
– Как же, уснёшь тут, в такой холодине, – отвечают тебе.
– Да и жрать хочется! – выражает кто-нибудь общее мнение.
Все отчего-то хохочут – мы тогда много и часто смеялись – и дружно решают вставать и готовить еду. То, что сейчас второй час ночи, никого не смущает: голод и молодость не наблюдают часов.
С треском распахивается створка окна, и из щели меж обледенелых стёкол извлекается брусок сала. Картошка обычно хранилась в шкафу – там же, куда мы складывали пустые пивные бутылки. На то, чтоб порезать сало и почистить – в шесть рук – два десятка картошин, уходит не больше пяти минут.
И вот мы на кухне общаги, наша большая закопчённая сковорода уже потрескивает на огне. Сало шкворчит, над картофельным белым холмом поднимается пар, и рука сама собой тянется, чтоб ухватить ещё совершенно сырую картошку. Торопливо хрустишь сочным ломтиком – вкусно! – но Коля Лозбенев, наш сегодняшний повар, возмущенно кричит:
– Эй, не наглей – команды не было!
От соблазна выходишь из кухни в ночной коридор. Видишь уводящий вдаль гулкий сумрак, у торцевого окна обязательно жмутся студент со студенткой, кто-то пьяный бредёт, опираясь о стену, кто-то, вынеся стул в коридор, готовится к завтрашнему зачёту, и откуда-то слышен гитарный тоскующий звон. Общага не спит никогда, она лишь притихает в ночные часы и после дневной суматохи впадает в задумчивость и отрешённость. Мерещилось: если бродить по ночным коридорам общаги час, другой, третий, то можно встретить сам дух, сам таинственный призрак громадного этого дома, который бессонно блуждает по сумрачным лестницам и переходам.
Но пока вместо духа общаги ты ощущаешь лишь запах жареной картошки. Он растекается по коридору так соблазнительно, что опасаешься: вдруг, пробудившись средь ночи, на этот запах поднимется весь наш этаж?
А в комнате номер двенадцать, несмотря на позднее время, царит возбуждение. С круглого стола убрали учебники, смахнули сор и разложили по кругу семь ложек. Появление Лозбенева с дымящейся сковородой встречают радостными криками и водружают сковороду в центр стола. Вот все в готовности встали вокруг, а ложки блестят в руках, словно клинки.
– Ну что, все собрались? Тогда вперёд! – командует повар.
То, что происходит в следующую минуту, напоминает короткую схватку, где семеро фехтовальщиков бьются то ли друг с другом, то ли с тем чувством голода, которое и подняло нас всех среди ночи. Ложки звенят друг о друга и о сковороду, рты чавкают, ноздри сопят, и всё происходит в сосредоточенном и напряжённом молчании. Кажется, не дай Бог оказаться в центре этого коловращенья из ложек и рук, потому что тебя самого съедят так же стремительно, как и картошку, от которой остались одни только шкварки. Впрочем, нет, их уже отскребли, подобрали – странно, что сама сковородка осталась цела.
Отдуваясь, икая, семеро сотрапезников падают по своим койкам. Все кажутся вялыми и постаревшими, словно, победив ночной приступ голода, мы победили и молодость, которая от этого юного голода неотделима. После таких полуночных пиршеств засыпал я обычно в тоске, мучась смутными угрызениями совести. Словно я изменил сам себе, променяв молодую тревогу и голод на вялую сытость и сонный покой. Неужели, я думал, и всю свою жизнь я вот так разменяю – на сытость?
Ещё слава Богу, что голод – а вместе с ним юность – к утру возвращались. Хриплое, словно простывшее, радио начинало играть государственный гимн, и я просыпался: опять молодой, полный юной тревоги… и желания что-нибудь съесть.
МОЛОКО. Конечно, лучшее молоко – парное, только что от коровы, но такое не каждому доводилось попробовать.
А вот мне повезло. Студентом, работая на Смоленщине в стройотрядах, я, случалось, ходил на вечернюю дойку. Уже на закате – столбы мошкары, словно дым, колыхались над пыльной дорогой – я шёл в направлении гула компрессора, который звучал каждый вечер на ферме на окраине Сяковки (так называлась деревня, где мы работали). Этот густой и задумчивый гул был той колыбельной, под которую в сумерках засыпала деревня. На подходе к коровнику уже были слышны мычание, звоны подойников, крики доярок; и во всех этих звуках, таких утешительно-мирных, покоя было едва ли не больше, чем в полной, почти никогда не случавшейся здесь тишине.
Мысленно двигаясь вслед за собой, молодым, на вечернюю ферму, я даже вспомнил имя доярки, которая разрешала мне подоить корову, чтобы потом выпить собственноручно добытое молоко. Звали её Сидоренкова Зинка – не Зина, не Зинаида, а именно Зинка, – и была она полной, тугой, краснощёкой весёлою бабой. Любимой её поговоркой была: «Не зевай, Фома, на то ярмарка!»
– Что, студент, молочка захотелось? – кричала Зинка, увидев меня. – Или коровьи титьки приятнее бабьих?
И она хохотала так громко, что коровы начинали испуганно переступать по доскам настила. Механической дойке поддавались не все, поэтому многих коров приходилось доить и вручную; вот из этих, «ручных», Зинка выбирала какую-нибудь посмирнее, отирала ей вымя мокрою тряпкой и совала мне в руки подойник:
– Садись! Только подойник придерживай – Милка, холера, любит его опрокидывать.
Я присаживался на скамеечку рядом с шумно вздыхавшею пегой коровой, зажимал ведро меж колен и брался за тёплое, мягкое, всё в надувшихся венах, коровье тяжёлое вымя. Касание вымени – и тем более первые неуверенные попытки тянуть за коровьи сосцы – вызывало во мне очень сложные, путаные ощущения. С одной стороны, мне казалось, что всё происходит во сне – с какой это стати я, студент-медик, вдруг превратился в дояра? – но, с другой стороны, я догадывался, что вряд ли я прежде настолько же приближался к реальности, сам становясь её неотъемлемой частью. Всё остальное – учебники, кафедры, лекции, подружки-приятели, – всё превращалось в мираж, а реальность сгущалась до колыхания тёплого, грузного вымени, до мокрых, тугих, ускользавших сосцов и до нежного звона подойника, в днище которого вдруг ударяли первые белые струи…
– Да не дёргай, а сцеживай! – Голос Зинки доносился словно откуда-то издалека. – Вот же бестолочь, и чему вас только учат в мединституте?
Она хохотала; корова, переступая, норовила выбить копытом подойник у меня из колен, но я усердно тянул за сосцы, и дойка мало-помалу налаживалась. Нежный звон струй о подойник становился ритмичнее, и дно оцинкованного ведра уже закрывалось слоем белого пенистого молока. Струи уже не звенели, а мягко шипели, поочерёдно вспарывая молочную пену.









































