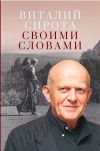Автор книги: Анджела Бринтлингер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!
Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид
[Тынянов 1985: 7][30]30
Пиксанов озаглавил это стихотворение: «К портрету Грибоедова» [Пиксанов 1911: CIV].
[Закрыть].
Тынянов даже усилил этот образ, сведя к минимуму чувства и страсти своего героя и показав, что он, по сути, только внешне обозначает душевные переживания[31]31
В разных воспоминаниях Грибоедов рисуется как живой и даже страстный человек, что резко контрастирует с практически лишенным страстей тыняновским героем. Обсуждение «легенды» о Грибоедове см. [Фомичев 1980: 5-20].
[Закрыть]. Но одновременно он поставил этот тщательно сконструированный образ под сомнение, дав возможность противоречивым источникам проступить сквозь ткань повествования.
Эта двойственность подчеркивалась самой композицией романа, который начинается и заканчивается историческими и литературными мифами. Тынянов начал с общей историкополитической концепции о различиях между людьми 1820-х и 1830-х годов, об их метаморфозах, и воплотил эти различия в физических характеристиках этих людей. Сам Грибоедов вошел в роман как призрак, оживленный воображением Тынянова. В прологе говорится: «Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение. Он лежит неподвижно… Он не думает, не говорит. Еще ничего не решено». Образ Грибоедова постепенно становится цельным, размышляющим, говорящим и действующим, но затем снова начинает исчезать: личность сменяется обозначением должности и звания – Вазир-Мухтар. К концу романа герой полностью развоплощается и становится просто именем. Тело, возвращенное в Россию, может принадлежать, а может и не принадлежать Грибоедову; оно собрано из различных частей тел, оставшихся после тегеранской бойни. Но не только его тело было изуродовано, оказалось искажено и его имя. Когда Пушкин спросил возчиков, встреченных им по дороге из Тегерана: «Что вы везете?», то услышал в ответ: «Грибоеда» [Тынянов 1985: 9, 414][32]32
См. «Путешествие в Арзрум» Пушкина [Пушкин 1948: 460].
[Закрыть].
Это возвращение к литературному мифу, как может показаться, делает бесполезной всякую попытку увидеть стоящего за именем человека. Однако в своем романе Тынянов показал именно этого человека. Как примирить эти две стороны мифа о Грибоедове и эти два аспекта романа Тынянова? Один из возможных ответов заключается в том, что примирения не существует, остается только искаженное имя и различные версии истины, которые могут придумать потомки. Но Тынянов был слишком заинтересован в определении исторической правды, чтобы допустить в своем романе такую двусмысленность. Вместо этого, внося свой вклад в миф о Грибоедове и одновременно демонстрируя границы этого мифа, Тынянов указывал, как понять суть мифа и суть русской культуры. Эта суть – бессмертие художника и значение его судьбы для будущих поколений.
В «Смерти Вазир-Мухтара» Тынянов увековечил исторический характер Грибоедова, так же как в «Горе от ума» сам Грибоедов увековечил художника. Кроме того, Тынянов экспериментировал с различными способами включения истории литературы и литературных текстов в свой художественный вымысел. Одним из его основных приемов было подчеркивание роли художника как пророка. Не только тыняновский Грибоедов предсказывает неизбежность своей смерти в Тегеране, но и тыняновский Пушкин вносит вклад в «правду», которая должна была облагородить последний год Грибоедова. Тынянов включил правду Пушкина в «Смерть Вазир-Мухтара», но также создал собственную – колеблющуюся, как маятник, – правду для XX века, добавив относительности в свое изображение прошлого; этот прием он еще и углубит в своем последнем романе. Известность Грибоедова и его трагическая судьба обеспечили ему место в истории. Тынянов показал этот исторический характер своим современникам в качестве предупреждения (вот то, что может случиться с теми, кто позволит себе стать «превращаемым») и в качестве послания (можно попытаться взаимодействовать с политической системой, чтобы совершить нечто, и хотя некоторые погибают, совершая эту попытку, их слава переживет их судьбу).
Глава 3
Факт вымысла: образы Пушкина в произведениях Ю. Тынянова
Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?
А. А. Ахматова
Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю —
Исполню ли? Бог весть!
А. С. Пушкин. 1817–1819
Ленинград. 1930 год. Характеризуя свой творческий метод, Тынянов признавал: «Я люблю грубые, неоконченные вещи. Меня восхищают грубые, незавершенные, несчастливые люди» [Тынянов 1983: 166].
Одним из таких «неоконченных» людей был Грибоедов; роману «Пушкин» суждено было остаться незавершенным.
Во всех художественных (и во многих научных) произведениях Тынянов в конечном счете апеллировал к Пушкину. Как убедительно показала М. Гринлиф, в сочинениях Тынянова 1910-20-х годов Пушкин выступает как некая данность, как мера, которой поверяется значимость других поэтов его эпохи: «В своих ранних трудах, посвященных пушкинскому времени, – писала исследовательница, – Тынянова то и дело привлекают те пушкинские современники, которые остались недооцененными или чей путь оказался необычным: Кюхельбекер, Грибоедов, Тютчев, Катенин – и их литературное развитие “на фоне Пушкина”» [Greenleaf 1992: 280]. В художественных текстах Пушкин также становится своего рода зеркалом для других персонажей. Лицейская дружба Пушкина и Кюхельбекера играет большую роль в романе «Кюхля». Как говорилось в предыдущей главе, Пушкин не только становится персонажем в «Смерти Вазир-Мухтара», но и играет большую роль в подтекстах этого романа. В данной главе мы займемся вопросом о связи между научными трудами Тынянова и его попыткой написать пушкинскую биографию. Сравнение Пушкина, каким он предстает на страницах литературоведческих работ и на страницах неоконченного биографического романа, с такими «грубыми, незавершенными и несчастливыми» персонажами, как Грибоедов и Кюхельбекер, поможет понять, почему первые два романа оказались интереснее и востребованнее третьего и почему «Пушкин» не был окончен. Контраст между Пушкиным как персонажем и заглавным героем в романах Тынянова (причем образы Пушкина в этих произведениях не одинаковы) и биографическим Пушкиным-поэтом, о котором идет речь в научных работах Тынянова 1920-30-х годов, а также исследование образа Пушкина в каждом из трех романов позволят осмыслить соотношение между научными и художественными работами Тынянова.
Роман «Пушкин» – заключительная часть трилогии – начал публиковаться в период подготовки к отмечавшейся в 1937 году столетней годовщине со дня смерти поэта. Сам автор так описывал свои планы на ранней стадии работы: «Вся жизнь великого поэта, от самого его рождения, будет показана в романе “Пушкин”. Даже смерть поэта не исчерпывает темы… я намериваюсь захватить и последующий период. Ведь и сам Пушкин как крупнейшее литературное явление прошлого века не кончается с его физической смертью» [Тынянов 19346]. Тынянов трудился над романом почти десять лет, вплоть до своей смерти в 1943 году. Тут важно отметить, что писатель упустил историческую возможность ответить на призыв власти – создать биографию к столетней годовщине. Поэтому можно сказать, что биография поэта, написание которой затянулось на многие годы, стала уже не нужна советской власти. Задача оказалась непосильной, собственный труд победил автора, хотя предшествующие биографические романы принесли ему большой успех. Тынянов не подарил миру нового Пушкина, и как писателю ему оставалось только почивать на лаврах: его главными созданиями остались милый Кюхельбекер из детской книжки и «исчезающий» Грибоедов из модернистского романа.
Пушкинский подтекст в «Смерти Вазир-Мухтара»
Тынянов описал в «Смерти Вазир-Мухтара» встречу Грибоедова и Пушкина: она происходит на том самом полностью вымышленном обеде, который дает в романе гаер Булгарин. В этой сцене Грибоедов и Пушкин входят в комнату вместе, почти как гоголевские близнецы Бобчинский и Добчинский:
Когда Грибоедов и Пушкин появились, все встали. Слава богу, музыканты не ударили в тулумбасы, с Фаддея бы это сталось. <…> Греч встал.
– Александр Сергеевич, – сказал он Грибоедову, – и Александр Сергеевич, – сказал он Пушкину…
Потом он говорил о равных красотах обоих, о Байроне и Гёте,
о том, что предстоит совершить, – и кончил:
– Две вещи могут быть хороши, хотя вовсе не подобны» [Тынянов 1985: 127–128][33]33
Ср. рассказ Бестужева о разговоре с Грибоедовым об относительных достоинствах Шекспира и Гёте. Он вспоминал, что Грибоедов заметил: «Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны» [Бестужев 1929: 136]. В издании 1980 года эта строчка приписывается самому Бестужеву [Фомичев 1980: 99]. Читатель, замечающий подтексты Тынянова, понимает: Грибоедов и Пушкин – это Шекспир и Гёте русской литературы.
[Закрыть].
Два очень не похожих друг на друга поэта образуют смысловой центр «Смерти Вазир-Мухтара».
Та же литературная пара выступает в романе и в ином качестве: уже не как Бобчинский и Добчинский, а скорее как Моцарт и Сальери из «маленькой трагедии» Пушкина. Описывая личные отношения Грибоедова и Пушкина, Тынянов явно заставляет первого завидовать второму. Пушкин в романе ведет себя просто, уверенно и не заботится о своих произведениях, явно напоминая этим Моцарта. В отличие от него, Грибоедов – разочарованный, трудолюбивый, но тем не менее не достигающий литературного успеха, – вынужден наблюдать, как рушатся все его творческие планы, включая проект Закавказской торговой компании. Тыняновский «Сальери» не прибегает к экстремальной мере, на которую решается пушкинский герой (отравить своего соперника), однако зависть Грибоедова к другому поэту кипит под видимостью расположенности; возможно, именно это превращает пушкинское «вино» в текущий в венах Грибоедова «уксус».
Хотя в «Смерти Вазир-Мухтара» роль Пушкина весьма важна на сюжетном уровне, особенно в конце романа, поэт присутствует здесь как всего лишь один из многих персонажей. Тынянов одновременно и выступал против пушкинских слов о Грибоедове («не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни»), и включал пушкинские оценки в свой текст. Если цитата из «Путешествия в Арзрум» – «смерть его была мгновенна и прекрасна» [Тынянов 1985:416] – звучит как довольно слабая оптимистическая нота в финале длинного и кажущегося неизбежным пути, который начинался словами «еще ничего не было решено», то отношение Пушкина-персонажа к Грибоедову в тыняновской интерпретации заставляет читателя задуматься о репутации и исторически сложившемся восприятии жизни (и смерти) поэта.
Пушкин присутствует в «Смерти Вазир-Мухтара» также имплицитно, через отсылки к его произведениям и суждениям; есть здесь даже неявные отсылки к его спорам с друзьями. Так, например, в 1828 году Катенин, старый друг и Пушкина, и Грибоедова, обвинил Пушкина на страницах «Старой были» в лести самодержцу [Тынянов 1969: 192]. В романе Пушкин отвергает такие сплетни как пошлые и мелкие. В беседе с Грибоедовым о своей батальной поэме Пушкин произносит: «Полтавская битва. О Петре. Не будем говорить о ней. Поэма барабанная. <…> Надобно же им кость кинуть» [Тынянов 1985:126]. Возможность подобной трактовки «Полтавы» ее автором вызывает сомнения, но в романе Грибоедов принимает это всерьез и ревниво хмурится, замечая легкость, с которой Пушкин идет на такую уступку самодержавию. В целом же отношения Пушкина и Грибоедова в романе пронизаны мотивами обиды (со стороны Грибоедова) и соперничества.
Сцена, в которой Пушкин встречает тело Грибоедова по дороге в Тифлис, – не единственное заимствование из «Путешествия в Арзрум». Первая подглавка четвертой главы, когда Грибоедов отправляется в тифлисские бани, также практически полностью взята из «Путешествия…», правда, с некоторым остранением, и это поначалу смущает читателя; этот эпизод в романе предвещает момент насильственной смерти Грибоедова. Оба банщика (в «Путешествии…» и в романе) – татары, и их банные ритуалы почти не отличаются. Более того, Тынянов использует многие пушкинские фразы почти дословно. Сравним фрагменты из романа и «Путешествия…»:
Ему ломали руки, ноги… <…> Татарин бил его… барабанил по спине кулаками… <…> Потом он вытягивал ему длинные ноги, и суставы трещали. <…> Странно, боли никакой не было. Татарин, согнувшись, вскочил вдруг ему на спину и засеменил по спине ногами… Тогда татарин напялил на кулак мокрый полотняный мешок… и бросил Грибоедова… в бассейн [Тынянов 1985: 157].
…начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли… (Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи… и пляшут по спине вприсядку…). После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и <…> стал умывать намыленным полотняным пузырем. <…> После пузыря Гассан отпустил меня в ванну… (Курсив везде мой. – А. Б.) [Пушкин 1948: 457].
Тынянов иронично усиливает параллель, заставляя банщиков комментировать это мытье:
– Отчего ты такой красный, Али? – спрашивал другой татарин грибоедовского.
– Когда я мою русских, – отвечал Али, – я их очень сильно ворочаю и много бью. Своих я совсем не так сильно бью и больше мою. Русские моются не для чистоты, а чтобы рассказать потом о нашей бане, им интересно, хозяин приказал их очень много бить [Тынянов 1985: 157–158].
В данной сцене Тынянов дает чуть ли не прямые ссылки не только на пушкинское «экзотизированное» описание, но и на источник истории – факт посещения Пушкиным бани. Метакомментарий о привычках писателей, любящих «рассказывать о банях», связывает Пушкина, Грибоедова и Тынянова единой линией преемственности.
«Карантинный пир» [Тынянов 1985: 245–248] Грибоедова в романе напоминает еще одну пушкинскую «маленькую трагедию» – «Пир во время чумы». Тынянов выстраивает ситуацию, в которую попадает его Грибоедов, таким образом, чтобы она зеркально отражала эпизод из биографии Пушкина. Когда Пушкин в 1830 году писал «Пир во время чумы», он был заперт в Болдине и не мог вернуться в Москву к своей невесте из-за карантина. Грибоедов в романе попадает в сходную ситуацию: он не может воссоединиться с Ниной из-за чумы в лагере Паске – вича. Как и реальный Пушкин, романный Грибоедов использует это затруднение с пользой для себя. Он забавляется попойкой, чтобы скоротать время[34]34
Сам создатель образа Грибоедова, попав в сходное затруднительное положение, вел себя иначе. В 1918 году жена и дочь Тынянова уехали во Псков, и вскоре семья оказалась разделена линией боевых действий Гражданской войны. Тынянову удалось в 1919 году прорваться к своим близким и даже привезти им что-то из еды, потому что тогда ее трудно было достать [Каверин 1983: 41–42]. Тынянов решил не использовать собственный опыт преодоления похожих затруднений при написании этой сцены.
[Закрыть]. Тынянов вносит в свой текст и присущую героям Пушкина непочтительность к религии: пушкинский Вальсингам отвергает попытки священника спасти его от нечестивого пира, а Грибоедов высмеивает набожного немца, который убеждает его искать в Персии Сына Божия.
Есть и другая связь между «Смертью Вазир-Мухтара» и произведением Пушкина. Мотивы побега и конфликта между желанием и судьбой (выражающегося в пушкинской онтологической рифме «воля» – «доля») [Bethea 1998а: 264, сноска 15], присутствующие в стихотворении 1834 года, проходят и через роман Тынянова. Пушкин писал:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить… и глядь – как раз – умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег
[Пушкин 1937а: 330].
Тема побега часто разрабатывалась в это время Пушкиным, который несколько раз пытался получить разрешение на выезд из России. Однако тыняновский Грибоедов идет дальше: он хочет создать собственную «заграницу» для побега[35]35
На важность темы убежища впервые указал Белинков [Белинков 1965: 302–307].
[Закрыть]. Грибоедов мечтал о двух разных побегах от службы в Персии. Он надеялся создать новое, основанное на его закавказском проекте государство, которому пригодились бы его творческие способности, либо намечал для себя что-то вроде пушкинской «завидной доли» – спокойного отдыха в Цинандали, имении юной жены.
Рассказчик в романе, кажется, сочувствует стремлению своего героя бежать. Грибоедов выразил сходное желание побега в «Горе от ума», где Чацкий покидает Москву, восклицая:
Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок! —
Карету мне, карету!
[Грибоедов 1967: 171].
Печальная ирония состояла в том, что к моменту падения занавеса судьба явилась в образе не кареты, а простой телеги, влекомой двумя быками: эта телега везла из Персии в Россию изуродованное тело Грибоедова.
Из всех художественных произведений Тынянова последний роман кажется наиболее проблематичным как критикам, так и читателям, и это обусловлено отчасти тем, что он наименее экспериментален. Поскольку Тынянов был видным теоретиком, а также критиком и историком литературы, исследователи часто рассматривают его творчество как практическое воплощение теоретических идей[36]36
Даже написанные Тыняновым киносценарии оказываются объектами тщательного теоретического анализа. См., например [Ямпольский 1986]; см. также главу 2.
[Закрыть]. Исторические повести Тынянова – «Подпоручик Киже», «Малолетний Витушишников» и «Восковая персона» – рассматривались как опыты стилизации; забавные и блистательные, они заслужили, пожалуй, большего внимания ученых, чем крупная проза. «Кюхлю», как правило, считают детской книгой. Этот быстро написанный роман быстро читается, погружая читателя в жизнь лицейского чудака, ставшего декабристом и потерявшегося в этом мире[37]37
Характеристику Кюхельбекера как «чудака» можно найти в письме Боратынского, написанном в феврале 1825 года, которое Тынянов цитирует в статье «Пушкин и Кюхельбекер»: «Он человек занимательный по многим отношениям и рано или поздно в роде Руссо очень будет заметен между нашими писателями. Он с большим дарованием, и характер его очень сходен с характером Женевского чудака» [Тынянов 1969: 250]. Б. М. Эйхенбаум также замечал, что Кюхельбекера обычно рассматривали «в качестве смешного лицеиста, оказавшегося потом почему-то среди декабристов» [Эйхенбаум 1986: 200]. Ср. также «причудливых гениев, призрачные личности», о которых писал Брукс в упомянутой работе о «полезном прошлом» [Brooks 1918:340].
[Закрыть]. Этот биографический роман содержит множество написанных широкими мазками картин: масштабных событий русской истории и российских пространств, – возможно, именно поэтому критики уделяли «Кюхле» меньше внимания, чем другим художественным произведениям Тынянова[38]38
Э. Вахтель анализировал одну из сцен романа в главе «История литературы, критика и вымысел: случай Тынянова», но сосредоточился при этом на хронологическом порядке появления художественных и историко-литературных работ о Кюхельбекере и на том, что эта последовательность может сказать о межжанровом диалоге. См. об этом главу 8 в книге Вахтеля; о романе см. [Wachtel 1994: 194–196].
[Закрыть].
В отличие от советских ученых, увлекавшихся поиском в тыняновской прозе аллегорических значений, С. Розенгрант полагает, что эти романы представляют собой далеко не только отклик на текущие события. Гораздо больший интерес у исследовательницы вызывают другие вопросы, в особенности о том, как отражаются в романах Тынянова его идея литературной эволюции и другие литературные теории. При этом Розенгрант не касается романа «Пушкин»: поскольку Тынянов «умер, успев завершить только три первые части <…> нельзя сказать, во что бы превратилось его произведение» [Rosengrant 1987: 119–120]. Разумеется, в планы Тынянова входило сделать роман более масштабным повествованием о пушкинской эпохе, и финальный вариант должен был отличаться от того, который мы читаем сейчас. Однако я считаю, что пристальный анализ законченных частей этого текста и посвященных поэту исследований автора раскроет нам «тыняновского Пушкина». Остается только вопрос, в каком именно качестве это прошлое могло быть «полезно» Тынянову. Если писатель, как и другие, искал в прошлом положительного героя, то понятно, что ни Грибоедов, ни Кюхельбекер для этого не годились. Не был хорошей кандидатурой и Пушкин – в особенности тот Пушкин, который изображен в неоконченном романе-биографии. Тынянов оставался в первую очередь ученым, и потому его больше всего интересовал процесс достижения «полезного прошлого». Он выработал определенные методы восстановления этого прошлого с помощью архивных изысканий и обоснованных гипотез, однако в конце концов Пушкин свел на нет все «научные» методы.
Мнимый Пушкин
Как и следовало ожидать от теоретика, увлеченного исследованием поэтического языка (и языка вообще), Тынянов принял участие в развернувшихся в 1922 году дебатах о Пушкине и пушкинистике, остро поставив вопрос о языке литературоведческих исследований. Он опасался, что небрежные формулировки ученых могут негативно повлиять на атрибуцию ряда текстов. Поскольку в те годы все еще шел процесс установления текстов произведений Пушкина, эти опасения были весьма своевременными.
В полемических выпадах против пушкиниста Н. О. Лернера Тынянов предупреждал об опасности появления в современной науке «мнимого Пушкина». Яростные нападки на пушкинистов различных взглядов в действительности были частью более масштабного наступления на то направление, которое принимала наука о литературе в целом. В своей статье Тынянов отстаивал иные приоритеты: сосредоточенность на литературе как таковой. Ему казалось, что литературоведы слишком увлеклись дополнениями к каноническому списку текстов – атрибуцией, а не анализом. В эти годы Тынянов стал свидетелем возникновения и укрепления позиций школы научной текстологии, которая до сих пор занимает ведущие позиции в Санкт-Петербурге. Ирония заключается в том, что и сам Тынянов, выступая против этой литературоведческой школы, внес в ее создание существенный вклад[39]39
Ср., например, его доклад «Новые страницы “Египетских ночей”», прочитанный в Петрограде в 1921 году. Если другие лекторы размышляли о «назначении поэта» (так назывался доклад Блока) или о месте Пушкина в послереволюционной русской культуре (как Ходасевич в «Колеблемом треножнике»), то Тынянов предлагал разговор о проблемах текстологии.
[Закрыть]. В конце концов он осознал это противоречие. Как показывает скрупулезная аргументация в статье «Мнимый Пушкин», Тынянов выступал в защиту сдержанности и осмотрительности. Он настаивал на том, что при решении текстологических проблем надо проявлять крайнюю осторожность, чтобы не допустить опрометчивых или чрезмерно широких обобщений.
В статье 1922 года Тынянов не только спорил с Лернером о стиле Пушкина, но и высказывался о работах самого Лернера. Когда Лернер или другие пушкинисты писали нечто вроде: «Эти строки достойны Пушкина по мысли и форме», то они, как считал Тынянов, вмешивались в канон пушкинских текстов. Даже если суждения Лернера оставались добросовестными и сопровождались оговорками, то это не устраняло опасности недопонимания, которое могло возникнуть в дальнейшем. Рано или поздно в научной среде начинало действовать то, что называется «испорченный телефон»: достаточно нескольких ссылок и повторов какого-либо суждения, вырванного из первоначального контекста, и текст сомнительного авторства может войти в собрание поэта в качестве его признанного сочинения. Так, например, один из эпиграфов к пушкинскому роману «Арап Петра Великого» должен был быть следующим:
Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ.
Что любим днесь, то завтра ненавидим.
Об этом эпиграфе Лернер писал: «Что касается до другого эпиграфа, источник которого тоже не указан Пушкиным <…> то не принадлежат ли эти стихи самому Пушкину?» Как показал Тынянов, конечным результатом «нерешительного предположения» стало то, что эти стихи были внесены в Полное собрание сочинений Пушкина издания Брокгауза и Ефрона с примечанием: «Есть основания считать их принадлежащими Пушкину».
Для Тынянова точность формулировок и строгость научного исследования имели первостепенное значение. В своей полемической статье он обращался в первую очередь к тому, что он называл лернеровским «стилистическим приемом»: пушкинист утверждал, что эти стихи «величавы» и «достойны Пушкина». «Стихи, – отвечал Тынянов, – допустим, действительно величавы, но ведь не один Пушкин писал величавые стихи». И в качестве заключительного удара указывал настоящего автора эпиграфа: им был Кюхельбекер, опубликовавший эти строки в альманахе «Мнемозина» [Тынянов 1977: 83–84].
Таким образом, на уровне деталей Тынянов отвергал неточность языка и рекомендовал ученым принимать во внимание то, что может случиться с их, возможно, совершенно невинными конъектурами, когда к ним обратятся другие. Работая над этой статьей, он имел в виду и более широкую цель. Почему, спрашивал он, мы должны создавать «науку о Пушкине»? Может показаться, что будущему автору «научного романа» о Грибоедове следовало приветствовать появление научных дисциплин, посвященных Пушкину и Грибоедову. Но именно здесь мы наиболее отчетливо видим разницу в отношении к литературным деятелям Тынянова-ученого и Тынянова-писателя. Сам по себе поэт был интересным объектом для «воображаемого дискурса» (если воспользоваться термином Уайта). Но в науке о литературе Тынянов осуждал тех, кого личность создателя интересовала больше, чем его создания, кто предпочитал авторов их произведениям.
Тынянов считал «пушкиноведение» и «пушкиноведство» уродливыми выражениями, а «пушкинизм» – «совершенно невозможным». И это было частью более общей позиции: литературоведы должны изучать произведения, а не личности, «литературу», а не «литераторов». И так же горячо, как он выступал против «пушкинистики», так он ратовал и против изучения отдельных авторов и – шире – против основанной на текстологии псевдонауки о литературе. «Накопление материалов имеет определенную цель – литературное изучение, вне же этой цели оно превращается либо в кучу Плюшкина, либо, что еще хуже, в мертвые души Чичикова» [Тынянов 1977: 79]. В данном случае в статье «Мнимый Пушкин» Тынянов критиковал метод, который вскоре возьмет на вооружение Вересаев в книге «Пушкин в жизни». Ученый возражал: не все материалы и мнения имеют одну и ту же ценность, и если литературоведы оказываются не способны понять различия, то вся исследовательская литература становится бессмысленной и даже опасной. История литературы и литературоведение в целом, считал Тынянов, должно избегать «фетишизма», а в условиях 1920-х годов, когда на первый план выходила «пушкинистика», именно фетишизм и начал расцветать[40]40
В этом контексте особенно актуальными кажутся вопросы, поднятые С. Сандлер в ее «Воспоминаниях в Михайловском»: после Гражданской войны, когда в таких очагах культуры, как Михайловское, было утрачено
[Закрыть]. По мнению Тынянова, именно благодаря небрежным исследованиям и чрезмерному фетишизму и появился «мнимый Пушкин» – или даже «мнимые Пушкины». Не имевшие никакого отношения к Пушкину тексты, слова и мнения начали приписывать этому призраку, нечаянному созданию литературоведов. Тынянов категорически возражал против заблуждений, приводивших к появлению «мнимого Пушкина», и задавал литературоведам более высокие стандарты, требуя осознания того, что они обладают определенной властью, транслируемой через их статьи, доклады и книги. Читатели могут интерпретировать тексты как им нравится, но литературовед обязан проявлять в своей работе осторожность и осмотрительность в соответствии со строгими правилами профессиональной этики.
Представление о «мнимом Пушкине» позволяет понять суть расхождения между Тыняновым-ученым и Тыняновым-романистом. Через несколько лет после этой статьи он обратится к написанию художественной прозы и начнет создавать вымышленных героев на основе реальных биографий. Радикальность теоретических взглядов, заставлявшая Тынянова протестовать против «мнимого Пушкина», делала для него еще более трудной задачу создания вымышленного Пушкина. Если в литературоведении можно принять дополнительные меры предосторожности во избежание ошибочной атрибуции текстов или слишком вольного прочтения исследуемого автора, то у романиста нет иного выбора, кроме как сделать еще один шаг и, как говорил Тынянов, выйти «за пределы документа». Следовательно, вымышленный характер – если мы относимся к нему со всей строгостью – должен обладать чертами если не полностью совпадающими, то сходными с характеристиками «мнимой» исторической фигуры в литературоведении. Похоже, что опыт прозаика не позволяет следовать строгим тыняновским правилам о том, как можно и как нельзя обращаться с писателями прошлого.
большинство подлинных вещей и даже природных объектов, начала распространяться традиция почитания «пушкинских мест» как своего рода форма ландшафтного фетишизма. См. [Sandler 1992а].
Здесь, однако, Тынянов (а также многие его исследователи) мог бы заметить, что писатель обладает тем, чего нет у ученого: правом и возможностью строить предположения[41]41
Характерно, что в русском языке, помимо термина «конъектура» и понятия «предположение», есть еще и «домысел». Тынянов, придерживавшийся строгих правил по отношению к другим и самому себе в науке, допускал в художественных текстах творческие истолкования.
[Закрыть]. Читатель обязан знать правила жанра, к которому принадлежит произведение; однако те ожидания, которые относятся к научной статье, нерелевантны для художественной литературы. Это может показаться мелочью, однако Тынянову такое различие представлялось крайне важным, оно позволяло ему воплотить в художественных образах свое инстинктивное отношение к литературным и историческим явлениям пушкинской эпохи. В XIX веке А. де Виньи различал le vrai du Fait (правду факта) и la verite de I’Art (истину искусства), указывая, что в историческом романе высшая правда может быть достигнута приукрашиванием «правдивых» исторических свидетельств. Как бы мы ни трактовали художественную правду – в понятиях, предложенных Уайтом, или в романтических терминах де Виньи, – относительность правды в исторической науке и в художественной литературе предоставила Тынянову необходимую возможность «воплотить» биографии реальных лиц[42]42
Д. Унгуряну предложил термин «двоеправдие» для обсуждения правды факта и правды исторического воображения в историческом романе эпохи романтизма [Ungurianu 1998: 386–389].
[Закрыть]. Научная и литературная правда составляли для него непрерывный континуум. Он был строг в отношении границ научной истины, но, когда не мог что-либо доказать в этих границах, переходил к прозе – в область «литературной истины».
Произведения Тынянова традиционно воспринимаются как диалогически обращенные друг к другу. Знаменитая история о рождении романа о Кюхельбекере, рассказанная Чуковским, указывает на возможность взаимной пользы между рассказыванием истории и ее критическим анализом. Как уже отмечалось в предыдущей главе, сам Тынянов утверждал: «Где кончается документ, там я начинаю», признавая тем самым тесную связь между историческим исследованием и сочинением художественной литературы. Тынянову ставили в упрек, что он написал «Пушкина», прежде всего стремясь доказать в прозе те предположения, которые он не мог доказать в научных работах: например, идею о том, что Е. А. Карамзина была «тайной любовью» Пушкина в лицейские годы. По мнению советского ученого Н. В. Измайлова, Тынянов не доказал, а просто выдвинул эту гипотезу в статье «Безыменная любовь», использовав, таким образом, научную работу в качестве места для разработки теорий, которые планировал включить в роман [Измайлов 1960: 18]. Другими словами, Измайлов – а за ним и другие ученые – предполагал, что Тынянов смешивает жанры, путая, когда какие правила следует применять. В качестве доказательства теории жанра биографии и научного исследования как автобиографии Н. К. Чуковский вспоминал, что Тынянов рассказывал ему историю любви Пушкина к Карамзиной еще в 1920-е годы, за два десятилетия до написания и статьи, и романа. Чуковский замечал, что «Юрий Николаевич так часто рассказывал эту историю, так ею волновался, что невольно приходило на ум, что история эта связана для него с чем-то личным, своим собственным…» [Чуковский Н. 1966:288].
Таким образом, согласно Измайлову, Тынянов начал смешивать жанры, используя свои научные работы как пробы для написания прозы; по мысли Н. К. Чуковского, Тынянов интерпретировал события из жизни Пушкина, проецируя их на собственный жизненный опыт и на почерпнутое из него понимание человеческой психологии. По мнению Эйхенбаума, тыняновские «научные романы» выражали фундаментальное единство разных ипостасей их автора – историка и теоретика литературы, критика и прозаика. Как писал Эйхенбаум, «эти области творчества не просто сосуществуют у него, а взаимно питают и поддерживают друг друга. В таком виде это явление новое и, очевидно, не случайное» [Эйхенбаум 1986:187][43]43
Вахтель идет дальше и интерпретирует «двух Тыняновых» в рассказе Чуковского как своего рода доктора Джекилла и мистера Хайда [Wachtel 1994: 180–181]. Гринлиф предположила, что тыняновская статья «Безыменная любовь» и роман «Пушкин» можно «рассматривать как попытку “читать между документами”, заполняя пробелы, оставляемые историей» [Greenleaf 1992: 287].
[Закрыть]. Все мнения имеют право на существование и при этом не противоречат друг другу Тынянов действительно использовал собственные представления о человеческой природе при создании вымышленных персонажей и в своих попытках понять историю литературы и личность писателя. Некоторые из этих представлений совершенно определенно восходят к его жизненному опыту и к его знаниям ученого. Здесь, как и в романе «Смерть Вазир-Мухтара», Тынянов обращался к науке для создания характеров и при этом использовал материал одного жанра – научной работы и исторического исследования – в качестве источника для написания произведения другого жанра – художественной прозы. Если до обращения к писательству Тынянов значительно строже относился к проблеме межжанровых границ, то в последние годы жизни его больше интересовал вопрос, как понять характеры своих героев и достичь «подлинной правды» в изображении Пушкина и его современников.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?