Текст книги "Профессор риторики"
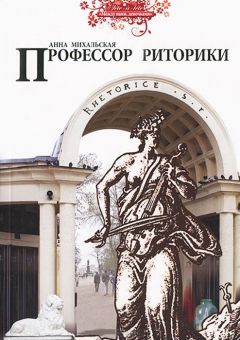
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Листок из потерянной записной книжки
«Жизнь моя на обочине жизни проросла в переулочке тихом и приникла к печальной отчизне всей любовью, напоенной лихом. Силы сорного семени дики, корни цепки и узы бессрочны… Только города милые лики оказались, как камни, непрочны. На закате пустыми глазами смотрит город на запад, на запад… Заревое холодное пламя ловят окна, но время внезапно покидает былые пределы. Словно птица, снимается с места: покружила – и вдаль полетела, и растаяла в круге небесном».
Комментарий биографа
Вот ведь как способно вести себя время – время-птица, крылатое время… Такой любовью люби не люби, а никого не удержишь. Даже человека. В сущности, и не любовь это вовсе. А тоска. Заметьте, как о ней сказано: «любовь, напоенная лихом»…
Любопытно и еще одно наблюдение моего учителя о свойствах времени. Как и многие его мысли, ни подтверждения, ни опровержения оно не нашло. Да и не найдет уже, пожалуй. Слишком уж странно все это выглядит. И, я бы сказал, неактуально. Завораживает, однако. Судите сами.
Лист формата А-4 (на других профессор с некоторых пор не писал – говорил, что должен чувствовать пространство)
«Я буду ждать под старой желтой аркой на площади Мгновения. Но помни: настал июнь, и в переулках жарко, и тяжко дышит златом дом огромный, безбожником построенный для Бога на месте том, где зла скопилось много… Как ветер пух поднимет тополиный – в ночи короткой рык услышишь львиный: два белых льва и сонмы львов крылатых – со врат чертогов, некогда богатых, – пойдут бродить по улице Пречистой, взлетят к луне в ее покрове мглистом. И черные четыре льва воспрянут, и от поэта пленного отпрянут – пойдут к реке воды ночной напиться, вдоль по бульвару грозной вереницей… Но что до них, когда в ответ – ни слова. Июнь уходит и приходит снова. Пустынна площадь города немого – мгновенье в вечность обратить готова».
А теперь и я со своим пояснением, если позволите. Не о реальной топографии, конечно – она прозрачна. Желтая арка, непостижимым образом пока не снесенная, – у метро Кропоткинская. Два белых льва – те цари зверей, что картинно возлежат у врат науки, а именно: в завитках обильных грив сторожат вход в Дом ученых. Профессор состоял некогда членом этого клуба прежней элиты, но в самом начале Эпохи перемен, когда на профессорскую зарплату можно было купить разве что десяток бутылок водки, взносы платить перестал. Пленный поэт – Гоголь. Печальная узкая фигура на другом конце бульвара, спиной к реке и храму. Лицом к задумчивому Пушкину: Суворовский бульвар, Тверской – а между двумя бульварами и двумя поэтами – столь же узкий и тоже какой-то невеселый Тимирязев. Зачем он там? Почему? Неведомо.
Так вот, о некоем свойстве любви, мерцающей на темных небесах этого текста. Кажется, она способна накапливаться. Аккумулироваться, как при зарядке батареи. Это происходит там, где мгновения постоянно растягиваются, где влюбленные назначают встречи.
И ждут. Многократные растяжения даром не проходят. Это как связки. А заряд любви в таких местах необычно велик, так что и время там не просто витает, а останавливается навеки. Или, по крайней мере, присматривается: не задержаться ли?
А пока любовь собирается в небесах над городом. Проносится ветром где-то в вышних, а может быть, и в вешних, и вдруг расширившиеся ноздри трепещут, как от запаха дождя.
Пожелтевший листок, занесенный за наше пианино – J.T.Muller, Dresden, 1872, черное и молчаливое, как время, заброшенный между инструментом и стеной ветром какой-то давно прошедшей осени, каким-то плюсквамперфектом прошлого
«Есть что-то в воздухе… Дома стоят немые. Где трещины в асфальте, как живые, росли и старились, – там линии прямые. Но что-то в воздухе… За стеклами застыли манекены – они пришли, как вечность, нам на смену. Но что-то в воздухе… Съедобные фантомы из бывшего выносят гастронома. И нет на улице ни ясеней, ни вязов… Так что же в воздухе такой знакомой фразой поет в ветвях исчезнувших деревьев, звенит в разлете голубиных перьев?»
Комментарий биографа
Да, это она. Любовь. Но не везде слышна, не везде. А листок с летящими строчками – чуть вверх у края, черные чернила, а может, шариковая ручка – я в этих древностях не разбираюсь – листок я почему-то спрятал. Открыл пианино, разжал пальцы – и он скользнул вниз, в черный деревянный короб, и улегся на струны, в темноте проблескивающие золотом, на странные молоточки – весь этот волшебный механизм дремлющей, но живой музыки.
И еще один рассказ профессора. О другой желтой арке. Да, была и вторая. А может быть, следует предположить, что в нашем городе – тогда еще не мегаполисе – прежде желтые арки возникали везде, где любви было так много, что там свивала себе гнездо птица времени.
Листок из ученической тетради в клетку (по-видимому, из очень ранних)
«В старом зоопарке – деревянный терем. Вход под желтой аркой. Терпкий запах зверя – аммиак и мускус… И решетки грубы. А проходы узки. Жарко греют трубы… Рядом, хоть потрогай, – теплый бок нильгау. На табличке строгой сказано: туда вам лучше не соваться… И еще – что в прошлом вам нельзя остаться».
Комментарий биографа
Ну, нельзя так нельзя. Нильгау – антилопа Boselaphus tragocamelus, живет в Индии.
Как ни странно, я ее тоже помню. Неужели ту самую – и если так, вечную, как беременная гиена в темном помещении для таинственно вонючих хищников? Карий, почти черный огромный глаз с поволокой, из-под печальных густых ресниц невольницы. Кроткие, короткие движения узницы за толстыми прутьями. Бархатный нос. Подрагивающее ухо. Не знаю, как эта восточная красавица выглядела целиком. Я ведь смотрел на нее дитятей. Но желтой арки тогда уже не было. Мою коляску вкатывали в зоопарк между двумя серыми от городской копоти гипсовыми стенами, на поверхности которых проступали огромные и неживые силуэты: бородатый лось, белый медведь, морж на льдине…
Не то поражает, что любовь останавливала время. Она и сейчас это делает. Что же тут удивительного, и примеров тому легион. Да вот вам один на первый случай. Привожу целиком и без изменений текст, присланный мне китайским другом по электронке. Проверял почту вчера вечером – и вот, пожалуйста[9]9
Перевод мой – биограф.
[Закрыть]:
Е-mail из города Бейджин (от далекого друга, с моим пояснением)
«Пусть ударил впервые мороз – но вокруг эта сладкая тишь: солнце, и ничего, кроме солнца. Пусть назавтра и пруд занесет, но сегодня он – небо без дна: солнце, и ничего, кроме солнца! Пусть в ветвях словно спицы звенят – но синицы не старше листа. Лист сияет, и тот – только солнце. Даже лист пусть еще не упал – в новой почке таится весна: солнце, и ничего, кроме солнца! И все та же вода под мостом, хоть и много ее утекло: солнце в этой воде, только солнце! Опусти в нее руку – и вновь будет сердца форель трепетать и заискрится радугой брызг – словно солнце… Так бамбук переливчато пел, чтоб флейтисту увидеть в ночи солнце – и ничего, кроме солнца!»
Здесь солнце – это любовь, конечно. Не обижайтесь на мои постоянные пояснения, быть может, неуместные. Я ведь преподаватель – начинающий, а потому ретивый. Так люблю своих студентов! Эту милую, трогательную стайку. Китайцы, тайванец, иранец и иранка, две немки, и даже русские есть. Так хочется все объяснить. Третьего дня спросили меня, действительно ли Иисус Христос ходил по воде, или это людям только показалось. Ну, как вам нравится! А сами так и ходят за мной.
Из того, что написали для меня китайские друзья, выберу еще один аргумент. Здесь любовь останавливает время, обращая его в камень. Камень прославленной в веках башни. Тоже способ, должен вам заметить… Вот как это было сделано:
E-mail из общежития мгу послание китайских студентов русскому преподавателю (мне, и с моими комментариями)
«Он ходил над рекой и рассчитывал судьбы и дни, сопрягая размеры камней, числа жизни, рассветы, закаты… Над рекой он построил помост, пил вино, и закатов огни измерял и вносил в чертежи, наблюдая за небом крылатым…
И вот какая башня у зодчего получилась (а был он, конечно, влюблен – влюблен страстно. Быть может, любил. Да, любил. Я неверно выразился, извините. Непростительная оговорка):
Медь на шпиле еще зеленей, чем священный нефрит, выше – флюгер ажурный, дракону подобный, парит.
Только взглянешь – и снова несется навстречу весна, от которой тот зодчий томился ночами без сна… Только взглянешь – и вспомнишь: во всей Поднебесной одна эта башня: ведь чашу недаром испил он до дна… Эта башня, лазурь над которой ясна и чиста: только взглянешь – и вспомнишь, как жизнь коротка и проста».
Да, другой такой нет во всей Поднебесной. Это правда. Я был там как-то проездом и могу подтвердить: все точно так, как сказано. И над этой странной постройкой небо всегда голубое. Даже в самый сильный дождь. Даже в снег. Даже ночью.
E-mail в общежитие МГУ
(Ответ русского преподавателя китайскому студенту, тоже с моим пояснением)
«У меня в корзинке есть лягушка – зелена, как свежий лист весенний. Приходи под вечер, чтоб послушать тихий звук ее сухого пенья. Жду себя к обеду. Приглашаю и тебя явиться к угощенью. Сладких блюд теперь не разрешаю, но и ты не склонен к попущенью. Мы не дети. Строгость – признак мужа. Первый шаг его к вершинам чистым. Если с другом мы разделим ужин – будет верным путь в горах скалистых».
И вот почему написал такое. Сдержанность. Мера. Строгость. Вот наш долг и наше назначение. Любовь? Да, зодчего она посетила. Именно она. Но не забудем, что башня-то одна на всю Поднебесную. А кидаться в погоню за любым миражом – значит упустить вечность. Есть и иные пути. Нет, не в обход любви, конечно. Стремящийся к вечности ее не минует, и помимо нее нет дороги к истине. Но вот чему я хочу научить вверенных и вверившихся мне птенчиков. Много званых, да мало избранных. И вряд ли стоит ждать от нее, такой своенравной, такой переменчивой, особой для себя милости. Будем терпеливы. Напомню: quivis doloris remedium patientia est[10]10
Все печали излечивает терпение.
[Закрыть]. И трудолюбивы – трудолюбивы непреклонно. Тернист и узок путь к знанию. Но с каждой ступенью ввысь мы все ближе к сияющему небу – небу любви. К тому, что над башней. К той лазури, что и тучам затянуть не под силу. К небу вечности. И вот что еще я привел в доказательство – привел как пример, привел как образец:
Еще один e-mail в общежитие МГУ: (русский преподаватель – китайским студентам)
[11]11
Этот и последующие документы я также сопровождаю своими рас суждениями
[Закрыть]
«Я отныне шага не ускорю. Я не мул, а время – не погонщик. Путь лежит туда, где на просторе жизнь течет иначе, но не проще. Я увижу: мох встает примятый, на следу медвежьем поднимаясь: значит, только-только брат лохматый здесь прошел, неспешно удаляясь. Высоко идти до этой встречи, прежде чем на землю опуститься, – выше, чем парят над снегом птицы, выше, чем летят Дорогой Млечной… Я отправлюсь Верхними Путями, сквозь туман абстрактных категорий, и концептов цепкими сетями душу зверя обойму, и вскоре след увижу на земной дороге – темный след на моховом болоте. И пойму: дошел. Я на пороге. Флейта пусть звучит на этой ноте».
(Видите, стараюсь излагать свои поучения в образной системе, близкой адресату, – именно так, как учил мой профессор: платье должно быть сшито по мерке заказчика. Китайцы, иранцы, тайванец не останутся равнодушными. Русские? Ну, они, как известно, всечеловечны. Или были такими в предыдущей вселенной, читайте Достоевского. Что же здесь и теперь? Бесчеловечны?)
Да, можно действовать и так. Все уверенней достигать тех разновидностей любви, что способны останавливать время, претворяя его в вечность. Это путь науки – забытая, заброшенная, плевелами зарастающая тропа. Так, пройдет изредка мул под одиноким седоком, оборвет несколько колючек, проторит путь к высотам – и снова тишь. Но нет – не дадим заглохнуть. Пусть не у себя – так хоть в Китае… Но я снова отвлекся.
Итак, повторяю, не то удивительно, что способна любовь уловить и удержать время. Это мы знаем, за это и хвалу воздаем – ей, всесильной, ей, раздирающей сердце куда беспощадней, чем орел – Прометееву печень.
Странно другое: едва успев добиться своего, она ускользает. Орел был куда жалостливей – приучил к мученьям, но не бросил. А что чувствует внезапно оставленный любовью – и ведь умеет же она внушить, что оставляет навсегда, хоть к чувствительному сердцу вернется, вернется непременно! Вот что говорил об этих особых ощущениях мой учитель, повествуя о них в диатрибе – воображаемом диалоге. В нем Весна беседует с Ритором – жертвой любви, столь высоко его вознесшей, что падать было не просто больно:
Листок, вложенный в «Книгу о вкусной и здоровой пище» (М., 1952)
«– Сух порох прошлого в моих пороховницах, – сказала мне Весна, пронзая прах травы зеленой щеткой стрел и сполохом зарницы грозя спалить разлив вечерней синевы…
– Все выжжено дотла – что мне огонь небесный? Все выпито до дна – что новая весна, сирени облака, и гром, и луч отвесный в прорыве черных туч, и ночь в полях без сна?»
Так отвечает Ритор. Видите? Пустыня. А вот и еще свидетельство, причем такое, что может с успехом дополнить нашу МЕТАФИЗИКУ любви ее ОНТОЛОГИЕЙ, поскольку речь в нем идет о веществе любви и тех четырех стихиях, из которых она способна это вещество черпать. Текст, безусловно, из ранних, однако его очевидная наивность не должна вас смутить. Скорее она проясняет дело, безнадежно впоследствии запутанное:
Листок А-4, сложенный пополам и найденный среди копий диплома доктора наук (в моем перечне назван «онтология любви»)
«Я помню туфельку и ногу на траве, над ней – цветы моей широкой юбки. Я помню вешний шум, и ветер в голове, и аромат ночной фиалки-любки… Но я не помню вещества любви: была она огнем или водою, землей иль воздухом? Гормонами в крови иль бредом и фантазией пустою? Я помню что-то, что сжигало в прах, что заставляло петь и задыхаться, захлебываться, виться в облаках – и, оземь грянув, насмерть расшибаться… Вот туфелька, вот горсть песка в руке. Как год назад, цветы на юбке ярки… Огонь не жжет. Тиха вода в реке, а птица в воздухе. И день такой нежаркий…»
Вот вам и онтология. Алхимия какая-то эта любовь. Философский камень. Все – золото, все – солнце, все – свет и жизнь. Время – вечность. Но вот только сама материя жизни этого не выдерживает и расползается прямо в руках. В прах и тлен…
Но постойте! Ведь наша цель – похвала, а предмет – любовь, время в вечность претворяющая. А вовсе не бытие с его четырьмя стихиями и материей. Пусть себе расползается. Нам-то какое дело? Отношения материи и смысла в этой части рассуждения вовсе не наша рогатива, как говорил один доктор филологии. Они, эти отношения, и сами по себе настолько сложны, что должны составить предмет отдельной хрии.
Вернемся лучше к предыстории. Если помните, первой в ряду ситуаций, предваряющих историю, которую я должен поведать в этом своем слове, слове обетованном, то есть по обету сказанном, обещанном мною учителю, – первой была ситуация с муравьем. Из нее, как мне кажется, и проросли все прочие.
Но вот и вторая. Дитя, чей зрачок, суженный взглядом на солнце в черную точку и соединившийся с черным муравьем Lasius niger посредством космического созерцательного напряжения, сидело на нагретом пригорке у Новинской женской тюрьмы в одиночестве. И это одиночество не было случайным. Неслучайным было и созерцание, и… Ах! Как же я мог так ошибиться! Непростительно, позорно, постыдно… Нарушена логика развития событий, неверно применен ситуативно-исторический метод – плод любви моего отца.
Ну конечно же! Первой по праву должна идти вовсе не история о муравье. Это событие зарождения любви, потому она сперва и показалась мне истоком, исходом, почкой, выстреливающей зеленым побегом в весеннее небо вечности.
Но нет, нет! Трижды нет! Есть еще одна история, она-то и будет начальной. Событию с муравьем, то есть рождению любви, предшествовало нечто совсем иного, противоположного свойства. Дитя сидело в одиночестве, с непокрытой головой, у стен тюрьмы, разглядывая траву у себя под ногами и тоскуя по вполне определенной и одной-единственной причине. Оно было брошено.
Да, все как у всех: родители развелись. Но присутствовало и нечто необычное. При этом погибла любовь. Нет, не то чувство, что некогда связывало отца и мать. Это умирало постепенно, как исчезает в темной норе крысиный хвост. Я имею в виду любовь, да, именно ее.
Впрочем, может быть, и тут я снова ошибся. Любовь ребенка к отцу не погибла – но изменилась, изменилась неузнаваемо, претворившись в страдание. Страдание было такой силы, такого напряжения, такого невыносимо яркого белого каления, что легко переплавилось под солнцем весеннего полдня в космическую дугу созерцания. Так родилась, так вылупилась на свет, как зеленый побег из почки, история с муравьем.
Ну вот, теперь, кажется, все верно. В подтверждение приведу текст, записанный со слов моего профессора совсем недавно. Была у нас одна беседа этой весной – вечером, когда угасло наконец опаловое свечение дождливого дня и на душе все стало постепенно устраиваться, успокаиваться и вот наконец улеглось. Так, то взъерошивая, то укладывая оперение, затихает в сумерках птица. Но вот с учителем творилось что-то неладное. Теперь-то я знаю, что. Но тогда, увы, и это было тайной. Правда, для меня все вообще таинственно. И мне это нравится. Не было бы такой радости откровений – счастья открытий, что дается мне в иной день испытать не однажды.
Началось, как обычно, со слез. Неожиданных, необъяснимых и бурных. Я сел рядом, обнял за плечи. Кости были тонкие и легкие, будто рядом сидел с опущенными крыльями ангел. Плечи вздрагивали, поднимаясь и опускаясь, и мне показалось – вот улетит. Последовал один из тех бессвязных разговоров, с помощью которых люди пытаются утешить друг друга. Потом все понемногу стихло – движения плеч, слезы, слова. Настал наконец покой. Я успел вовремя – включил незаметно диктофон на своем мобильнике: не раз уж бывало, что в таких обстоятельствах удавалось услышать что-то прекрасное, почти неуловимое, такое, что вспомнить и восстановить потом трудно, если не невозможно. И не ошибся.
Расшифровка диктофонной записи:
«Роща в тумане росистом дождливого дня. Соки несутся по жилам растений ручьями. И голубеет трава, и черемуха манит меня, будто забыв, сколько весен таких за плечами. Будто забыв, что настанет иная пора: липы стряхнут, словно пчел, свой убор драгоценный, встанут аллеями – в бархате черном кора, алый закат заливает холодную сцену.
(а вот дальше – внимание – разгадка всего)
Отче, я знаю, ты создал и бросил меня, чтобы отца на земле я искала напрасно. Я не нашла его в сумерках дольнего дня. Но и к тебе не вернусь в одиночестве страстном».
Вот в чем тут дело. Ну что ж. Такая судьба. Вот ее узор: любовь – страдание – любовь… Далее то же. Это как товар – деньги – товар… Но вот где-то в этой цепи появляется божественный Логос. Где? Ах, знаю. До начала всего. Он и есть тот порождающий закон, тот принцип, что создал и определил все. Но, как и всякий принцип, до времени не заметен.
И тогда, все так же сидя рядом со своим профессором, я подумал:
«Ангел – это значит просто вестник. Потому глаза его печальны, что чужою переполнен песней – он, чужого голоса посланник.
(Записывая эти строки, я колеблюсь: чужого – голоса? Логоса? Да и чужого ли? Может, просто – иного?) Но продолжу:
Радостно свистят цветные птицы под рукою неба всеблагого. Но молчат отверстые зеницы и уста, замкнутые глаголом. Только крыл пресветлых дуновенье, только шепот, шорох, шелест перьев. Скорбный взор. Невидное движенье. Вздох усталый тяжкого неверья».
Да, ангел. Узкие лопатки недоуменно приподняты – тонкие и легкие, почти крылья. Да, вестник. Форма, отлитая для себя божественным смыслом – Логосом. Головка на длинной шее клонится к плечу, руки сложены так бессильно, будто они и вовсе ни к чему. И лицо. Однако ангелы все – воплощенная молодость, даже не стремящаяся к своему пределу – зрелости. Этот же иной, словно путешественник после странствий – дальних, слишком дальних. Молодо выглядит, хорошо сохранился – но нездешним опален солнцем, неузнаваем. Да и кому узнавать? Кто умер, кто убит, а кто и уехал. Из уехавших, кстати, назад никто не вернулся. И вряд ли это случайно.
А вот мы вернемся. К похвале – любовь требует.
Биограф о тайнах любви
Недавно, месяц-полтора назад, в то время, когда в прежней вселенной завершалась пора таяния снега, я устал от работы и осмелился выйти из своей кельи – каменной ячейки в серой твердыне биофака. Чувствовал я, что нуждаюсь в долгой прогулке, и повернул налево, вдоль по гребню Воробьевых гор, все еще лесистому. Ветви берез и лип, из-за автомобильных миазмов беззащитные перед грибком, безобразно искривлялись и скручивались, как ведьмины метлы.
Но неторопливо, глядя то вниз, в чашу города, накрытую голубой кисеей ядовитого дыма на другом берегу Москвы-реки, то вверх, в небо, как всегда плотно задернутое завесой тяжелых туч, я миновал панораму напротив Главного здания и трамплин, миновал и другие прекрасные пространства и вошел наконец в аллеи Нескучного сада.
Смеркалось. Усталость напомнила мне о возрасте – моем, моем и вполне преклонном. Шутка ли – почти тридцать. Скоро конец. Но что я знаю о любви, – подумал я, – что я знаю о ней не с чужих слов и не из книг, а сам, я сам, – что я знаю о ней такого, чтобы и свой голос присоединить к таинственному слову певчего дрозда, к ликующим беспорядочным от счастья кликам зарянки, к звонким отрывистым свистам большой синицы, неустанно посылающей свои страстные эсэмэски, к скромной переливчатой трельке лазоревки? Что?
И тут внутри меня прозвучал тихий, но отчетливый ответ. Некоторое время спустя оказалось, что это был не только ответ. Скорее – пророчество. Потому позволю себе привести текст полностью:
«Прозрачная весна, и снегом пахнут лужи, и под ногою кромка льдистых кружев…В темнеющем саду не статуя нагая – свой лик любовь явила мне благая».
(И действительно, что это там, впереди, – такое светлое в темных купах влажных жимолостей и боярышников? Не моя ли студентка Лика, которую я только что утомительно уговаривал не бросаться с плоской крыши биофака, куда привело ее разбитое мною сердце? Не в ее ли сумасбродную голову взбрела теперь идея раздеться в кустах и обернуться для меня Афродитой или Артемидой, раня свою нежную девичью плоть острыми, черными от влаги шипами боярышника? Нет. Не она. Но и не статуя – давно нет тут, в Нескучном, никаких статуй… Нет? Ну так что же это?) Но голос продолжал:
«Зеленая весна трубит раскат громовый, в саду сирени сумрачно-лиловы, трепещет молния и, в небесах сверкая, второй являет лик любовь благая».
(О! – подумал я с некоторым облегчением. – Значит, Ликой дело не кончится!) Но голос пел, становясь все требовательней, взлетая все выше… Так, верно, могла бы петь птица Сирин):
«Гроза прошла, в саду пусты аллеи, и мрамор статуи на зелени белеет. И я провижу, сердце напрягая, твой лик последний, о любовь благая!»
Голос смолк, взвившись к голым ветвям черных лип Нескучного сада, и я остался в аллее один – обдумывать пророчество. В том, что это было именно оно, сомнений уже не оставалось. Я давно научился чувствовать такие вещи. Странно было другое, и мне снова пришлось заняться экзегезой.
По правилам риторическим, в развертывании частей текста должна быть некая смысловая последовательность – некий принцип. Начало повествует о ранней весне – вот как сейчас. Повествует о настоящем. Что у меня в настоящем? Лика не в счет. Но верно ли? Так или иначе, любовь обещана, и явления ее следует ждать со дня на день, с минуты на минуту… И идет, приближается, даруется мне любовь истинная, иначе как могла пророческая птица назвать ее благой? Неужто и моя пора пришла наконец…
Во второй части время меняется. Зеленая весна… Почти лето. Это ли, следующее? Сколько зим отделяет меня от лета второй любви? Неведомо. Но время идет, и пейзаж любви приобретает черты ему согласно. Согласно канону – и времени, и риторики. Вместе с тем речь идет все-таки о весне… Зеленая весна…
Но вот далее… Последняя часть уж вовсе удивляет. Логично было бы ожидать в этой позиции осень. Старость. Но – парадокс! Время вообще перестает двигаться. Что его остановило? Любовь? Ведь только она на это способна, как мы видели и как утверждаем. Но что это за третья любовь, она же последняя? И тоже летняя? Даже весенняя? А, не доживу до старости… Ну, с этим я давно, как вы видели, смирился. Согласен.
Возможен и другой способ экзегезы, вполне банальный. Толкуем так: любовь – весна жизни, какой бы реальный возраст собой ни одарила. Но тогда откуда легкий временной сдвиг между первой и второй частями? Прозрачная весна – зеленая весна… Загадка. Пропела мне все это, видно, не птица Сирин, а Сивилла Кумская.
Я устал. Но, веря в пророчества, не склонен упрощать провидческие тексты. Пусть себе пребывают в своем надменном молчании.
Размышляя так, я прошел всю Большую Пироговскую и оказался там, где, раздваиваясь, она отделяет от себя тихую провинциальную Плющиху. И вдруг почему-то обернулся.
Там, за спиной, в перламутровом тумане светились купола Смоленского собора Новодевичьего монастыря, высокими облаками клубясь под низким небом. Рядом возносилась чудная сквозная башня кирпично-белой колокольни. Казалось, она чуть клонится над темной монастырской стеной. Над головой просвистели крылья. Пара крякв пронеслась к прудам, рассекая воздух. Сколько сил, сколько же сил в этих крыльях любви, – подумал я устало. У меня, пожалуй, и толики не найдется. И, повернувшись спиной к Новодевичьему с его куполами и колокольней, спиной к прудам, кипевшим от жара утиных свадеб, побрел себе прямой дорогой к дому.
Домой, домой! Вступаю на Плющиху. На углу две девушки – и какой красоты! Особенно та, что стоит вполоборота. Волосы цвета сухой шелковистой древесины. Ноги волшебной длины. Боже, как изящна! К ней склонилась ее подруга, лица ее тоже не видно за завесой волос. Как сестры: тонки и в чем-то бежево-сером. Обе так увлечены разговором, что почти неподвижны. Нет, удивительно неподвижны! Вовсе неподвижны… Да это два тополя рядом! С одного кора содрана грубо. Обнажилось дерево. Эту полосу я и принял за поток светлых волос. Как много коры сорвано… Наверное, каким-то джипом. О, вот и веночек на соседнем столбе: маленький, но нескромный. Все погибли?
Два тополя на Плющихе стоят тихо, недвижно.
Ну, я наконец дома и ложусь. «Коснулось что-то тела моего: пижамка это, лучший друг его», – вспомнил я детскую свою фразу – любимую вечернюю фразу, ту, что и по сей день повторяю, ныряя в постель после душа.
Закрываю глаза. Нет, что-то осталось недосказанным. Не на все хватило сил в этой части моего рассуждения – части первой, похвальной.
По совести и долгу, нужно бы заключить все это размышлением об именах. Ну, попробую. Свое – Николай, «победитель народов», обсуждать и не пристало, и бессмысленно. Совершенный абсурд и нонсенс. Даже имя профессора не раскрою. Иначе на главные имена времени не хватит. А главные все же – любовь и время. Приступим.
Последняя экзегеза, последнее толкование – и спать!
Любовь – слово индоевропейского происхождения. Сравним древнеиндийское lubhyati – «желает», lobhas – «желание, жажда»; древневерхненемецкое – lob – «хвала», готское lubains – «надежда» и «вера», наконец, небезызвестное латинское libido, которое, кстати, может звучать и lubido – страстное желание. Итак, вот перечень смыслов: выбор, желанье и жажда; хвала, надежда и вера. (Жажду, как метафору желанья, исключаем.)
Нет, вы представляете, что сейчас перед нами?
Тайна любви. Пять ее оснований сокрытых. Выбор, желанье, хвала, надежда и вера. Только такую любовь вправе назвать мы благою.
Время – корень тоже индоевропейский, общий для всех языков этой семьи. Родственно древнеиндийскому vartma – колея, рытвина, желоб, дорога. Vart – вертеться, кружиться. Кружатся, вертятся колеса, выбивая в пыли колею, – вот и дорога, вот и путь, вот и жизнь.
Что же, и здесь мы нашли то, чего прежде не знали: круг превращается в путь, и, размыкая ошейник, медный ошейник раба, мы получаем прямую. Прямую дорогу. Прямую, как стрела. Да, как стрела, жалит и жжет любовь.
Но не меня! Пока еще не меня, слава богу!
И, обхватив свои плечи, укрытые на ночь пижамкой, с сознанием исполненного долга я заснул, завершив похвалу – первую часть обетованного рассуждения. Рассуждения, предваряющего рассказ.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































