Текст книги "Профессор риторики"
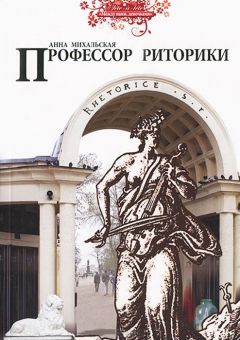
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Комментарий и повествование биографа (четвертая идея спасения)
На этом файл кончился. Продолжения я не нашел, потому беру его на себя.
Я смотрел из окна. Из-под Бородинского моста, казалось, прямо у меня под ногами, текла к Воробьевым горам Москва-река. Вода в гранитных берегах лежала тяжело, словно олово, которое я плавил недавно, отливая в ложке блесну на щуку в тщетной надежде хоть однажды поймать большую рыбу в Истре.
Холодный день. Но погожий. Направо, за пологой аркой моста метро, над серыми быками моста Калининского, возвышалось то страшное, что осталось после штурма Белого дома. Белым он был на три нижние четверти, а выше – черным. Да и белая часть посерела, а все верхние этажи чернели, как сажа. Они и были в саже. Я помню, как весело вилось, выплескиваясь из окон, оранжевое пламя, как резво оно бушевало, охватывая легкомысленную башенку с российским триколором.
Ведь всего две недели назад я точно так же стоял у окна и смотрел, как мой отец пружинистым шагом путешественника уходит по Бородинскому мосту все дальше и дальше, как его фигурка под гнетом громадного рюкзака исчезает между другими муравьями на площади, под простертыми крылами черных орлов на башне Киевского вокзала. Он уезжал в Монголию.
– Что это вертолеты кружат? – спросила его профессор, когда мы пили чай перед расставанием.
– А, – отвечал путешественник, уже отмытый в ванной и переодетый в чистое. – Не бери в голову. Они теперь все время так.
– Послушай, тебе не кажется, что стреляют? – снова спросила мать, когда мы присели на дорожку.
Мы разом, как полагается, встали, отец подошел к окну, выглянул и повернулся к двери.
– Ерунда какая, – торопливо проговорил он, целуя меня на прощанье. – Не выдумывай. Вечно тебе всякая чушь мерещится.
И дверь за ним захлопнулась. С набережной явственно доносился треск очередей. Зазвонил телефон.
– Объявлено чрезвычайное положение, – голосом старого гриба, расплывающегося в лужу слизи, поведала учительница математики, подруга той злобной карлицы, что в начальных классах била меня головой о доску. – Занятий не будет.
Но отец, пригибаясь под рюкзаком и не оглядывась, все же добрался до метро. Во всяком случае, назад он тогда не вернулся. Вернулся как смог – с полдороги, через неделю, и как раз поспел к выкапыванью банки.
– Так, – сказала профессор, – ты мне поможешь складывать вещи.
Я отошел от окна и оглядел пустую комнату. Не то чтобы пустую – вдоль стен громоздились связки книг и картонные коробки с пожитками. Одиноко чернело фортепьяно – старинный немецкий инструмент. Сколько и каких переездов довелось ему видеть за полторы сотни лет? Пока я не выучился играть на нем «Green sleeves»[23]23
«Зеленые рукава» – средневековая английская баллада, теперь популярная народная песня.
[Закрыть]?
Грузовое такси с грузчиками заказано было на сегодня. Мы переезжали на новую квартиру. Вернее, на старую новую квартиру. Новую для нас. Старую для отцова друга. Он сдал нам ее, она у него оказалась лишняя.
Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые… Вот мы с профессором, например. Но еще счастливей тот, у кого в роковые минуты оказывается лишняя квартира. То есть такая, в которой некому жить. Ее можно сдать. Это главный капитал москвича – квартира. Свою лишнюю отцов друг сдал нам, а мы сдали нашу нелишнюю, но трехкомнатную и в центре, какой-то фирме. Жить в ней должен был швейцарец. Он хотел бегать трусцой по набережной. Я представил, как он лавирует между танками на мостах и БМП под мостами. Подразумевался и евроремонт – как же швейцарцу без него. За счет фирмы. Это сулило двойную выгоду: на разницу в квартплате мы втроем вполне могли бы жить, а вернуться нам предстояло года через три, когда все, конечно, наладится, в преображенное по европейским стандартам жилище. Это придумал профессор. Выигрыш был и в немедленности спасенья: деньги за первый квартал нам уже выплатили, стоило только заикнуться.
На самом деле все уже было упаковано, даже книги, так что оставались последние мелочи. Всю мебель мы выкинули – теперь я знаю, что родные мне вещи никто бы и не назвал мебелью.
В дверь позвонили грузчики. Началась новая старая жизнь – преподавательская работа и писание книг. То, что нам положено, – сказала профессор. – Хватит уже. Предприниматели из нас никакие.
Но эта положенная нам жизнь и работа должна была оплачиваться нами же – жизнью в чужом доме, опустевшем после смерти неизвестных нам чужих стариков. Почему, я тогда не понял.
Когда все поместилось в кузов и сзади захлопнули борт, из крайней коробки от удара выскочила серебряная столовая ложка. Она подпрыгнула вверх, перевернулась в прозрачном осеннем воздухе и, блеснув, со звоном упала на асфальт. Она не хотела уезжать отсюда. Профессор свалила все в коробки так поспешно, так горестно-небрежно, что этот незаметный бунт, этот побег удался.
Грузовик тяжело тронулся, сдал назад, вырулил из-под ясеней, на голых ветвях которых крутились под ветром крылатки семян, проехал по упавшим и уже побуревшим листьям и увез нас куда-то.
Документ Word 2
(примечание биографа: «спасение или погибель?» – так я озаглавил бы этот файл)
Я вышла из ворот больницы и остановилась. Горло, взрезанное месяц назад прохладной старческой рукой – призрачно-белой, но сохранившей наработанную десятками лет точность движений, этой щедрой рукой настоящего врача – горло мое все еще ныло. Но красный камень был снова на своем месте – во впадине между ключицами, и тепло поднималось от него, и боль стихала.
– Дорогая, – вспомнился мне спокойный и очень тихий голос профессора перед операцией, – дорогая, что же это они с вами сделали? Ведь еще полчаса… Да, дорогая. Двадцать – тридцать минут – вот сколько вам остается. Потом отек горла. И все. Пойдемте.
И голос, и движения были неторопливы.
– Какие у вас глаза… Сколько страдания… Если бы не глаза…
Операция началась, и я так и не узнала, что бы произошло, если бы не глаза.
– Они лечили вас от ангины, – сказал он после, когда я уже лишена была дара речи, и надолго. Я кивнула.
– А там зрел абсцесс. Целую неделю протянули, пока вы не начали задыхаться. Даже антибиотики не кололи, а?
Я снова кивнула. Ушла невыносимая боль, от которой я неделю не могла глотать даже собственную слюну, металась, стонала и наконец замерла в изнеможении. Тогда-то меня и отвезли в больницу. На машине поликлиники. Теперь горло только саднило, но говорить запретили.
– Да, вот вам наша поликлиника. Специальная, для научных работников. Во всей красе. Я иногда думаю, – продолжал неторопливый тихий голос профессора медицины, – я даже думаю иногда: а вдруг это не случайно? Какой должен быть терапевт, чтобы допустить до этого? Да не может быть, вы слышите, не может быть такого терапевта! Его просто не может су-ще-ство-вать. Не просто не должно – не мо-жет!
Я молча смотрела на старого хирурга, с наслаждением слушала его грассирующую московскую речь – какой голос! Какая грация тонов! Какие чистые гласные! Спокойствие, достоинство, уважение – да, уважение ко мне, обреченной, страдающей и им спасенной. Я подумала об арбатском Учителе. Они далеко не ровесники – мой заметно старше. Но это люди одной крови. Одной культуры. Профессора, а не профессорье.
Весь следующий месяц мы встречались ежедневно: 2–3 минуты осмотра. Радость этих минут освещала весь день. Я готова была поселиться в этой больнице.
Но Ники, дом – новый старый дом, работа – новая старая работа – ждали. Сил становилось все больше, и захотелось жить.
И вот я на свободе. Домой придется добираться одной – муж опять в экспедиции, Ники в школе. Сил все-таки еще мало. Пришлось прислониться к белому столбу с облезлым сероватым шаром наверху. Я вспомнила эти ворота. Сюда, в измайловскую больницу для научных работников, я приезжала маленькой девочкой – навещать бабушку-профессора. Мы гуляли по парку, по лиственничным аллеям, по дорожкам вокруг клумб. Цвели пионы. Пионы – белые, розовые, черно-красные, траурные, – наполняли своим запахом комнату нашего старого дома у моста, большую из двух маленьких, когда на дубовом столе стоял там бабушкин гроб.
Я прикрыла веки. Точнее, они сами опустились. В больнице, на узкой железной койке, под жидким и слишком жарким больничным одеялом, мне снились сны. Чаще всего такой.
Вот ветер, но холод осеннего дня впервые так странно тревожит меня. Забыто рекой унесенное лето, и вместо реки – лишь гранит парапета: река, как глазница слепая, пуста, но вот я стою под крылом у моста. Я, кажется, вовсе на свете одна – как осень прозрачна, как осень бледна. И вот, подчиняясь неведомой воле, я прочь ухожу из последней юдоли, и издали слышу свой голос: «Пока! Прощайте, родные: мой мост и река!»
Иногда, реже, но постоянно, приходил другой сон. Вот что было в нем.
Сегодня вниз иду по переулку под мост. И мертвым звуком гулко звучат шаги. Река бурлит за гранью гранита. Ветра нет. И вечер странен. Уж к горлу, прямо к горлу подступает ночная черная, чернильная вода. Откуда? Ведь не март, и снег не тает. Но выпал снег – такая вот беда. Такая тьма. Но почему? Сверкают глазами смраднозевые машины, везде огни, и будто нет причины реке так корчиться, как будто бы терзает ее в ночи собак бездомных стая. Такая жизнь – схватив, не отпускает…
Ночью боль усиливалась, становилось душно, и я металась в жару под влажным, серым бельем, сбрасывая жесткое, как доска, вигоневое одеяло. И снилась первая любовь. Июнь. Грозы. И грезились слова, слова, слова…
Что за ураган в предместье пыльном листья рвет, сирень сбивает градом? Даже в скудной жизни час обильный упадает ревом водопада. Но не баржи стонут под мостами, и не поезд дальний отвечает – это время жадными устами нашу жизнь, как реку, поглощает… Непрестанный гул в крови и жажда, жарких кровель раскаленный полог… Все вернется, ночью, не однажды – сон и стон, и отзвук стона долог…
И раз, только раз мне была во сне дарована встреча. Вот такая.
Как в темном, прозрачном, тягучем меду, я медленно рядом с тобою бреду. По красным аллеям осеннего парка медовый закат разливается ярко… О, сладкая нега неспешной беседы! Надмирная радость, крылами победы зовущая в дали, взвихряя потоки ревущего времени в страстные строки… Мы видимся редко, и только во сне. Вполжизни, вполголоса и не вполне живем наяву, возвращаясь друг к другу в единственной точке заветного круга…
Я очнулась, оглянулась в последний раз на ворота больницы и неверными шагами пошла вдоль по улице, по серому холодному тротуару, наступая на листья – нежные бледные пальцы ясеней и изъеденные ржавчиной сердца тополей. Денег на такси не было. А где метро, я не знала. Спрашивать было больно, но пришлось. Метро – подземный путь к неродному дому – разверзлось. Только бы дотянуть. Только бы доехать. И вот я уже в теплом вагоне, его качает, и я сижу. Только не заснуть. И я стала смотреть на людей. Они на меня не смотрели. Никто. Веки все тяжелели.
– Девушка, вам плохо? – услышала я сквозь туман слабости. Мужской голос, глубокий, сострадательный. Страдающий?
– Я не девушка, я профессор, – ответила я механически, как привыкла отвечать, чтобы избавиться от ненужных знакомств. Профессором я стала неприлично рано: в самом начале «перестройки» где-то в самых верхах возникла идея, что нужно радикально омолодить вузовские кадры. Старые, а особенно – почти не старые, стремительно вымирали. Чтобы побыстрей наделать новых профессоров, ввели докторантуру. Туда принимали с тридцати, я написала работу, защитилась, стала доктором наук, и прошедшей весной получила красно-коричневую книжечку с золотыми буквами – аттестат профессора.
– У вас бред. Бедняжка. И я почувствовала прикосновение теплой руки ко лбу.
– Что с вами? Лоб совсем холодный. А я-то думал, жар. Наркотики? Что?
– Я из больницы. После операции на горле.
– Разрешите, я вам помогу. Провожу до дома. Вам куда?
– На Смоленскую, – сказала я. – Ой, нет. Я ошиблась. Теперь нет. Теперь на «Университет», а потом на троллейбусе. Простите, мне говорить больно.
– Молчите, молчите пока. Вот выйдем из метро на «Университете», тогда и скажете, куда дальше. Но вы уверены, что не путаете?
Я кивнула. И глаза снова закрылись.
Следующий раз сознание прояснилось, когда холодный, вечно бесприютный ветер юго-запада крутанул пыль у выхода. Тот, кто шел рядом со мной и нес мою сумку с больничными вещами – кружка, ложечка, мыльница, больничная одежда, – усадил меня на лавку у стены здания метро, круглого, как тюбетейка. Мы посидели молча, и, держась за его локоть, я двинулась к троллейбусной остановке. Ветер все крутил и крутил пыль, а теперь еще и листья. Они сухо царапали серый асфальт. Троллейбус запел и поплыл вниз по реке Ломоносовского проспекта, мимо серых бастионов знания – химфака, физфака, наконец мимо биофака – мистической воронки, втягивающей в себя любителей природы, как муравьиный лев – мелких насекомых, скользящих по предательским сыпучим песчинкам вниз, вниз… Алексея она уже поглотила, а теперь и Ники, мой единственный, был обречен зоологии…
– Нам пора, постарайтесь встать, – и меня подняли с сиденья, провели к лязгнувшей троллейбусной двери, сняли со ступеней.
– Ну, здесь я вас не оставлю, – сказал голос. – Меня зовут Михаил. А вас? Очень приятно. Давайте дойдем до вашего дома. Я тут рядом живу, на Мосфильмовской. Вы только не бойтесь. Я не буду вас убивать и грабить. Просто у вас такие глаза… простите, вы меня могли понять неверно. Я женат, нормален, и вообще я не к тому. Вот смешно: хочешь помочь человеку, а приходится оправдываться.
Я помотала головой, потом покивала. Мы прошли через скверик у китайского посольства, мимо круглого пруда, где молодые кряквы стряхивали с пестрых крыльев свинцовые брызги, через арку довольно скучного дома и оказались во дворах. Там в три ряда стояли корпуса серых кирпичных восьмиэтажек, из которых мне предстояло выбрать один – тот, в котором на последнем этаже, под крышей, было теперь временное наше пристанище. Убежище. Стация переживания, как на языке своей зоологии сказал бы Алексеев дед. По-моему, он сам и придумал этот термин, когда изучал чуму в песках Азии. Назвал так те места, где грызуны спасаются и выживают во времена резкого падения своей численности при колебаниях оной. То есть во время бедствий. Мора. Стации переживания… Красиво. Драматично.
С выбором корпуса, как всегда, возникли проблемы. Я и здоровая путала серые дома, вечно плутая от одного к другому. Но, ориентируясь на номера, мы все же подошли к нужному замызганному подъезду. Все-таки самое неприятное – запах. К этому привыкнуть невозможно. Внутри, в полутьме, косо висели на петлях дверцы почтовых ящиков. В нашем ничего не было. Алексей из Коста-Рики ничего не прислал. А может, Ники вынул? Он жил один, на оставленные взрослыми деньги, ходил в школу, время от времени я звонила ему из больницы, но приезжать самому не велела. Как ни странно, теперь болеть он стал реже. Алексей тоже окреп. И уехал в Коста-Рику, кого-то там изучать. Кажется, кустарниковую собаку. Что ж, и такая на свете есть.
– Что у вас дома? – спросил Михаил. – Не подумайте, что я напрашиваюсь на чашку кофе. – Он улыбнулся и посмотрел мне в глаза. – Вы ведь не думаете?
Лампочка на лестничной клетке вдруг ожила: моргнула и тускло засветилась.
Я помотала головой. Мне было больно. И горько. Вот передо мной нормальный человек. Нет, не нормальный. Какое там! Милый. Воспитанный. Сильный. Крупнокрасивый. Яркий. Лучистые глаза. Выразительный рот. Похож на идеального американца: свежий и сильный мужчина-мальчик. Но при этом заботливый, как-то просто, тепло заботливый. Может, он и вообще не человек. Ангел… Архангел? Не бросит свою жену в больнице. А я… Ну вот. Слезы. От слабости. Раньше ведь я не плакала. Не помню уж, когда это со мною было.
– Можно я вас провожу до квартиры? Вам не нужна помощь? Вы ведь месяц дома не были, а возвращаетесь одна. Значит, встретить некому. Что с вами вообще происходит?
Мы вошли в лифт. Скрипя и охая, с хриплыми стонами, он поднял нас наверх. Я отперла дверь, и Батон чуть не сбил меня с ног. На всякий случай надела ему намордник. Наконец, когда пес успокоился и улегся на месте – коврике в крохотном коридоре, мы смогли войти. Не раздеваясь, сели на табуретки у крохотного стола в крохотной кухне. Это была малогабаритная квартира. Не настоящая хрущевка, но вроде. Построена году в шестидесятом.
Квартира… Сейчас жить в ней было невозможно. Восьмилетний Ники не справился с хозяйством. Все в собачьей шерсти – азиат как раз линял, и клочья отпадающего волоса висели у него по бокам и на гачах, как у волка. Посуда, поверхности шкафов, столов и пола, совмещенный сортир, белье, холодильник – все основы жизни нуждались во мне. В моих силах. А их не было.
Заботливый чужой муж помог мне раздеться, напоил чаем, уложил на диван и пошел в магазин. Сквозь сон я слышала шум пылесоса, звяканье ложек и вилок, стук кастрюль, звон чашек и тарелок. Перед глазами появилась картинка на обложке маминой детской книжки: «Федорино горе». Федора – здоровенная краснорукая бабища в красной же косынке на низком лбу, повязанной узлом на затылке, на одной стороне обложки плачет, отмахиваясь от тараканов (насекомые смеются), на другой – улыбается, окруженная смеющейся и сияющей посудой (тараканов и след простыл).
Я проснулась, когда вернулся из школы Ники. Пообедали, Ники сел делать уроки, а мы обменялись телефонами, и я заперла дверь. Вечером с собакой гуляли мы с Ники, вдвоем.
Утром позвонили из издательства – напомнить, что срок сдачи рукописи заказанного мне учебника – первого за 76 лет учебника по риторике для школы – истекает к новому году. Оставалось два месяца на все про все, включая машинистку. Конь еще не валялся в этом учебнике. А может, на этом? Не знаю.
Ники был уже в школе. Протягивая к телефону руку – не настолько сильную, чтобы удержать на поводке Батона, но вполне способную нажимать на клавиши компьютера и тем более поднять трубку, я уже знала, кто звонит. Ведь больше было некому.
Он поднялся ко мне, и мы погуляли с собакой. Я объяснила про учебник и что с сегодняшнего дня у меня одиночное заточение.
Жизнь протекала так: я писала утром, днем и вечером. Утром с Батоном гуляли мы с Ники, вечером – мы с Михаилом. Горло заживало, а мы разговаривали не умолкая. Спорили. Потом я снова писала – до ночи. Особенно легко мне дался раздел «Искусство спора».
Через месяц, когда силы мои были на исходе, появился Алексей из джунглей Амазонии. Кажется, Коста-Рика в Амазонии. А может, и нет. У меня собственная ментальная географическая карта, и она отнюдь не во всем совпадает с той, что висит на стене в комнате Ники. Гулять с Батоном по вечерам стал Алексей. И по утрам тоже.
Этот месяц я писала утром, днем, вечером и ночью. Последние две недели потребовали водки. Утром и днем я писала, потом шла в магазин, готовила обед, немного ела, выпивала полстакана водки и писала снова.
В эти два месяца я жила так, как не жила никогда после. Я помнила все, что знала. Я помнила всю свою жизнь, от рожденья до смерти. Мне не нужно было смотреть на небо, чтобы видеть звезды, – ведь я непрестанно разговаривала с моим арбатским Учителем, чей прах давно покоился на Ваганькове, под серыми ветвями кленов и под прахом кленовых листьев, с этих ветвей за семь лет опавших. И я разговаривала с Михаилом. Нет, не наяву. Эти реальные беседы прекратились, как и встречи. Но я вызывала его к себе в комнату своей волей, усаживала в кресло и говорила, о чем хотела. А иногда даже о том, о чем не хотела. Вовсе не хотела. Вряд ли и он подозревал об этом. Нет. Нет, конечно.
И вот настал час победы. Наступил рассвет. Мутный зимний свет чуть брезжил, когда я погасила настольную лампу. Рукопись была готова. Все спали.
Потирая ноющую поясницу, я подошла к окну. Что-то белое, как привидение или узкий сугроб наметенного за ночь снега, с перил балкона смотрело прямо мне в лицо желтыми светящимися глазами с черными центрами крупных зрачков. Полярная сова не шевелилась. И не моргала. Я замерла за стеклом напротив, одной рукой вцепившись в холодный подоконник, другой – защищая свой камень от горящих глаз птицы.
Призрак Севера мягко взмахнул громадными крыльями, и они унесли его в сереющее небо.
Аквилон, аквилон, ветер с полюса, зачем ты прислал ко мне своего вестника? Почто устремил полет его сюда, в город, над крышами серых восьмиэтажек, над утлыми и жалкими антеннами человеческих трущоб? Почто направил его к моему окну и устремил мне в сердце взгляд его неподвижных глаз в этот миг – миг моего торжества, моей победы, моего ликования?
Я опустила усталую голову и побрела к кровати. Через полчаса нужно было будить Ники в школу. Алексея давно уже не было – он разыскивал в Туве красных волков, исчезнувших в тех далеких горах еще в незапамятные времена.
Неделю или две я провела в каком-то полузабытьи. Все это время падал и падал мягкий прозрачный снег – медленно, не спеша, безмятежно. Зима давала мне отдых. И все короче становился день.
Однажды, когда Ники вышел уже в утреннюю тьму, отделявшую его от школьных кабинетов и коридоров, освещенных люминесцентными лампами, когда я вернулась домой после прогулки с Батоном, а за окном побелело, зазвонил телефон. Я стряхивала редкие снежинки с воротника дубленки, с широкой спины собаки, и подходить не торопилась. Зачем? Чтобы услышать, что заболел кто-нибудь из кафедральных коллег и нужно нестись в институт заменять его на занятиях? Или что рукопись моего учебника ни к черту не годится? Но звонки не оборвались, и особая тишина, которая наступает в пустом доме снежным утром, так и не наступала. Я сняла трубку. Телефон в этой квартире, полученной в шестидесятом году молодыми тогда, а теперь уже мертвыми родителями Алексеева друга, был сделан из тяжелого черного вещества, название которого забылось. И трубка весила как гантель.
– Профессор? Девушка-профессор? – сказал Михаил. – Ты не хочешь сегодня погулять? Съездим ко мне на дачу. Снег нужно с крыши сбросить. Нет, лучше без собаки.
Перед встречей я вышла в магазин, чтобы оставить Ники что-нибудь на обед. Боже мой. Но ведь я не шла. Во всяком случае, ноги мои не касались ни обледеневших ступеней, ни темнеющих между сугробами тропок, протоптанных к магазинам. Пакет с продуктами был невесомым. Да что там – его немалый вес устремлялся ввысь, как воздушный шар. Я вспомнила Шагала. Вот оно откуда. А я и не знала. Дожила до тридцати трех лет – и не знала.
В это утро я почувствовала наконец, что день прибавляется. Что… мерцает мир, и мириады миракул радужного света дрожат опаловой плеядой вокруг любого силуэта. И льда шагреневая кожа сжимается и отступает, и ветер так неосторожен, что о весне напоминает – сухой асфальт шершав и нежен… невольно ждешь прилета чаек, и день так ласково бесснежен, что о зиме уже скучаешь…
Холодало. После электрички мы вдвоем шли через поле. Небо вдруг прояснилось яркой синевой, снег искрился, на изломах сугробов голубели тонкие тени. Каждый шаг отзывался веселым скрипом, и мои красные замшевые сапожки ловко и твердо ступали по крахмальной скатерти неширокой дороги. Машин, казалось, еще не изобрели.
– Нет, ты объясни, что ты хочешь сказать? – настаивал он. – Я не понимаю. Ерунда какая-то. Ну что такое апельсины? При чем тут апельсины?
– Вот представь, – отвечала я. – Представь, что человек приходит в магазин купить апельсины. Ну, берет сетку. (Тогда апельсины, картошку и прочее упаковывали в разноцветные плетенки из синтетических волокон, и плоды природы, плотно прижавшись друг к другу, смотрели сквозь сети как печальные пленники.) Ну и все как обычно. Он даже и не взглянет пристально.
– А ты? В чем тут пример твоей… исключительности? Своеобразия? Ты-то чем отличаешься?
– Я… Ну, для меня это всегда новые апельсины. И даже вообще не апельсины. Нечто неизвестное. Неведомое. Я будто в первый раз это вижу. И смотрю так, будто вижу в первый раз. И чувствую запах.
– Ну и я чувствую, подумаешь… Апельсины, они, знаешь, ароматные.
– Нет, я не умею объяснить. Но я давно заметила… Ну, что со мной что-то не так. Я не лучше других и не хуже. Надеюсь, не хуже. Это не о том. Это вовсе не вопрос оценки, понимаешь? Я этим не хвастаюсь, просто хочу объяснить. Мне кажется, тебе нужно об этом знать. Или не нужно, не знаю. Может, даже наверное, я говорю больше для себя. Я вообще думаю, только когда го ворю. Или когда пишу, это все равно. В общем, я все вижу не совсем так, как другие.
– Конечно, каждый видит по-своему. Люди, знаешь, разные. Не одна ты такая… Такая…
– Одна. Одна такая. Именно потому что я тоже человек. Имею право отличаться от других и отличаюсь. Я просто хотела объяснить, чем именно. Как мне это представляется.
– Ну-ну!
– Ну и вот. Для меня это не совсем апельсины. Я вижу их свет. Их… душу. А! Вот оно. Я вижу их идею. Idea, ιδέα. Так сказал бы мой арбатский Учитель. Я вижу идею зрительно, как каркас или скелет, ну вот как эту рябину. На ней ни листьев, ни ягод. Но я знаю – это она. По стволу и рисунку ветвей.
– Милое дело! Ты соображаешь, что говоришь? Какой у апельсина каркас? И тем более скелет!
– А вот один мой ученик сказал так, правда, не об апельсине, а о динозавре. Он сказал: динозавр – это на самом деле апельсин, а душа его – это косточки внутри апельсина. Здорово, правда?
– Глупость какая!
– Нет, серьезно. Каркас – в смысле рисунок сущностных признаков. У каждой вещи – свой.
– Сущностных?
– Ну да. Аристотель это говорил, то ли в конце «Первой метафизики», то ли в начале «Второй», не помню. Что у всякой вещи есть присущее и привходящее.
– Например?
– Например, вот я профессор. У любого профессора сущностные признаки, без которых он вовсе и не профессор, – это какие? А правда, какие? Не аттестат же?
– Ну, ты сама знаешь. Докторская степень. Ученики. Лекционные курсы. Монографии.
– Да, но у теперешних профессоров все это есть, а вот арбатский Профессор называл их почему-то «профессорье». Он-то был настоящий. Любовь нужна. Filia. Филия. Страстная привязанность к своему предмету. Страстный напряженный интерес. Редко это теперь. Ну, так или иначе, мы назвали сущностные признаки, из них филия главный. Вокруг все остальные в определенном порядке. Вот и каркас.
– А привходящие?
– Те, что могут быть или не быть, а профессор все равно остается.
– Влюбленный профессор?
– Ну… да. Девушка-профессор…Так. Но вот что важно. Я ведь не только умом понимаю: вот есть у апельсина такой признак, он главный, а вот и другие признаки, и все это идея апельсина. Дело в том, что я эту идею вижу глазами – зрительно вижу, вот как тебя. Я вижу идею в ее облике. Облик называется eikon – эйкон – είκο-ν. Отсюда слово икона. А, вот что я вижу. Для этого у греков есть особое слово. Я вижу эйдос. Эйдос, είδος – это идея плюс ее зрительный облик. Получается: умозрение. Умо-зрение.
– Боже!
– Да. И вот я смотрю сквозь сетку на апельсины, и они светятся, внутри огонь, будто горит свеча. Но я еще чувствую запах – знаешь, как бывает, когда сожмешь оранжевую корку и брызнет эфирное масло… И этот вкус…
– Ну и что, у тебя так каждый раз? Умозрительная треска? Сосиски?
– Нет, знаешь ли, треска – мороженая, вся в льдистых иглах, бесформенная, даже без головы и без цвета, в полиэтилене… а тем более сосиски – это уж артефакты. Какая у них идея? Хотя и с ними бывает. «Сосиски с капустой я очень люблю, люблю, люблю, лю-лю-лю»… По-моему, это какой-то немецкий марш. Или это из «Девушки моей мечты?»
– Вот уж не знаю. Знаю только, что для сосисок придется вернуться в Москву. У меня только чай на даче.
Но я не чувствовала никакого желания есть. Я бы не смогла проглотить сейчас ни кусочка самой вкусной, самой жирной немецкой колбаски. Наверное, это тоже признак любви. Сущностный признак, то есть присущий. Голод был, и очень сильный, но он не распространялся на пищу физическую. Я умирала от голода. И мои красные сапожки на самом деле не касались снега на дороге. А снег – свежий, с голубыми тенями – почему-то хрустел. И над ним витал чудесный запах зеленых яблок.
Дорога кончилась у калитки в старом штакетнике. Через него перевешивались черные тонкие ветки шиповника, спиреи, бересклета, укрытые пуховыми подушками. Холодало, и я похлопывала вышитыми замшевыми варежками. В моем детстве такие назывались голицами. Ники этого слова уже не знает.
Крыльцо старой дачи скрипнуло, запела и дверь. В узких и высоких комнатах свет был уже синим. Дрова разгорелись быстро, прозрачные капли смолы трещали, сгорая теплым и тонким дымом.
У печки на табуретке было тепло, но он грел мои руки в своих, присев на корточки. С портрета на стене – старинного, в овальной раме – смотрел вниз голубоглазый предок. А может, это была дама? Я помню только глаза. Да, чуть выпуклые глаза предка были как тени на снегу. И еще помню, что разговор не затихал ни на минуту, будто любая пауза могла разрушить весь этот хрупкий, сложный, бесценный мир.
И особенно хорошо я помню то чувство. Чувство изгоя, чужака, отверженного. Мне в этот мир не попасть. Я навсегда останусь на дороге – там мое место. На дороге домой – нет, не домой, ведь своего подлинного дома у меня уже не было. Мой в этом мире – только красный сердолик на серебряной цепочке…
На обратном пути мне было горько и тягостно, и разговор даже затихал временами. Ведь бояться было уже нечего. Все пропало. Прошло. Время скользнуло мимо, унеслось вдаль через снежные поля, скрылось там, где катился к синему лесу апельсин солнца.
Дома оказалось, что одна голица потерялась. Тут я и расплакалась. Из-за варежки, конечно. Где я теперь найду такие – ведь те, черные, расшитые розами, были бабушкины. Исчезла частица моего мира – незабываемая, невосполнимая. А вот его мир остался целым. Это было несправедливо. И я никак не могла унять слезы. Ники утешал, потом сам расплакался, и уже я утешала его, а потом мы вместе пошли выводить Батона.
За учебник дали аванс. До гонорара было еще далеко, но вдруг, неожиданно, все равно наступила иная жизнь. Непонятно почему, но книги стали писаться одна за другой, быстро и радостно, и мне ничего не оставалось, как приветствовать их. И способствовать их появлению. Казалось, это вовсе не я их пишу, а кто-то водит моей рукой, чьи-то мысли стремятся на волю, к людям, на свет божий, на белый лист – а я только медиум, передатчик. Или вестник.
Следующая после учебника книга, вторая в моей жизни, родилась так. Еще до выхода в свет учебника на моей кафедре возникло недовольство. Внезапно оказалось, что лучше мне преподавать не на филфаке, а историкам. Курс, который мне предстояло читать, назвали «Культура речи учителя». Об этом предмете я знала немногое. Учителей видела только в школе. Собственной. И еще видела ту учительницу, которая била Ники затылком о доску, чтобы он лучше запомнил таблицу умножения. Но начинался новый семестр, день разгорался все раньше и раньше, и весна света была уже близко. Мои лекции на втором курсе были поставлены на 8.30 утра, по субботам.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































