Текст книги "Профессор риторики"
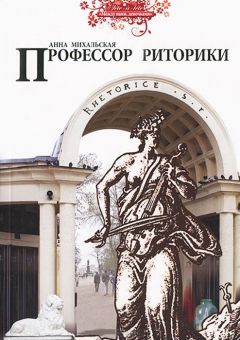
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Ну, пришли. Видишь – выворот. Сосна, говорю, упала, корнями вверх. Выворот называется. Теперь смотри сюда. Ах, блин! Так фольгу и не сняла, зараза. Вон, на ветке там. Ну, тем лучше. Так, под ноги, внимательно… Вни…ма-а…те-е…льно-о-о..! Видишь как бы шов? Это я дерн снимал. Та-а-ак… Сдвигаем… Аккуратненько… Спо-кой-но… Давай шампур! И сама бери, тыкай в землю, вот сюда, где дерна нет. Да, только в этот прямоугольник… Еще…
Черт!!! Давай совок из пакета, рыть надо!!! Нет!!! Нет!!! НЕ-Е-ЕТ!!! У, стерва. Опередила, блин. Ну благородства никакого. Никакого благородства в бабах. НИ В ОДНОЙ! Черт… Ну и хрен с ней. Переживем, блин. Теперь-то у меня все в банках, в настоящих только… А не в трехлитровках стеклянных… Нет, обидно все-таки. Все-таки обидно. Мелочь, а обидно. И что ж я вовремя не подсуетился, а! Сразу надо было бежать, в тот же вечер, прямо с портфелем в руках – и сюда. А не к тебе, ла-пу-ся, блин. Она небось уж наутро как штык тут была, с шампуром и с совком… Ну, все, хорош. Поворачивай. Забудь. Не было тут ничего. И нет. Не было и нет. Вот и все дела. Ох, и надоели вы мне все… Ох, и как же мне все это надое-е-е-ло… Поехали. Домой, куда-куда! Виски мне будешь сама наливать. Ох, тоскаа-а… Хлестнуться можно…
Биограф – о причинах и следствиях (первая идея спасения)
Что я люблю на земле? Только Долину ветров. Камни шуршат под стопой, шелковым шелестом каждый шаг свистит, как змея, ускользая. Ветер люблю и орлов. Имя дано – аквилон – лучшему ветру из всех. Ветром орлиным его римляне звали не зря. Сивер, сиверко задул – скажет о нем славянин. Да, Aquila – орел, хищный и сильный, как вихрь. Север дохнет – и бодрей братия двинется встречь…
Да, дохнул аквилон. Север. Сдул остатки продуктов с прилавков. Именно в эту пору – в пору начала Эпохи перемен – одна неудавшаяся поэтесса, ныне давно покойная, если к ней вообще применимо это слово, – очень уж была она беспокойна при жизни, – школьная подруга и соседка моей двоюродной бабушки – нет, не профессор, и не профессора – избави Бог! – не все наши знакомые и не все женщины в нашей семье профессора – так вот, эта странная беспокойная некрасивая толстая Зоя Ибрагимова, отец ее был казах, приехал в Москву и сгинул в лагерях, а мать осталась – тетя Галя Проскурякова, веточка большого московского профессорского дерева, раскидистого, как тополя на Плющихе, – эта Зоя с круглым и плоским темным лицом и черными узкими глазами написала тогда такие строки:
Душа моя чуть-чуть тепла,
И в ней светло, как в гастрономе,
Жених мой в сумасшедшем доме,
А я сегодня умерла.
Чушь, конечно, и написала она это, возможно, гораздо раньше. Но сказано о Смоленском гастрономе, ныне обращенном в «Седьмой континент». А в ту пору, о которой я рассказываю, в Смоленском оставался только свет. Больше не было ничего. Зато света было много. Вот почему я запомнил эти строчки…
Итак, дохнул перестроечный аквилон, и братия наша рассеялась, вместо того чтобы сплотиться, – рассеялась точно так, как при начале татарского нашествия, но все же встала холодному ветру встречь – каждый сам по себе. И каждый пытался выстоять.
Я говорил уже о том, что мой профессор продал часть своего времени – а ведь дороже времени у талантливого человека и нет ничего – некоему коммерческому «университету», одному из многих, выросших, как несъедобные грибы, из невидимых простым глазом спор, аквилоном занесенных на землю нашего отечества.
Комментарии биографа к письменным работам студентов риторического класса
И вот передо мной два листка – выпали из той же бумажной кучи, что обрывок дневника. Я сохранил оба.
Сохранил как свидетельства торжества Слова над якобы неодолимой стихией, над хаосом – неустроенным, бесформенным, безобразным. Оба листа А-4 – письменные работы студентов. Задания, выполненные в риторическом классе моего профессора. И что это были за студенты! Но мать сумела, справилась: напомнила им, что человеки они. И вспомнили ведь. И написали слова. И как написали!
На первом листе слов немного. Это вторая часть хрии – похвала. Похвала греческому лирику Архилоху. Мой профессор чтил его особо. Ведь некогда арбатский мудрец, положив бледную пергаментную десницу на левую коленку матери, вдохновенно учил ее читать вслух бессмертные строки:
– Рю-ю-тмос, деточка! Произноси: «р-ю-ю-ю-тмос», вот как, – вытягивая синеватые губы трубочкой, наставлял ее Профессор настоящий. Русский Сократ она его называла.
Да, Архилох, поэт и наемный воин. Как и мой профессор, собственно. Знаете это: «В остром копье у меня замешан мой хлеб. И в копье же – из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье»[20]20
Пер. В.Вересаева.
[Закрыть].
Так вот что написал об этом великом эллинском лирике, вот что напечатал о нем на белом листе формата А-4 мальчишка по имени Амир, дикий сын диких родителей, с ног до головы облаченный в черную кожу и обвешанный серебряными черепами и всякими прибамбасами металлистов, – написал на самом современном, самом крутом компьютере (286–й в те времена, наверно):
«Он познавал жизнь копьем и Словом».
Неплохо, как вам кажется? Мне понравилось. Вот какова сила Логоса, умелой рукою ритора направленная на благо! В цель! В десятку!
А вот и второй листок. Тут уж целое сочинение. Тоже одно из зачетных заданий в риторическом классе. Материнская система обучения бессловесных существ свободной речи требовала всего четырех таких заданий. Сделаешь все – зачет. Первое – хрия, или рассуждение. Это примерно то, что перед вами, только слов всего 300–400, не больше. Еще одно – описание. Третье – повествование. И последнее, четвертое, – публичная речь. Ораторское выступление.
Так вот, на втором листке – повествование. Требовалось, следуя определенным риторическим правилам, рассказать историю. Вот она. И надписана: Дурновой Евгении. З курс. Гумфак. Так вот, просто. Гумфак. Ни больше ни меньше. Представляете себе университет этот, в котором факультет называется «гумфак»? А? А Дурнову Евгению? Представляете? Блондинка, понятно. У них там все блондинки. Неотличимы, как однояйцовые близнецы. Денег у них на это хватает. И каждая в маленьком черном платье. Но прочтите, как пишет! Да это обо мне, о вас, о каждом…
Дурновой евгении. гумфак. 3 курс. повествование
«Он жил один. Хотя нет, с ним жила кошка, которая грела его по ночам. Эта кошка была единственным, что осталось у него от бывшей девушки, кроме боли.
Квартира была не слишком большая, но его устраивала. Раз в неделю к нему приходила убираться женщина, так что он жил в относительной чистоте, и вообще он был аккуратен, он всегда сообщал об этом своим подружкам.
Ничего особенного в его жизни не происходило, все было плавно и размеренно – до вчерашнего дня. Он вдруг ощутил себя одиноким.
Что же произошло?
Неужели он в первый раз по-настоящему любил?
Это чувство ему пришлось испытать впервые, и поэтому сейчас было особенно больно. Он понял, что его бросили.
Он посмотрел в окно. Шел дождь. Обычный сентябрьский дождь. Его любимая погода. В такую погоду все как бы замирало и хорошо думалось. В общем, он решил пойти прогуляться. Погода разделяла его настроение, и от этого ему становилось легче. Он гулял, пока не промок до нитки, но так и не понял, почему ЭТО произошло именно с ним.
Ничего, кроме насморка, ему эта прогулка не дала. «Ну и что? – думал он. – Сейчас насморк, потом воспаление легких или грипп, а потом долгая и мучительная смерть. Но, по крайней мере, виден предел, а вот предела моей тоски что-то не видно…»
Тут он опять понял, как сильно хочет хотя бы увидеть ее. Он не мог осознать, что теперь ему придется жить так. Чем дальше он думал, тем больше понимал, что не может без ее голоса, не может без ее запаха, не может без ее глаз, не может без нее.
Это была какая-то навязчивая идея, и он ничем не мог перебить ее. Везде ему мерещилась она. Он вздрагивал от каждого шороха, думая, что она вернулась, но ее ключи лежали на столе».
Вот и все. Но и это мне понравилось. Ради того, чтобы Амиры и Дурновы Евгении на третьем курсе «гумфака» так обращались со словом, можно было работать.
Биограф продолжает
Только вот матери было тяжело. А кому легко? Кому легко? – спросите вы. Но очень уж она мучалась. Страдала как-то. Но денег ради и свою мать туда возила, в этот «университет» с «гумфаком», – тоже профессора, тоже лекции читать. По зарубежке. Значит, бабка моя им про Архилоха, а мать – как о нем говорить. Как обо всем говорить.
Помню, однажды и меня с собой взяли, в машине подвезти: пришлось и мне с профессорами по дороге. Машину нанимали с шофером. Звали его «Андрюфа». Так он произносил свое имя. Этот несчастный остался совсем не у дел, один с матерью. Приезжал, представьте, из Зеленограда. Там ведь тогда много всяких КБ распустили. Из Зеленограда – и к нам, на Плющиху, чтобы обоих (или все-таки обеих) профессоров (профессорш)до «университета» разом довезти. В одном флаконе. А флакон этот был – «копейка» первого выпуска.
Мы стояли на крыльце нашего дома – бабка, мать и я. Старший профессор тяжело опирался на клюку и на руку младшего. Андрюфа подкатил в своей «копейке». Вышел. Снял дверь. Поставил рядом, на снег. Профессора сели. Шофер приставил дверь на место и притянул снаружи эспандером, знаете, в сине-белую полоску, какими пенсионеры к сумкам на колесах прикрепляют свой жизненный груз. Ну потом и мы с ним сели – и вперед. Доехали.
Выходить – а там здание с колоннами, «университет» этот, бывшая Высшая партшкола на Ленинградке. И вкатывает Андрюфа свою желтую «копейку», крашеную-перекрашеную, во двор, и паркуется эдак независимо между «мерседесами», «вольво» и «ауди». Между новенькими, позавчера из салона, серебристыми в большинстве.
– Светлана Георгиевна, – адресуется он к старшему профессору, перед тем как заняться снятием двери. – Светлана Георгиевна, вы проволоку-то держите, которую я вам сейчас в руки дал, крепко держите, не отпускайте!
– Я и так изо всех сил держу, – с достоинством ответствует моя бабка.
– Держите, держите, не отпускайте!
Ну, тут и я был привлечен к освобождению двери от эспандера, к снятию ее, установке на снег и высадке профессорья.
Профессор-бабка оперлась на руку, предложенную шофером с несколько старомодной галантностью, и они стали подниматься по ступеням «университета». Профессор-мать держалась позади.
– А этот, в валенках, он вам кто? – спросил швейцар, он же охранник, распахивая перед ними дверь.
– Он мне никто, – малодушно, но внешне величественно отреклась бабка. – Это просто добрый человек. Он помог мне подняться по ступенькам.
Это было не первое и отнюдь не последнее предательство, свершившееся у меня на глазах. Но я был удручен. Просто убит. И когда дверь перед Андрюфыным носом захлопнулась, пропустив обеих дам в храм знаний, я сам взял его под руку, подвел к «копейке» и, повернувшись задом к очаровательным хозяйкам «мерседесов», «вольво» и «ауди» – блондинкам в маленьких черных платьях и небрежно накинутых на тонкие плечи норковых шубках – помог доброму человеку в валенках притянуть сине-белым эспандером желтую дверь к корпусу желтого помятого авто.
– Носить шубы из меха диких животных в наше время аморально, – громко, на весь двор, сказал я выпрямляясь. – Ноэми Кэмпбелл предпочитает ходить голой. Она-то может себе это позволить!
Я занял место рядом с водителем, и желтая «копейка» вырулила со двора.
Амор на площади белорусского вокзала (от биографа)
«Что ж уготовано мне?» – думал я, смотря в окно порыжелого от ржавчины авто. Тихо сыпал с серого неба снег на троллейбусы, застывшие в серой каше на пути своем к площади Белорусского вокзала. Неслышно двигались в выхлопном дыму, словно в вате, стада блестящих машин.
«Амор, что ты мне уготовил? Как распознать твои лики? Как пережить твои муки?» – Так обратился я к богу, назвав его именем звучным излюбленной мною латыни. Но площадь молчала, и снег по-прежнему падал и таял. Сквозь пелены и завесы серого снега я видел: горы возносятся к небу, древние дикие горы, и в льдистых потоках резвятся их древние дети – тритоны. Сильные, нежные дети в ярко-пятнистых покровах – словно цветы под прозрачными стеклами оранжереи.
«Древние дикие скалы, закрывающие полнеба, – и крохотные голые создания. Великое и малое, вечность и мгновение, чистая геометрия системы и бездны истории – все для тебя». – Вот что ответил мне Амор и, не оглянувшись, покинул площадь заснеженной мысли.
«Держите деньги в банке», – сквозь снежную кисею прочел я на придорожном постере. Купюры зеленели за стеклом литровой (всего-то!) банки, и тщетно стремилась проникнуть и приникнуть к ним крыса, приподняв на лапах свое жилистое тело много испытавшего терпеливого зверя.
Биограф – о причинах и следствиях (вторая идея спасения и сразу же еще одна)
В те годы – яркие и смутные, пронесшиеся мгновенно, как стремится поток по мостовой в июньскую грозу, пролетевшие весело и тревожно, как мелькают вагоны скорого, – мимо, мимо, – но вот уж тихо и недоуменно смотрит вслед одинокая фигура на полустанке, недвижная на обочине жизни, – в те годы каждый мечтал унестись, не остаться… Как быть? Что предпринять? Предпринимать… Предприниматель… Что затеять, чтобы весело нестись куда-то по какой-то радуге на грозовом небе… Только бы не остаться, не отстать, не опоздать, успеть! Кто не успел – тот опоздал! Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным! Если ты такой умный, так почему тогда такой бедный? Аксиоматика времени…
Мне кажется, что и этот способ спасения, как и все свои мысли, будущий профессор получил созерцая. Так уж устроена материнская мысль, такой у матери дар – думать глазами. Умозрение, в самом прямом и первоначальном смысле.
Случилось это скорее утром, когда в окно скользнули первые, невыносимо яркие лучи, возвестившие начало весны света, – проникли и остановились сияющими пятнами среди таких же пятен оленьей шкуры, разостланной на полу в виде коврика – в него давно обратилась вытертая материнская шуба… А может быть, и вечером, когда взгляд матери, вобравший картины тусклого дня коммерческой «университетской» жизни, потускневший от однообразия студенческих лиц и обличий, устремился к привольным, свободным мазкам божественной кисти, легко нанесшей светлый узор на блестящую шкуру цветка-оленя, – устремился для последнего спасительного утешения перед зияющей бездной ночи.
Смысл задуманного стал мне известен на следующий же день, когда мать вернулась из Ленинки, села за компьютер и, заглядывая в стопку листков-выписок, стала сосредоточенно что-то писать. Картина была знакомая, но стоило мне, как всегда, подойти к ней с уроками и попытаться подсунуть под локоть тетрадку с непосильной для меня задачей по геометрии – мать могла и это, – как я встретил жесткий отпор. Но глаза ее лучились, она улыбалась. Я всмотрелся в листки, исписанные ее летящим почерком, – они выглядели так, будто черной ручкой кто-то усердно рисовал на белой бумаге чаек. Привычных очертаний греческих букв не было. Была латиница, но еще больше цифр. Адреса, имена и фамилии. UNITED KINGDOM, – читал я. – SCOTLAND. Так на каждом листке. И странные названия: «HIGHLANDER: RED DEER FARM»…
«LOCHALSH DEER PARK»… «THISTLE FARM: RED DEER & ROE»…[21]21
Соединенное Королевство. Шотландия. «Горец. Ферма благородных оленей», «Олений парк Лохэлш», «Ферма «Чертополох»: благородные олени и косули».
[Закрыть]
Как всегда в эту зиму, шел снег, и, как часто бывало, оказалось, что в школу я не иду: все на целый день уезжают. И я. Я тоже.
Грохотнул лифт, серой пасмурной свежестью дунуло из распахнутой пинком двери, и гром раскатистого хохота возвестил: все мы под крылом Погодина – большого и хищного друга, этакой акулы-няньки, с этой минуты и, по крайней мере, до возвращения. Стало тепло и весело. Праздником стал даже выход на ступени крыльца. Раскрасневшаяся мать и я, обо всем городском уже позабывший, воссели высоко на жестких дерматиновых скамьях новенького армейского УАЗа. Отец в меховом экспедиционном полушубке сел впереди – рядом с НИМ – синеглазым пиратом морей зоологической науки, красавцем и своим парнем, мужиком и профессорским сыном. Профессором у него была мать. А у меня тогда – только бабушка. И прабабушка. И прадедушка. Но и мать, моя мать, подавала определенные надежды. Если бы только не этот ее новый проект…
Как все ее идеи, и эта была проста и, казалось, обеспечена всем необходимым. Олени питаются на неудобьях. Жуют ветки и веники. Все это дешево. Подкормка – не корм. Содержание вольное или вольерное, никаких укрытий на зиму. Частные рестораны множатся, как грибы. Venison – оленина, оленья вырезка с брусникой, – непременное блюдо европейского меню. Спрос обеспечен. А пятнистые олени – это еще и панты. В заповедных лесах средней полосы чувствуют себя как дома. А вот и он, молодой ученый и дитя-предприни-матель, хозяин сотни га вырубов и полян, кустов и кустиков, молодого подроста и гарей, – сидит за баранкой, веселится и балагурит, везет показывать землю – сто тридцать от Москвы, рукой подать. Создаем ООО, чего проще. Все схвачено. НО!!!
Денег надо бы поддомкратить. Огораживание, инфраструктура, работяги, охрана. Да чего там, сообразим. С шотландцами списалась, ребята оказались – класс. Помочь хотят молодой, нарождающейся демократии. Планы даже прислали – и ферм, и бизнеса. У-у-у-мничка ты, профессор наш будущий. Сегодня вот землю смотрим, а там и с деньгами разберемся.
Под колеса, обнажая серые языки сухого коченеющего асфальта, мела понизуха-поземка. Ветер задувал все сильней, и, словно провода высоковольтки, гудели где-то под самыми тучами заснеженные островерхие ели. Волоколамка бугрилась и топорщилась сурово, непокорно, и вздрагивал, поскрипывая, как на резкой волне северного моря, одинокий, затерянный в зимней пустыне челн первопроходца перестройки – не драккар, так строптивый «козлик».
Чуть было не пробежал он обшарпанное блочное строение администрации Лотошинского района, но тут водитель тормознул и вышел – «отметиться» у знакомых. Видно, тех, кто с землей помогал. В продолговатое боковое окно под брезентовым тентом я видел снег и снег. Впереди, за лобовым стеклом, простирались белые дали, колыхались черные кулисы ближних елей. Ни души, ни собаки – только черные кресты воронов над полями, только их гортанный презрительный лай.
«Козлик» поскакал дальше, по мерзлым буграм проселка. Позади остались низкие черные избы – словно горстка зерен на снегу. Дорога кончилась. УАЗ стал. Мы вышли в снег.
Взрослые осматривались, Погодин хохотал, наслаждаясь лучшим зрелищем в мире – видом своей земли.
И я глядел перед собой, вокруг себя… Не так уж я был мал. Но откуда узнал я, как успел я впитать, как вбирает сухой песок дождевую воду: Гея, богиня, несущая поля и луга, леса и дороги, цветущая весной, роскошно благая летом, плодоносящая в осень, зимой укрытая, как медведица, снежным одеялом, текущая реками, плачущая прозрачными слезами ручьев, ясноглазая и ясноозерная – ничья, и не может она быть чьей-то.
И, слыша за спиной смех Погодина, я отвернулся к деревне. Крайняя избушка была совсем рядом и совсем крохотная. Я подошел ближе. Черные бревна сруба, низкая крыша под грузом снега… Не окно – а повыше моего лица узкая вытесанная продольная щель. Из нее валит пар. Еще шаг – и в щели показались коричневые, внутри розоватые ноздри. Выпустили, фыркнув, новое облако пара и скрылись. Взамен появился черный, словно зрелая слива, огромный глаз, моргнул длинными, как у великана, пушистыми ресницами. На них оседал иней. Стоило протянуть руку, как под ладонь, потом в ладонь ткнулись нежные губы. Задвигались, пожевали руку – мягко, ласково. Снова выглянул глаз.
Но взрослые уже насмотрелись. Все сели, дверь лязгнула, и «козел» запрыгал в обратный путь. Я уснул почти сразу. Дома все смеялись и пили водку, а меня, накормив, уложили. Легкое, мягкое серое крыло козьего платка осеняло меня теплом и запахом стойла. Тем самым, сладким, молочным, что белым паром вырывался из мохнатых ноздрей. Больше о том дне я ничего не помню.
Документ Word 1
(примечание биографа: далее под аналогичными названиями приводятся файлы из компьютера «dell» в порядке авторской нумерации)
Второй семестр – это радость. Считанные дни короткого февраля – от шипящей поземки и колючей метели до золотого неба и синей капели – мгновение. Студенты легко смеются, и вот уже новая трава, новое солнце, молодой ветер порывисто бьется в вековых тополях бульваров, вот уже сессия. Буря – и все стихает. Все опустело, только позабытый всеми ректор один в кабинете с недоумением разглядывает непонятные, ненужные бумаги…
Прилив, море волнуется, обрушивается девятым валом приемных экзаменов – и море спокойно… Величественно, неторопливо, в короне белого золота вступает в Москву царственный август. Все – прочь. Ни машин, ни прохожих. Шум фонтанов на пустых площадях особенно звучен, и на карнизах по-весеннему лепечут голуби, и рассветы звенят голосами юных синиц – будто позвякивают друг о друга тонкие золотые спицы сказочно прелестной добродетельной девушки: молоко и мед, яблоки и облачная нежность…
Еще несколько золотых отблесков ложатся на тихий сентябрь, но небо хмурится.
Первый семестр – это серьезно. Быстро смолкают студенты – наши неперелетные птицы – ведь впереди суровое время. Время преподавателей – младших и старших, ассистентов, доцентов… Время профессоров. Как на скошенные поля слетается воронье, так сбирается и профессорье на заседания своих советов: ученых, диссертационных, редакционных… Переговариваются, прислушиваются, склоняя головы набок, неторопливо и с удовольствием закусывают… Кипит научная жизнь.
Так наступил октябрь. В те дни я вела дневник. Очень уж напряженной стала борьба за жизнь. Точнее, я впервые осознала свою жизнь именно так – не жизнь это была, нет, не жизнь… Борьба за нее. Жизни как таковой не было. Борьба была.
Я должна была снова записывать факты. Знала, что все умчится, все позабудется… Если не записать, если не тронуть голубых компьютерных полей – ничего не прорастет. И ничего не останется. Будто я и не жила вовсе. Впрочем, что ж? И вправду ведь – не жила… Это страшное напряжение души, это эпическое спокойствие духа, эта череда странных знаков вместо событий – что это? Разве жизнь? Нет. Это борьба. Агон. Борьба за то, чтобы агон не стал агонией.
Так каждый вечер одной давней, давней осени черным по белому – черной шариковой ручкой на белых страницах блокнота – я писала все: цены на продукты, симптомы болезней, температуру близких мне тел… Цену собственной жизни – ускользающей в пустоту борьбы, срывающейся с утеса в пропасть, потерянной навеки жизни…
Но листочки потом потерялись.
Теперь я пишу на экране.
Октябрь уж наступил… Оленья ферма требовала: теперь или никогда. Институтские аудитории продувались ветрами времени. Ветры метались по улицам и натыкались на стены, просачивались в щели дверей и окон, растекались шипящими сквозняками. Студенты поеживались, студентки томно кутались в куртки и шарфы… «Ты напрасно так бережно кутаешь// Мнешею и грудь в меха…» – звучал издалека холодный голос Серебряного века – северный, столичный голос, которым столетие спустя, в Эпоху перемен, заговорила массовая молодежная культура. Акмеисты ли были низвергнуты, попса ли вознесена на вершины, но все слилось: ни гор, ни долин, ни высокого, ни низменного. И только голос аквилона – ветра подлинно северного, самого чистого, обжигающе леденящего – по-прежнему пел за городом, среди пустынных полей, в прозрачных ветвях берез, в тяжелых темных кулисах елей.
Туда мы и отправились – дооформить документы на землю в Лотошинском районе и взглянуть еще хоть раз на саму землю, убедиться, что тогда, зимой, не привиделось нам все это, чудесное, – ни поле, занесенное снегом поверх желтого бурьяна, ни черная на белом лента ручья, чуть слышно воркующего, многоокого, со светлым взглядом полупрозрачных карих глаз – кремнистых окатышей, ни жесткие щетки кустистой поросли на вырубах.
Ребенка на этот раз оставили дома – день был будний, учебный, один из тех редких осенних дней, когда дитя было почти здорово.
Дорогу я помню до мелочей – вот шелохнулась от крыла сойки еловая ветка, вот метнулся почти под колеса, на серый асфальт, пегий заяц-беляк, поторопившийся с линькой, пели поземка и шины веселого уазика, свистел встречный ветер…
Чем ближе к Лотошину, тем суровей, казалось мне, хмурятся ели, грозят: а ну как не дадим документов, не поставим вам, москвичам, подписей и печатей, не отдадим наш ручей, наше поле…
От ужаса я так и не вылезла из машины, когда лихой Андрюха Погодин бросил ее к крыльцу райсовета, в последний раз газанув и тут же осадив рывком, как лихач-извозчик. Но наконец я дождалась.
Дверь низкого бетонного здания, серого, как лепешка блиндажа, распахнулась с праздничным хлопком пробки, вылетевшей из бутылки шампанского, – поддалась пинку дерзкой Андрюхиной ноги, молодой, длинной и сильной. В проеме показался сам Погодин. Он улыбался, подняв над головой белую папку.
Отмечать событие решили на поле – уже нашем, точнее, Андрюхином, а еще точнее – принадлежащем теперь его фирме с веселым названием «Терратек». В этом слове мне чудилось что-то рептильное, будто шелестя погромыхивал какой-то чешуйчатый ящер или змея свивала и развивала кольца. Но и поле, и звонкий ручей, и выруба – до черной каймы леса за ними – все теперь было Терратеково, так что свистящий змеиный призвук этого странного слова быстро затих, слившись с шуршаньем пожухлой осенней травы.
Мой Алексей, Андрюха с папкой в руках, его компаньон – жуирующий сын какого-то академика, с постоянно змеящейся улыбкой тонких красных губ, непрерывно щелкающий крышечкой серебряной походной пепельницы, словно вурдалак языком, еще один наш коллега – рыжебородый приятель мужа, исследователь природы Севера и знаток белых медведей, он же простой российский викинг, способный легко и без мухоморов стать берсерком, и, наконец, я сама, то есть все учредители будущей оленьей фермы, прошли друг за другом след в след, как ирокезы, и со вздохом облегчения опустились в траву у ручья.
Бутылку «Столичной» Андрюха, как и все бывалые путешественники-первопроходцы, положил в ручей. Сын академика раскинулся под октябрьским небом, устремив к нему взгляд таких же белесых глаз, и защелкал серебряной крышечкой. Остальные – простые смертные – открывали консервы, нарезали колбасу и хлеб. Выпили и, жуя, затихли. Я смотрела в сторону.
Острые лезвия сухой осоки, за ними прогалина мха. Серо-желтого, почти бесцветного, мягкого. Мне показалось, что я совсем одна здесь, у ручья, на болоте. И что я совсем другая… Или, наоборот, я самая… Я коснулась красного амулета у горла… И то ли послышался, то ли померещился мне мой собственный – но не мой, нет, совсем чужой тихий голос, даже не голос – так, голосок, какой-то писк или шелест:
– Приютите, маленькие твари, на болоте пришлую беглянку – может, отыщу в туманной мари я себе невидную полянку. Опущусь на мягкий мох устало, обопрусь о сосенку кривую – из еды мне надо очень мало: ягоды пусть птицу боровую на зиму откармливают гладко… А меня зима уж не увидит: я цветок разыскиваю сладкий. Знаю, он ко мне навстречу выйдет – белый венчик в черной паутине ведьминских дурманящих прожилок… Сердце то забьется, то застынет, и забудет все, чем прежде жило… На болоте тихо, очень тихо. Только под корнями кто-то стонет. Это плачет в родах лесачиха… Бедная, ведь и тебя прогонят, нежную, безжалостные дети: солнышко и птичек им покажешь, каждую былиночку на свете – и уйдешь, и ничего не скажешь…
Ветер охолодил мне лоб, и я подняла отяжелевшие веки.
Вдали стайки коноплянок перелетали над пустым полем, будто кто сеял и сеял пригоршнями просяные зерна.
Прямо передо мной, в сплошной стене бурьяна, несколько стеблей чуть дрогнули – или мне показалось? Застыв, я всматривалась в сомкнутый строй желто-серых копий. Они были неживыми, неподвижными, но я чувствовала чей-то взгляд. И – вот оно! Стебли снова чуть шевельнулись, и я увидела глаза. Желто-рыжие, прозрачные, как кремни на дне ручья, сосредоточенно-бесстрастные. Воздух между стенами травы колыхнулся в мою сторону и донес острый запах зверя. Стебли сомкнулись, и глаза исчезли. Ни шороха, движение еле уловимое… Я обернулась к учредителям. Они торопливо наливали по второй. Я механически выпила, что налили, и стала смотреть в ручей. Прозрачные струи мыли и перекатывали желтые и карие камни. «Волчья ферма, – подумала я. – Волчья ферма, вот что здесь такое. А оленей на убой разводить я не смогу».
– А знаете, коллеги, – раздался сдержанный, подчеркнуто мужественный голос рыжебородого викинга, покорителя Арктики и покровителя белых медведей. – На худой конец у меня еще одна идея есть. То есть если профессор денег не найдет. Богатая идея, между прочим. Жаль даже продавать.
Сын академика брезгливо поморщился:
– Да говори, чего уж там. Хорошо сидим! И все налили еще по рюмке.
– Богатая, – повторил первопроходец. – Только, знаете, она может, конечно, показаться немножко не того… То есть как раз того…
– Чего – того? – спросил веселый Погодин. – Это то, что надо – того! В чем дело-то?
– Да дело такое, странное. Ну то есть может показаться. А по мне, так нормальное, дело как дело! – Голос викинга окреп, послушно выражая высокую степень независимости и деловитости.
– Ну, не томи душу, что ты, едрить твою кочерыжку, быка за рога тянешь, – пророкотал Погодин. – Скоро ехать уж, а ты все телишься. Говори давай, да поскакали.
– Да у меня в последнем туре на «Ямале» – ну, вы знаете, я с лекциями там катаюсь на Северный полюс, туда и обратно, и еще туда и обратно, за хорошие бабки, туристам про медведей рассказываю, экологически народ просвещаю – вот как раз в августе этом встреча одна была. Занятная. Я и забыл как-то, а сейчас вот вспомнилась. Посидел тут с вами, и вроде как предпринимательство во мне шевельнулось.
– А, черт, – гаркнул Погодин. Слово «черт» он выговаривал барственно-округло, так, как делали это в начале века: «чОрт». – Чорт с ним, где там у тебя шевельнулось. Дело в чем?
– Сижу я на ледоколе в баре – нам суточно по 15 баксов на выпивку полагается, «Хенесси» должны наливать, льют, правда, баланду дагестанскую – так сижу я в баре, и тут ко мне немец подваливает. Невзрачный такой господин – пухленький, щечки, весь розовый, кудерьки какието вокруг лысины незаметные… «Герр лектор, – говорит, – как тут, на полюсе, хорошо! Prosit», – говорит. Ну и я отвечаю. Выпили. «У меня к вам как к русскому полярнику есть одно предложение. Вы только не удивляйтесь». Ну я, понятно, отвечаю, что меня мало чем удивишь. «Да нет, – говорит, мое предложение таково, что удивить может. Вы, – говорит, – представляете род моих занятий?» – «Нет, к сожалению, нет». – «Моя жизненная миссия, – продолжает он, потряхивая своими серебристыми кудерьками и розовыми щечками и попивая «Хенесси», у него-то чистейший, – моя жизненная задача и мой бизнес
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































