Текст книги "Профессор риторики"
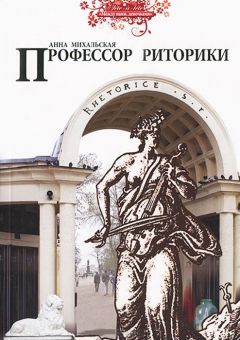
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– а они для меня едины, как, полагаю, и для вас, мой молодой русский друг, – состоят в том, что я тот, кто стоит за спиной у врача». – «???» – «Иначе говоря, я обеспечиваю людям продолжение пути». Ну я, понятно, сник. Вот еще, думаю, не хватало евангелиста какого-нибудь на мою голову, проповедника бродячего. Эк куда его занесло: и на полюсе обращает на путь истинный. Тут полюс. Точка. Какой путь, к едрене-фене? «Да вы вряд ли верно меня поняли, – замечает мой турист, – я не из этих. Я, знаете ли, хозяин… крематориев». «Да? – спрашиваю. – И сколько их у вас?» «Немало, – отвечает. – Все, что есть в фатерланде, – все мои». Ну, я не очень-то и удивился. Подумаешь. Ну, крематории так крематории. Каждому свое. «А в чем же, спрашиваю, ваше ко мне предложение?»
– «А вот в чем. Вы чувствуете, молодой друг мой, особую силу здешних мест? Притя-гательную силу успокоения? Упокоения мятущейся души человеческой?» – «Чувствую, – отвечаю. – Я без Севера не жилец. Давно уже».
«Ну вот и славно, – отвечает любитель сосисок с капустой. – Думаю я, что многие, да, многие мои соотечественники – и ваши богатые русские, «новые русские», а число их растет, и скоро имя им будет легион, – да, многие, весьма многие захотели бы предать этому именно месту останки своих бренных тел, ту, знаете ли, пригоршню праха, что остается от каждого из нас в начале его будущего пути». Я спорить не стал. «Открываем на полюсе постоянную полынью, – говорит немец, – и опускаем с подобающим обрядом – разработать надо, кстати, – в эту точку пространства урны с пригоршней праха. Наладим постоянное сообщение. Специальные туры для родственников. А вас я попрошу мне помочь. Ну, с российской стороны. Многое нужно будет уладить, а? Prosit!» Ну, выпить я с ним выпил, а отказался. Некогда мне, на Врангеля пора, да и неловко как-то. И забыл. А вот сейчас вспомнил. Может, бортануть этого немца, да самим и заняться? Деньжиш будет – хоть из Флориды не вылезай.
Викинг произнес это райское слово – Флорида – с ударением на первом слоге, как все продвинутые россияне. Демократы, космополиты, реформаторы.
Все молчали.
– Ладно, – отозвался сын академика. – Подумать можно. А что, собственно?
– Подумаем, – сказал Алексей, потирая лоб. – Ну это уж на крайний случай. Мрачновато как-то.
– Ну, профессор, а пока дело все-таки за тобой, – пророкотал бархатный погодинский баритон – обаятельный, мужественный, победный. – Думай своей ученой головой, где деньги взять. Как договаривались. Земля
– наша, начальный капитал – ваш. Да ведь ты уж придумала вроде. Колись, профессор! Когда деньги будут?
– Скоро, – сказала я, с отвращением замечая, что сын академика изогнул свои красные губы в саркастическую параболу. Странно, но даже вместе с недоверием им удавалось выражать похоть. Серебряная крышечка щелкнула. – Скоро, – повторила я, сама себе не веря, но стараясь нарочито беспечным тоном убедить в своей серьезности учредителей.
– Скоро – это когда? – женственно-капризно спросили красные губы. И сложились в новую кривую, еще более замысловатую.
– В четверг, – почему-то ответила я. – В четверг должны быть. Созвонимся.
Алексей смотрел на меня, даже не пытаясь скрыть недоумения.
– Заметано! – воскликнул веселый Погодин, и пикник покатился к концу. Между стеблями травы и над полем потянуло холодом. Подползли сумерки.
УАЗ поскакал в обратный путь, резво, как лошадь в родную конюшню, – сперва запрыгал по проселку, потом полетел по шоссе. Я напряженно думала, молча глядя в окно на черные стены сомкнутых елей. Так. Сегодня звоню Виталине. Завтра – за банкой. Найдем, не можем не найти. Деньги, что она обещала, отдадим Погодину сотоварищи – пусть действуют. Я не буду. Все равно все провалится. Как проваливается сейчас все у всех, то есть у таких, как мы.
Ведь и Погодин с его мужеской бравадой, и сын академика с красной улыбкой, и рыжебородый викинг – это наши. Это мы. Но нет в нас чего-то необходимого для успеха. Для успеха денежного, бытового, крепкохозяйского. Нет, ни о ком из нас не скажешь: он прочно стоит на ногах. Даже о Погодине: его сильные длинные ноги все пытаются врасти, да не в ту почву. А сын академика и вовсе постоянно лежит. Мечтает о чем-то, глядя в небо. О следующей женщине. О мириадах новых. Но каждый талантлив, и по-своему. Только того самого – нет. И не будет никогда. Успех у каждого будет. Придет со временем. Но – не тот. Какой, неизвестно. Но не тот, которого сейчас все ищут, ждут с трепетом, с нетерпеливой и страстной дрожью, как ждут любимую… Любимого… Как ждут те, кому есть кого ждать, кому повезло. Повезло… Согрей мою руку, красный камень!
Боже мой, как же трудно сохранить себя. В этой путанице, что раскинута кругом, словно ловчая сеть, в этой путанице слов и молчания, дел и бездеятельности, надежд и воплощения… И речи так надрывно-уверенны, и жесты так торопливы… И скоро зима… Миновал Покров.
И я погрузилась в какие-то грезы, а может, это были давно забытые воспоминания… Или другая жизнь, или мечты о ней…Он любит сны смотреть, а я глаза открою в рассветных сумерках – и тут же серый свет, как заяц, прыг в окно – и вот уж над горою глаголет ворон, и второй – ему в ответ… А день суров, и пики мощных елей сквозь небо низкое к нордическим богам в чертоги тянутся, в их снежные постели, и волчьи шкуры туч сползают к их ногам… Пока он видит сны, над белым платом поля нечесаных берез свисают волоса, и легким нарыском в бескрайнее раздолье, играя на бегу, строчит свой след лиса…
На этом я и уснула, а уазик все прыгал, все несся, и встречный ветер уже бросал в стекло пригоршни жесткой и мелкой снежной крупы.
Вечером Виталина отозвалась после первого же гудка. Конечно, ждала она не меня. Обидно, когда звук собственного голоса вызывает такое разочарование. Но сейчас это было не важно. Эпоха перемен уже научила меня кое-чему. Арбатский мудрец как-то сказал о самом умном греке: он поставил свою жизнь как проблему. И решал ее, зачарованный поисками этого решения. Постоянно, неотрывно, ежеминутно. Что ж, и со мной случилось то же. Ведь и я человек, а даже кошка может смотреть на королеву. Почему же мне не думать, ведь и я – Нomo sapiens,Нomo ludens, Нomo agonalis, Нomo eloquens[22]22
Нomo sapiens – видовое название человека в линнеевской классификации: человек мыслящий; Нomo ludens, человек играющий, – перифраз определения и именования человека у голландского философа Йохана Хейзинги; Нomo agonalis – человек борющийся – перифраз, предложенный философом Якобом Буркгардтом, учителем Ф. Ницше; Нomo eloquens, человек говорящий, – мой собственный, блин, типа перифраз.
[Закрыть], наконец? Не играть, думая? Не бороться, думая и играя? Не говорить об этой мысли, этой игре, этой борьбе, этой речи? Говорить, правда, не с кем – сын еще мал, муж уже велик… Ну так что ж, говорить можно и так. Молча.
Сейчас наступил миг опыта, весьма важного для дальнейшего хода моих молчаливых рассуждений. Потому-то разочарование в голосе подруги не отвлекло меня от главной проблемы – надвигающейся метаморфозы моего наличного «я»… Перемены вероятной или только возможной? Кто это будет – «я» с деньгами? Но размышления пришлось прервать. Виталина проявила не только интерес, но и готовность выступить на поиски клада завтра поутру.
– Как можно раньше, – сказала она. – Очень рано…
Ну, скажем, в девять… Ох, это мне придется в семь вставать…
– Давай в десять – одиннадцать. Мне ведь за руль. А я если не высплюсь, то знаки путаю…
Сошлись на половине десятого. За ужином возникла новая трудность: у Ники поднималась температура. Я думаю даже, что неведомые науке возбудители таинственной болезни моего мужа, прибывшие в его теле на Арбат с далекого озера Лоб-нор в Центральной Азии, обитали теперь и в таком новом, таком тоненьком и нежном теле моего сына – теле, которому вряд ли суждено процветать и благоденствовать в Эпоху перемен. Да и переживет ли оно все это? – с тоской смотрела я на длинную шею, беззащитное горло, на чистую линию скул, под которыми заметны были увеличенные желёзки. Все это значило, что и завтра он не идет в школу, и опять оставить его одного на целый день – я не рассчитывала, что банка так уж сразу дастся нам в руки, – было жестоко.
– Ники, – решилась я наконец. – Послушай, милый. Мне нужно рассказать вам с папой одну очень интересную вещь.
Алексей, в этот вечер еще ни разу не пожаловавшийся на головную боль, поднял глаза над чашкой чая – горячего плиточного чая с молоком и с сахаром, такого, какой привык пить на Алтае, в Туве и прочих окрестностях Лобнора – все они для меня загадка и неизвестность. Но мне говорили, что чаша этого озера лежит у восточной окраины Такла-макан (что это, я не представляю), к северу от Кунь-Луня (это, кажется, хребет), втысяче километров на юг от русского Алтая, куда ходили староверы в поисках Беловодья.
– Завтра утром мы все поедем искать клад, – начала я. Наступила пауза. Ребенок, верно, слишком ослаб, чтобы энергично радоваться. Алексей не поверил. Но уже после первых моих фраз понял, что все более чем реально, и быстро связал повесть о банке с моими странными обещаниями добыть к четвергу «начальный капитал». Глаза его, помутневшие от тягот лобнорской хвори, ожили, засветились, из стенного шкафа была добыта саперная лопатка и топорик, появился даже фонарь – на всякий случай, если поиски затянутся, – с антресолей сняли рюкзак, приготовили бутерброды и термосы.
– Собаку, конечно, берем, – сказал мой муж. – Пусть животное побегает. Да и потом… лес все-таки. И дело такое… стрёмное.
Проверили, на месте ли намордник Батона. Так назвала нашего среднеазиата хозяйка его матери – суки Алаш, дочери Акбилек – Белые Лапы, вывезенной Алексеем из Туркмении. Акбилек, в свою очередь, была, а может только слыла, дочерью легендарного алабая Акгуша – Белой Птицы, победителя всетуркменских боев. Мы оставили псу кличку Батон, хотя, сохранив окрас и запах свежевыпеченного хлеба, ростом и весом он давно превосходил любого «братка» из самых крепких. Оставили, потому что имя появилось не зря. Батон родился в тот год, когда на мою месячную стипендию докторанта – человека, пишущего докторскую диссертацию и освобожденного на это время от преподавания, будущего профессора, как правило уже не первой молодости и имеющего семью, то есть, на официальном языке чиновников, иждивенцев, – так вот, когда на мою докторантскую стипендию можно было купить 10 (прописью: десять) батонов белого хлеба. И то если достанется. Впрочем, недаром мой арбатский Учитель не только знал, но и верил: ни одно имя не является зря. Просто так, случайно. Это и была его главная заповедь.
А наутро случилось непоправимое. Так, по крайней мере, мне показалось, когда я проснулась – раньше будильника, но не от волнения, а от непривычного света. Утро не было таким уж ранним, но в окно смотрела не октябрьская мгла. И не солнце. Белый свет упал на мою расправленную ладонь, и я увидела все линии на ней так отчетливо, как видит их, верно, старая цыганка. Я вскочила, и вот я у окна. Все в снегу, все…
Ну, спасибо, удружил, Покров-батюшка. Опоздал ровно настолько, чтобы укрыть банку под землей до весны. Как теперь искать клочок суши размером с носовой платок, клочок, покрытый сухой травой или еловой хвоей – кто знает? – заветный квадратный дециметр, под поверхностью которого таится трехлитровка, наполненная долларами, словно весенней травой, налитая до краев зеленью надежды? Куда тыкать шампурами? И снег скрывает все следы…
А как я всегда любила первый снег! Как ждала, пока мрак поздней осени будет изгнан бело-лунным сиянием наступающей зимы! Какой это всегда был праздник – победа света, чистоты, покоя! Как это бывает, я знаю точно… Успела изучить за долгие годы – начала лет в пять, а сегодня вижу в пятидесятый раз. Даже составила год назад описание этого события, странного, как и все земное. Вот оно.
Акт первый. На рассвете закрываем все небо адской сумрачной завесой. Накопим снега – пусть он прогибает кулисы туч иссиня-черным весом. Второй. Явился снег. Не нужно много. Лишь подчеркнуть оград прямые плечи, мотив решеток и застывший строго абрис ветвей, простертых к нам навстречу. Здесь главное – движенье небосвода и глыб клубящихся, чтоб драма нарастала, чтоб в первый день зимы, творенья года, раскрылось сердце и вострепетало перед явленьем солнца в акте третьем – пусть молнией разит зелено-синей, пускай обрушит золотые плети лучей на тверди согнутую спину! И под землей, в метро, соединятся уста двоих – на миг, перед разлукой: они торопят день, чтоб вновь обняться, и гаснет он с покорным снежным звуком…
Да, написано всего год назад. Кто бы мог подумать, что сегодня меня тоже будет волновать то, что происходит под землей. Но совсем иное. Тогда я плакала – стояла на перроне, ждала поезда и даже не вытирала слез. Я знала: никто не поцелует меня в метро вот так, как целует сейчас этот мужчина эту женщину. Вполне пожилые люди, между прочим. Но – юные. Счастливые. Она поправляет его шарф. Они расстаются. Нет, меня – никто. Никогда, никто так не целовал. Даже в молодости. Все кончено. Кончена жизнь. Зачем она мне без любви… Но поезд, грохоча и сверкая глазами, выдвинул из черной норы свое гибкое тело, зашипел и остановился. Я покорно вступила в раздвинутые двери, смахнула перчаткой слезы, взялась за поручень и унеслась в земные недра.
И осталась жива. И сегодня волнуюсь, желаю, ergoживу. Что ж, снег снегом, а выбора нет. Я сняла трубку и набрала номер. Виталина выехала из своего Малого Левшинского нам навстречу.
Мы уселись в ее скромной подержанной иномарке. «Форд-скорпио», для одинокой дамы великоват, но в целом практичен, а главное, бандитского внимания не привлекает. Ники, обмотанный под пальтишком серым козьим платком (температура к утру так и не опустилась ниже 37), Батон, громыхающий стальным намордником по стеклам «форда» (желание бдительного охранника и телохранителя видеть, куда везут хозяев, было удовлетворено, и собака заняла место на сиденье у окна), Алексей с саперной лопаткой и шампурами, я – без особых примет. Виталина, невыспавшаяся и взволнованная, последней заняла место за рулем, как и подобает капитану судна, выходящего в открытое море судьбы. Аквилон резвился вовсю, но «форду», длинному и обтекаемому, как акула, даже упрямый северный ветер был нипочем.
По Садовому выехали на Тверскую, пронеслись по Ленинградке – о серьезных пробках в те времена москвичи и не думали, – и вот мы на Волоколамке, ухабистой, как путь из варяг в греки. Мы доехали до перекрестка с небольшим кирпичным зданием – 11–12-м батальоном ДПС – и Виталина повернула налево, судя по указателю, – к Звенигороду. «Странно, – подумала я. – Ведь заброшенный судьбой и строительными бригадами Виталинин коттедж, по ее рассказам, стоит где-то по дороге к нам, то есть к Троицкой, а значит, от развилки направо». Но промолчала: хозяйке видней. Вот начались взгорья и спуски. Шоссе то вздымалось к небесам, то ниспадало в долины бывших оврагов. Значит, мы почти на въезде в Звенигород. Ники спит, Батон устал отслеживать маршрут и уронил голову на лапы, свесив с сиденья тяжелую морду в стальном забрале, Алексей дремлет, приклонив лысину с только затянувшейся язвой мне на плечо. «Язва по форме точно повторяет озеро Лобнор на карте Центральной Азии», – с удивлением замечаю я.
Это могло бы быть последним, что я заметила в жизни.
Визг тормозов, скрежет челюстей двух столкнувшихся капотов, звон и град разбитого стекла – всего этого никто из нас мог бы уже и не слышать. Если бы Виталина заснула не совсем.
Но она погрузилась в сон целиком. Вся. Так, что даже ее ступня в резиновом сапоге поднялась над педалью газа, и скорость упала как раз к тому мгновенью, когда, не заметив знака «Уступи дорогу», заботливо укрытого, как принято на наших дорогах, от взгляда водителей в зарослях придорожных растений, она наехала на белый «жигуль». Тот тоже успел притормозить, так что от удара у «форда-скорпио» только вылетело стекло со стороны Батона да автомобиль приобрел саркастическую усмешку, как будто акула заметила невинную и беспечную жертву.
«Хорошо, что я усадила всех назад», – подумала я эгоистично, видя, что Виталина невредима, проснулась, слегка ударившись лбом о переднее зеркало, и, потирая несильно ушибленную о руль коленку, выходит навстречу разъяренному водителю «жигуля».
– Дамочка, блин, куда смотришь, твою мать? – орал он, сжав кулаки и надвигаясь на сонно-спокойную Виту. – ДПС вызываем? Или миром?
Гнев звенигородского обывателя был сыгран по системе Брехта, а не Станиславского, с должным отстранением от подлинной эмоции. И хорошо рассчитан: схема ДТП совместными усилиями была составлена, деньги за чуть помятый капот отданы на месте, царапина на лбу звенигородца залеплена пластырем, и мы двинулись к батальону 11–12-му регистрировать происшествие.
– Вита, – все-таки спросила я, кутая Ники в козий платок поверх шапки (Аквилон, пользуясь разбитым окном, проник в теплое нутро «форда»), – а почему ты в Звенигород въехала? Где твоя дача-то бывшая?
– Ах, – отвечала легкомысленная женщина, – я и забыла. То есть не то чтобы забыла. Не забыла, конечно. Просто задумалась. Задумалась – ну и повернула не туда. Понимаешь?
Батальон 11–12-й готовил нам серьезную встречу. «Жигуль», как ни в чем не повинная жертва владелицы иномарки, был отпущен милиционерами незамедлительно. А вот сама иномарка вызвала самые серьезные сомнения. В воздухе витало нечто настолько неприятное, что мы – и Алексей как мужчина, и Ники как больное дитя, и я как почти профессор, – словом, все, кроме Батона, поднялись следом за виновницей ДТП по крутым ступеням туда, где высоко над перекрестком, словно ястребы в гнезде, восседали блюстители порядка на дорогах.
– А «фордик»-то ваш в угоне числится, сударыня, – не отрывая глаз от голубого экрана компьютера, возгласил милиционер. – В угоне, понятно?
– Как? – ахнули мы – дитя, почти профессор, мужчина и женщина.
– А вот так.
– Сколько? – неожиданно хладнокровно произнесла моя подруга.
Наступила совсем уж неприятная пауза. Милиционер смотрел на экран и молчал. Молчали и мы. На пустынном перекрестке не было ни одной машины, кроме нашего криво оскаленного «форда». Мягкий, влажный снег, как вата, поглощал даже писк синиц. Стояла тишина.
И тут раздался звук. Неожиданный, ни с чем не сообразный и очень громкий. Рядом, прямо у входа в батальон, во всю мощь своего дикого горла завыл волк.
Милиционер подскочил на вертящемся стуле, спрыгнул с него и распахнул дверь. За его спиной собрались другие батальонщики. Вой превратился в стон, заунывной кривой опустился вниз, чтобы тут же вновь взмыть вверх – крещендо.
– Ой, какая собачка! – заголосил вдруг дежурный тонким женским голосом. – Собаченька ты моя! Азиатик! Азиатище ты мой дорогой! Ой, какая собачка-то у вас!
И, птицей слетев со ступеней, строгий постовой поспешил к «форду». Батон, высунув в разбитое окно свою громадную голову и подняв к серому неласковому небу морду в стальной сетке, продолжал выть.
Милиционер почтительно остановился на должном расстоянии. Мы подошли ближе. Батон смолк и попытался протиснуть в окно передние лапы и грудь.
– Место! – мужественно и небрежно произнес
Алексей. – Место, Батоша! Собака послушалась, прижала уши и заскулила.
– Он у меня туркмен, – бросил Алексей, не оборачиваясь. – Из Ашхабада. От победителя всетуркменских боев. Акгуш – слышали, конечно.
Милиционер кивал, выражая свое восхищение стоном и мычанием. Наконец он обрел дар речи. Это выразилось в том, что мы были немедленно и безвозмездно отпущены, приглашены в случае чего заезжать и снабжены парой сарделек для потомка победителя боев.
Только теперь мне ясно, что и нам выпало жить в романтическую эпоху. С нее и начался Период мутаций. Эпоха перемен, как называет наше время мой сын.
А тогда его отправили домой. Пока Батон заглатывал сардельки, а намордник лежал рядом, на перекресток вырулила «Нива» по имени Нюшка. Она легко узнаваема по цвету – только в пионерлагерях и столовках социализма с человеческим лицом (как, впрочем, и с нечеловеческим) бывал такой. Это особый цвет особого напитка под названием «кофе с молоком». Вместе с социализмом исчезли лица, исчез и напиток. Но цвет остался. Нюшкой называл свою машину Алексеев брат. Он же наш дачный сосед. Остановился поздороваться, разглядеть новую ухмылку «форда-скорпио», узнать, какова наша дальнейшая судьба. О ней мы молчали. Доедем до Истры, там дела по страховке. А Ники отвези, пожалуйста, домой, если не в напряг. То есть если тебе не в лом. А то у него температура поднимается. Ники, крест-накрест обвязанный серым платком, затянутым за спиной узлом, как во времена войн и бедствий, бледный, словно выпавший снег, так и сидел в «фордескорпио». Брату, тоже Николаю, дали ключи от квартиры, я поцеловала свое дитя в горячий лоб, Нюшка вздрогнула, мгновенно приняла с места, понеслась к Москве, разбрызгивая мутную снежную кашу, и исчезла из виду.
Мы сели в «форд» напряженные и растерянные. Виталина, сдвинув брови и, я подозреваю, сжав зубы, тронулась в нужном направлении. Ехали молча. Алексей поглаживал Батона, я смотрела в окно. Наконец «форд» притормозил, свернул на боковую дорогу шириной в одну бетонную плиту и вскоре остановился на обочине, почти под навесом темных еловых веток.
– Достаточно безопасно? – спросила Вита каким-то бесцветным голосом. – А то я могу и в лес въехать. Тут ровно.
– Давай лучше в лес, – ответили мы хором. – Спокойней будет.
Машину поставили так, чтобы с дороги не было видно. Белый низкий «форд» снежным пятном светлел в прогале черных стволов.
Батон, освобожденный от поводка и стальных вериг на морде, с облегчением отряхнулся и забегал кругами. Алексей с саперной лопаткой дал нам с Виталиной по шампуру. Очень быстро мы нашли выворот – упавшую ель с поднятыми к серому небу корнями. А потом еще один, и еще… Ураган сделал место неузнаваемым. Деревья лежали, как воины, павшие на поле битвы. Мы разошлись и уже не видели друг друга за стволами и кустами подроста.
– А! – вскрикнула Вита. – Идите! Ко мне! Сюда, скорей! Алексей! Лопату!
Спотыкаясь о корни, скользя по свежему снегу и старой траве, мы побежали. Виталина стояла, воздев руку, как ветвь. Но не просто так: рука ее держалась за ветку. За ветку елки.
– Смотрите! – проговорила она. Голос дрожал. Она указала на ветку другой рукой. И рука дрожала. Дрожала и ветка, на которой блестело серебристое колечко фольги.
Она отпустила ветку, нашарила в кармане куртки пачку своих тонких безвредных сигарет и не без труда закурила. Желтое пламя зажигалки трепетало, и колеблющийся конец белой «палочки здоровья» никак не мог с ним соприкоснуться.
Затянувшись наконец, Виталина вонзила шампур прямо себе под ноги, чуть не попав в сапог. Стальное острие вошло в снег, как в масло, до самого крючка на рукоятке. Виталина бросила сигарету и стала тыкать шампуром в землю вокруг себя с отчаянной яростью убийцы. Результат был тот же. И вдруг…
– Копай тут! – бросила она Алексею. – Тут!!!
И еще несколько раз погрузила острие в ровный, усыпанный серой хвоей, свободный от снега квадратик. Он был и вправду не больше детского носового платочка. Шампур входил только до половины. Мне показалось, что я услышала лязг.
Алексей расчехлил саперную лопатку и опустился на колени. Шапку он снял и бросил рядом, прямо в снег. Видно было, что ему жарко. Батон подошел, опустил голову, понюхал шапку, потом землю. Мы с Виталиной замерли.
Уже на третий раз клинок ударился о стекло. Этот звук расслышали все.
– Осторожней! – Виталина упала на колени рядом с Алексеем и протянула руки к лопатке. Он послушно передал ей инструмент. Его лысина покраснела, и сверху мне было видно, как очертания озера Лобнор проступают темным пятном под тонкой кожей.
У меня сильно билось сердце. Перед глазами стоял Ники в сером козьем платке. Я вспомнила, что он так и не выучил таблицу умножения. А это ему так нужно… Бедный, бедный мальчик. Его нужно серьезно обследовать. И лечить. Если бы были деньги… Боже мой, если бы там оказались деньги…
Виталина вынула из земли трехлитровую банку. В ней оказалось зимнее гнездо уховерток, много хвои, несколько горстей серой земли, легкой и тонкой, как прах, четыре мелких камешка, белая толстая личинка с рыжей головой и перемычками на восковом теле, свернувшаяся во сне колечком, и более ничего.
Мы встали, торопливо отряхивая колени. Нам было куда спешить – задержка на посту ГАИ отняла драгоценные часы короткого дня предзимья.
До темноты мы перерыли вокруг все. И все истыкали шампурами. Другой банки не было.
– Нет, – говорила Виталина, выжимая газ на пути в Москву. – Это все-таки не та. Крышки рядом нет. Я же ее крышкой закатала, как компот. Допустим, он выкопал банку, вынул деньги… Нет, глупо. Триста тысяч долларов так просто не вынешь. Я помню, как трудно их было засунуть. Потом что, он с собой консервный нож привез? Мы же вот не взяли… Впрочем, может, у него на перочинном лезвие есть… Нет, банка не та. Любой взял бы ее целиком, как есть, чтобы побыстрей, опасно все-таки: вдруг кто заметил и следит… А уж дома…
Я вспомнила почему-то прилавок в универмаге на Усачевке. В доме, на котором еще несколькими годами раньше, когда лицо социализма было нечеловеческим, можно было прочитать вывеску: «ПРОМТОВАРЫ». Даже теперь, в романтический период Эпохи перемен, здесь можно купить все, от тканей до кофемолки и шпилек. На этом прилавке мирно лежат крышки для банок, полиэтиленовые и жестяные, странное приспособление с черной ручкой для закатывания домашних консервов, щетки и проволочные мочалки для мытья посуды, затычки для ванн, с цепочкой, хозяйственные ножи, пакетики синьки, черно-желтое мыло – хозяйственное. Лежит здесь и тот предмет, который вызвал в моей памяти эту картину: желтая деревянная ручка со стальной насадкой из двух толстых изогнутых лезвий – одно подлиннее, другое покороче. На ценнике под ним надпись: «БАНКОВСКРЫВАТЕЛЬ». Рядом находился штопор с такой же деревянной ручкой, а под ним надпись: «ПРОБКОИЗВЛЕКАТЕЛЬ».
– Да, – сказал Алексей. – Банка не та. Это какая-то совсем другая банка.
Наступила тишина. Было слышно только, как сладко посапывает Батон, нагулявшийся за день. И все понимали: денег нам не найти. Клада не будет. Все.
– Это он, – с горечью произнесла наконец Вита, выразив то, о чем каждый из нас уже подумал. – Это он, конечно. Боб. Какая же я дура! Какая дура!! Он вырыл ее сразу же, как зарыл. Отвез меня домой, вернулся и вырыл. А мне сказал, что едет на работу. Да, я помню. Он тогда уезжал. И шофера вызывал, снова. Нет, ну надо же быть такой дурой!!! Я же знала, что для него деньги. Как я могла думать, что он бросит такую сумму. Мелочь для него, конечно, но тем более. Он скорей миллион потеряет, чем десять баксов. Думал, наверно, что я туда понесусь на следующее утро, одна. Вот и решил опередить. Спохватился. А я до сих пор не спохватилась. Не дни прошли, а год. Даже больше. Идиотка.
– Ну, – утешали мы, – зато ты доверчивый и вообще хороший человек. Прямой. Открытый. Великодушный. Это ведь важнее, правда? И без денег обойдемся.
«Обойдемся, – думала я. – Конечно, обойдемся. Оленья ферма, понятно, не состоится. Ну, и слава богу.
Туда ей и дорога. Хорошо бы Погодин вместо нас никого не нашел. Устроил бы там что-нибудь еще. Или вообще ничего бы не устроил. Это самое лучшее. Пусть так и течет по кремнистым камням тот чистый ручей, токуют тетерева на вырубах, ходят неслышно между стеблями тростника и бурьяна серо-желтые звери с прозрачными янтарными глазами… Но что будет с нами? На что лечить мужа и сына от лобнорской заразы? На что кормить их всех, включая Батона? Думай, милая. Сегодня думай, сейчас. Как там Ники с температурой? Что делать? Думай».
К тому моменту, когда мы распрощались с Виталиной на Кольце, у Смоленской, и ее «форд-скорпио», взывая к жестянщикам жалостно-кривой усмешкой, отплыл от бортика, чтобы перестроиться в левый ряд для разворота на Малый Левшинский, я все придумала. План спасения, по крайней мере на обозримую перспективу, был готов.
Но на организацию необходимого ушел еще ровно год. Насушенные этой осенью сухари и заквашенная вовремя капуста помогли нам продержаться до лета.
Небо не оставило нас. Весной, приехав на дачу, мы пошли через поле к Истре. Через то поле, что еще не было частным владением и вокруг которого не вилась, как колючая змея, серебристая проволока. Кто-то – новый ли фермер, старый ли колхоз деревни Санниково – не только все вспахал и – как это сказать: взборонил? Нет, наверное, проборонил поле. И что-то там, в глубине плодородной, хоть и сероватой, земли истринской поймы, скрывалось. Что-то было посажено. Что-то росло. Пока оно не выросло, мы ели щавелевый суп. Но вскоре из земли показалась темная, шершавая поросль. Это была картошка. Ею – начиная с коричневых горошин ранним летом и кончая крупными бугристыми клубнями осенью – мы пропитались до начала октября. И, конечно, разной дачной травой, огурцами, кабачками и ягодами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































