Текст книги "Профессор риторики"
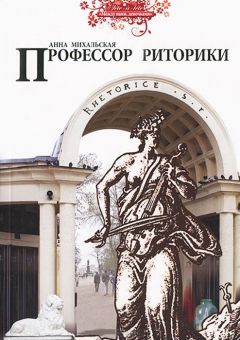
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Часть 5
Подобие
(Simile)
Пояснение биографа
Искать и находить сходное – исконный путь человеческой мысли. Аналогия – ее универсальный закон. Вот и хрия, этот совершенный образец полного доказательного рассуждения, велит ритору прибегнуть сейчас к подобиям.
Говорим о труде, уделе нашем – вспомним пчелу, неустанно по крохам пыльцы сбирающую дневной плод усилий, созидающую восковые соты… Вспомним о муравье, несущем свою непосильную ношу к общему дому и делу… О черном муравье, Lasius niger, что, ведомый заботой, снует у корней травы и привлекает к себе недоуменный взгляд: пристальный, сосредоточенный, детский.
Следуя древним, скажу и я.
Подобия времени – кто, как не мы? Но кто мы? И чему наше время подобно? А любовь?
Подобия нашей жизни… Но сама она, жизнь наша, не есть ли подобие жизни?
Рассказ биографа
Это случилось. Неделя не успела пролететь, а это случилось. Что, собственно, произошло, я не знаю. Вернее, до сих пор не знаю точно. Выяснилось, что мой профессор не из тех, кто вслух говорит о своем. Я только что понял это. Прежде я думал, что ничего своего у него и нет. Все его духовное имущество, на мой плоский, поверхностный, отвлеченно-жестокий взгляд, состояло из трех частей: общего с отцом, общего со мной и общего с нами обоими. Так в сундуке, синем сундуке с позолоченными скрепами, что стоит у нас на даче, хранятся шарфы, шапки, безразмерные шерстяные носки – всякая пригодная ветошь, которой может пользоваться каждый. Так и мысли.
Только теперь я вижу, насколько он был щедр, мой профессор: любую свою тему, любой мыслительный предмет легко превращал в общее для нас троих достояние… Но я-то как был слеп! Впрочем, трудно ясно видеть близкого человека. У сундука дно оказалось двойным. Нет, что это я! Дна просто не обнаружилось. Бездна. А в нее заглянуть нелегко. И особенно если она в чьих-то глазах. Верно, оттого эти глаза иногда и казались мне слишком светлыми.
Так или иначе, банка не понадобилась. Весь понедельник я провел в лаборатории – за работой и беседами с учениками. Неожиданно и не без вызова Лика сказала, что вряд ли посвятит всю свою жизнь изучению ящерок. Может быть, только часть. Разве что часть. Не исключено даже, всего два года, оставшихся до диплома. Если реально смотреть на вещи. Говоря, она слишком пристально смотрела вверх, на оконную раму, чтобы слезы не выливались из глаз, а задерживались нижним веком с густыми его ресницами. Моргать она избегала.
Пришлось, оторвавшись от статьи, направить заблудшую на путь истинный. Одна овца, легким шагом на моих глазах удалявшаяся в пустыню мысленного несовершенства, принудила меня потерять бесценный час, чтобы спасти все стадо. И когда я, взвалив ее на плечи (фигурально, конечно, но ноша не стала от этого менее тяжкой), вернулся в овчарню, работать над статьей было уже поздно. Вот, так всегда. Такова была цена, заплаченная за решение этой девушки поступить в аспирантуру и провести среди милых рептилий еще три года, кроме двух преддипломных. Итого пять.
Наконец, когда слезы ее высохли – не так уж быстро, – мы вместе, спокойно и неторопливо, как и подобает будущим ученым коллегам, направились к метро. Лепил мокрый снег, для начала ноября неожиданный и крупный. Странно, как это зима всегда застигает врасплох. Университетские фонари налились лунным молоком одиночества. От дома меня отделял теперь только неизбежный «Макдональдс»: пожевать фанерной картошки, запивая ее кокой и заедая гамбургером – ритуальная трапеза окончания дневных трудов.
Дверь открылась в пустую квартиру. Темнота в коридоре. Непривычный запах на кухне: к моему приходу никто почему-то не жарил курицу. Громко, как голодный живот, урчал холодильник. Профессора не было дома. Я не стал удивляться, хоть и было чему, а наивно и бездумно поставил чайник, включил свой комп и принялся за дело. Почта – со всех концов земли – захватила целиком. В Амстердаме негодовали, но не слишком бурно – скорее привычно, тихо и безнадежно: почему я до сих пор в Москве, а не в средневековом обиталище моего старшего друга и покровителя, лучшего знатока тритонов в Европе, почему не поднимаюсь к нему в гостиную по шероховатым серым ступеням лестницы, под которой экономка-ведьма хранит целый ящик своих волшебных кофейных ложечек и помело?!
О том, что фру Улен ведьма, я узнал от моего профессора. За чаем. Я только что вернулся тогда из своей первой поездки в Голландию, подарка для матери у меня не было, и я протянул ей ложечку, которую почему-то стянул из ящика под лестницей. Крошечную ложечку, ярко блестящую, с шариком на конце прямой и тонкой ручки. Мать взяла ее, повертела в руке, помешала ею в своей чашке и сказала: «А это ложечка ведьмы». Проговорила будто вскользь, так просто и беззаботно. Я открыл рот, чтобы возразить, вспомнил фру Улен и понял: это правда.
В Токио горевали: по утрам я перестал брать телефонную трубку – устал часами сочувствовать коллеге-японцу, доброму и отзывчивому на чужую беду парню. Год назад он и отозвался – порывисто, безоглядно: женился на русской с ребенком, неведомо каким ветром занесенной и брошенной к подножью Фудзиямы, а уже после влюбился в нее так, как это дано японцам издревле. Жена убежала домой, на Русь, в Подмосковье, а японский знаток тритонов, плача навзрыд, набирал и набирал мой номер: помоги, найди, верни… А как же тритоны? Я умел искать только этих хвостатых амфибий. Ну и лягушек, конечно. И даже многих рептилий. Змей, например. Но не мятущихся женщин.
Ждали меня в Пекине, на Тайване, в Турции, в Беркли, в Иране…
Скрипнула дверь, зажегся свет. Отец изучал волков в тверской деревне, в дни поздней осени они выли особенно сильно и часто, так что в коридоре мог оказаться только профессор.
Мать окликнула меня, и голос ее прозвенел серебром, как ложечка ведьмы о край тонкой фарфоровой чашки. Я потянулся, с сожалением оторвался от почты и вышел из своего убежища ей навстречу. Глаза ее, прозрачные, как горный ручей – излюбленное место обитания некоторых саламандр – то светились у самого дна, а то рассыпали брызги разноцветных искр. Но главного тогда я не заметил. Ведь в эти минуты я был на Памире. Планировал экспедицию: Вахш, Пяндж, Мургаб… Горы на границе с Афганом.
Понял теперь, да поздно. А тогда сказал себе только: ну, слава богу, настроение переменилось. Не надо банки, подождем пока. Образуется. И вздохнул с облегчением. Наивный молодой кретин. Если б я знал, что оно предвещало, это облегчение!
Документ word (без номера)
Я была прекрасна. Не казалась, нет, а была – второй раз в жизни. Первый – когда мне было восемнадцать, в ту юную, зеленую весну любви. После расставанья я села тогда в вагон метро, двери за мной задвинулись, и внезапно я увидела в темном стекле отражение ангела. Небесное, легкое создание с сияющими глазами, таинственная греза – это была я. Так и в этот вечер, тридцать два года спустя: тающий снег на волосах, щеки, свежие, как дикая роза, и глаза те же, точно те. Смотрят на меня из омута старинного зеркала против входа.
Быстро потупив голову, с неожиданным в себе чутьем опасности скрыв лицо от Ники, я сняла пальто и разулась. Милые мои сапожки – пара пронесших меня над мостовой звонких каблучков. С какой любовью я смотрела на них, ровно – носок к носку ставя в шкаф! Как я любила все… Все вообще. Все вокруг. Всех. Злых и добрых, знакомых и незнакомых. А Ники! Мой дорогой сын снова исчез за дверью своей комнаты. Рассыпалась дробь ударов по компьютерной клавиатуре.
Я снова взглянула в зеркало и вытерла скатившиеся из глаз слезы. Не помню, когда я плакала от счастья. Никогда прежде.
Пряча лицо в подушки, я укрылась от мира одеялом. Я не хотела видеть ее, эту комнату. Место моего одиночного заточения. Место душевных бичеваний, истязаний и мук. Мою келью. Плотно смежив веки, я смотрела на того, кого мне не суждено теперь забыть до смертного мига – егда темнии зраки лукавых бесов окружати и устрашати мя начнут. Смотрела в его глаза – отныне единственный и последний для меня исток и средоточие света. Черная бархатная мгла под моими веками позволяла любоваться этим лицом, этими глазами спокойно и счастливо.
Но вот все странно переменилось. Вдалеке забрезжил ровный туманно-серый свет. Мягкими складками легли очертанья холмов. В долинах завиднелись круглые серебристые купы олив, одинокие камни. Черными змеями заструились ручьи в окруженье зарослей тростника. Полилась песня свирели. Зазвучали тимпаны цикад – ровный и сильный, забился и зазвенел золотом пульс пространства.
Прямо передо мной, у самой кромки обрыва, вытянувшись на выжженной солнцем траве неподвижно лежал мулькру. И ступень холма над обрывом была для него словно узкое ложе. Высокие скулы, круглый лоб, небольшой нос с тонкими широкими крыльями – все было обтянуто пергаментно-серой кожей. Тени глазниц не могли скрыть огромных выпуклых век. Глаза были закрыты. Мулькру спал. Под бесцветным плащом угадывались сложенные на груди тонкие руки и ноги с острыми выступами колен.
И вдруг внизу, в долине, родился крик. Сперва еле слышный, он поднимался вверх, к небу, мощными волнами, заглушая тимпаны цикад. «Пан умер! – с нестерпимой силой колебался воздух, – Пан великий мертв!»
Мулькру спал.
Рассказ биографа
Башня Киевского вокзала синела в воспаленно-розовом небе – небе мегаполиса. Черные орлы на башне вот уже столетие простирали свои бронзовые крылья над резными стрелками круглого циферблата с простыми и четкими чертами римских цифр. Часы остановились задолго до начала Эпохи мутаций. Профессор говорил мне, что это случилось ровно за десять лет до того дня, серого августовского дня, когда мимо башни прошла танковая колонна и заняла позицию у моста. До того дня, когда само время взмахнуло крылами, и все поняли: началась история. Стрелки на башенных часах замерли, как замерли сто лет назад черные крылья орлов, уже расправленные для полета. Орлы не взлетели. Часы встали. Ведь то была предыстория.
Мы ждали сто девятнадцатого. Автобуса не было. Перед нами гигантскими железными ребрами поблескивал торговый центр «Европейский». Внутри этого титанического скелета современного динозавра сияли огни продаж. Там, в оазисе глобализма, можно было припасть к источнику кока-колы, на миг утолить жажду любви, купив игрушечного зверя, а потом, прижав его к щеке и вдыхая тусклый запах искусственного меха, забыться в темной пещере, завороженно следя, как сменяют друг друга на стене отражения странного мира анимэ.
Но мы ждали автобуса. Моросил то ли дождь, то ли снег. Капли, которые Лика стряхивала с ресниц, казались слишком крупными. Ее маленькая круглая головка, чуть склоненная на длинной шее, вся ее поза в характерном S-образном изгибе напоминали о мученицах и святых Средневековья.
Я не спрашивал, зачем. Зачем, бросив работу с ящерками и их ДНК, ту работу, что нельзя прерывать ни на миг, она на целый месяц уезжала очищать от разлившейся нефти побережье Гвинеи-Бессау. Уезжала «волонтеркой».
Взглянул зачем-то на мертвые башенные часы, потом на нее. Хороша волонтерка. Представилась ее одинокая (хотя почему, собственно, одинокая?) фигурка на берегу океана. На черной, вязкой от мазута полосе отлива. Песчинка в вечности.
– Знаешь, Ники, – сказала она наконец, – я думаю, это немного затянется.
– Как? То есть что именно затянется? Петля? Ты говоришь о своих дурацких планах так, словно тебя кто-то тянет на эшафот. Не хочешь работать – так и скажи. Безответственная.
– Петля? – Она отвернулась. – Может быть. Только петля именно здесь – и уже затянулась. Я хочу попробовать. Попробовать пожить без нее.
– И для этого нужно обязательно тащиться в Гвинею-Бессау? Ты хоть знаешь, где это? На карту смотрела?
– Ну… Да.
– Хорошо. Знаешь, кто там водится? Кого везти? Сейчас нам особенно нужны…
– Не повезу я никого…
– Ну уж это дудки. Повезешь. Как миленькая. Сейчас я тебе назову виды, записывай. Провезешь как обычно: грязные носки набиваешь влажным мхом, суешь животных, завязываешь.
– Ничего я не буду записывать. И привезти никого не смогу. Понимаешь, просто я потом поеду не сюда. В другое место.
– Куда это еще?
– В Париж.
Я промолчал. Она снова повернула свою маленькую голову, и я увидел, как ее крутой лоб чуть наморщился. Глаза, обычно тускло-бархатные, блестели. По-моему, от слез. А может, от волнения.
– Хочу поработать там. В кафе. Официанткой.
Я посмотрел на Лику, будто увидел ее в первый раз. Собственно, в первый раз я ее никогда и не видел. Не помню такого. В первый раз я ее просто не заметил. А потом мне всегда казалось, что она всегда была, есть и будет.
И тут я ясно понял, что сейчас вижу ее в последний. Первого – не было. Последний – вот он. Такая жизнь – вся как по нотам.
Необратимость. Вот это слово. С ним приходит холод и чувство вечности. Будто кто-то умер. Остановка времени. А за ней время вновь трогается с места, отходит автобус, и наступает – свобода.
Она что-то пробормотала, вспрыгнула в освещенную щель – дверь автобуса – и надо же было ему подкатить так внезапно, так тихо, подкрасться так незаметно! – и дверь закрылась.
Передо мной был новый мост – скелет глобалистского динозавра. Изнутри его, между крутых ребер, лились потоки молочно-голубого света. Я поднял глаза, и недвижные черные крылья замершего времени осенили мой холодный, влажный от измороси лоб. Я повернулся и пошел к мосту – домой.
Вот как устроена жизнь, – думал я, взмывая на эскалаторе под своды титановых ребер крытого моста, как Иона – во чрево кита, – вот как устроена она: как крылья голубя. То сложены тихо, прижаты к теплому телу, будто и нет их, будто так и придется вечно бродить по земле, и вдруг – взрываются с шумом, и – вверх, вверх, и ты уже высоко в воздухе, и смотришь оттуда вниз, ничего не узнавая.
И вот я иду над рекой. Я, Иона, гляжу из этого чрева гигантского кита, освещенного яркими матовыми шарами, на темную воду, стиснутую серым гранитом, как живое трепетное горло, иду и вспоминаю.
Вспоминаю, как впервые взлетел, как почудился мне шум развернувшихся высоко над землей крыльев – крыльев новой жизни! Моей жизни!
Я и вправду летел тогда. Летел в Голландию. В Амстердам. О, тихий Амстердам с певучим перезвоном церквей и колоколен! Зачем я здесь, не там, зачем уйти не волен, о тихий Амстердам, к твоим как бы усталым, к твоим как бы затонам, к закатам запоздалым, то ласковым, то алым, где, преданный мечтам, какой-то призрак болен, упрек сдержать не волен… – вот что я знал об этом городе. Знал от моего профессора. Он читал мне наизусть, да. Читал все мое детство, до тех самых пор, пока я не стал сопротивляться. Пока мне не показалось все это скучным. Но ведь это случилось совсем недавно.
Ведь профессор был хитер. Лисица: Алиса Фокс, Лисица Венера – вот подлинные имена моей матери. Простодушная лисица – да. Любящая, верная лисица – конечно. Не всегда хватало у нее терпения высидеть в норе столько, сколько нужно, не высовывая нос раньше времени. Нет, не всегда. Да что там – никогда почти. Не всегда хватало выдержки, даже и хитрости. Гибкость была. И в этой гибкости чувствовалась сила стальной пружины. Потому, наверное, Виталинин миллионер и сказал ей ту самую фразу, так поразившую меня в детстве: «Удар держишь».
Она хотела читать мне стихи и хотела, чтобы я слушал. Логос иначе не передается. И она тихо, незаметно подкрадывалась к моему слуху, к моей душе, как к пугливой мыши, как к сторожкому зайцу. Вот и Бальмонт начался для меня с тритонов. Да, да! Разве стал бы я слушать иное? Но она нашла – то необходимое, единственное: «Ей тритоны удивлялись, проползая бережком. И, смешные, похвалялись ей оранжевым брюшком»… «Ей» – это ей, матери, а вовсе не какой-то фее, поэтом выдуманной для незнакомых детей. «Прогулка феи» – это было о ней. Она была настоящая. Настоящая живая фея. Такая же, как сами тритоны. И удивляться тут было нечему. Тритоны вообще на редкость невозмутимы. А вот это поэт сказал будто о моей Истре: «Дышут травы в светлом зеркальце реки. Целым островом – купавы. Целым лесом – тростники». Но Истра всегда темная, и зеркальный блеск и свет – лишь тонкая пленка поверху, даже не пленка – так, отблеск, блик.
В самолете, глядя сквозь разрывы облаков на землю Нидерландов, знакомую мне только по стихам и цветам, я вспоминал светлое детство – тот чудный вечер, когда над Истрой шел снег. Снег падал так медленно, такими крупными хлопьями, что, казалось, театральный занавес повис за окном, прозрачная пелена живого снега, но сквозила уже другая река – белая, надвое разделенная шрамом ледокола, неровным, зубчатым, где льда не было, а блестела черная вода под мостами… Мы сидели на кухне, и профессор читал тогда «Александрийские песни»: «Хочешь, я спою греческую песню под арфу, – только уговор: не засыпать и по окончании похвалить певца и музыканта»… И тут началось главное. Стихотворение закручивалось исподволь – так, что-то про фараона, про какого-то красавца с греческим именем – Антиноя, кажется, – и я не ждал ничего особенного, кроме спиральных извивов прекрасных слов. И вдруг, неожиданно – вот оно: «Если б я был рабом твоим последним, сидел бы я в подземелье, и видел бы раз в год или два года золотой узор твоих сандалий, когда ты случайно мимо темниц проходишь, и стал бы…» – внезапно в ее голосе, чистом и тихом, зазвенели слезы: «…и стал бы счастливей всех живущих в Египте», – сказала она победную строку, последнюю строку любви… Да, это были слезы – не на глазах даже, а только в голосе, внутри его, в самом хрустальном, прозрачном его звуке, будто льдинки в струе зимнего ручья. И я понял. И никогда этого не забуду.
Но стоило голосу ее смолкнуть, как слышно стало другое. В ванной с шумом лилась вода. Пока звучали эти стихи, эти «Александрийские песни», эти волшебные слова, оглушившие слух, вода шумела уже не только в ванной. Из коридора горячие струи устремлялись прямо нам под ноги, в кухню. «Александрия!» – завопил я, и мы, побросав на пол полотенца, второпях стали спасаться от потопа.
«Вот как захлестывают чувства, – думаю я теперь. – Завораживают словами, замыкают слух, – и вот уж затопили и сердце, и душу…»
Самолет приземлился. Аэропорт я не запомнил. Темная толерантная Голландия пахла марихуаной. Над городом висел ее запах и свинцовые тучи. Церкви и колокольни молчали, пока мой старший коллега вез меня к себе, в серый средневековый дом на берегу канала. А колокольни все молчали…
– Там бордели, – объяснил Тим. – Гомосексуальные в основном, но есть пока и гетеро-. Только одна осталась действующая. То есть в смысле церковь.
Он был очень добр ко мне. Очень. Трогательно добр. Подарил мне полосатую кофту с капюшоном. Я теперь всегда в ней. Или с ней – во Вьетнаме и в Иране, в Казахстане и в Штатах. Капюшон – замечательное изобретение.
Под лестницей пахло кошками, как в старой Москве. В той, какой уже нет. Странно – колокола в наших церквах звонят, и все громче, а вот Москвы уже нет. Города нет, а сорок сороков все почти в сборе – что ж, за право восстанавливать и строить кто только не борется – православные и католики, мусульмане и протестанты… А деньги дает общак. И на всех хватает.
Под лестницей пахло кошками. Только кошками – запах марихуаны из дома исследователя тритонов изгнан, даже с улицы не может проникнуть. Фру Улен поила кофе. Тонкие ложечки – не серебряные, нет, но какие-то странные, светящиеся, сделанные словно из зеркал. Ручка – ровный стержень, сверху маленький шарик. Фру водила ложечкой осторожно, в одну сторону, и пристально смотрела при этом в чашку.
Мой друг сделал все, чтобы я остался в сером каменном доме. Из недр европейской науки явился грант – словно по мановению ока, по взмаху блестящей ложечки. На эти деньги я должен теперь жить тут год. Целый год.
Купив билет, я собрал вещи, надел полосатую кофту, надвинув капюшон по самые брови, поблагодарил фру Улен и, спустившись по лестнице, незаметно нагнулся к ящику с ложечками – почему и для кого фру держала сотни их в ящике под лестницей? Для подруг, которые слетались по ночам со всей Голландии? Или только со всего Амстердама? Нагнулся и прихватил одну – тогда я еще не знал, что сделает с моей жизнью она, эта тонкая кофейная ложечка с шариком на стержне.
Яну я пообещал, что скоро вернусь. «Никогда, – думал я про себя. – Ни за что на свете никому не удастся упечь меня под это свинцовое небо, в эти сонмища грустных гомосексуалов и печальных лесбиянок». Казалось, весь свет Нидерландов – серебристый, жемчужный свет полотен Вермеера – впитан, всосан, поглощен сотнями ложечек, сваленных в ящике под ведьминской лестницей старинного странного дома. Дома, который я впопыхах покинул.
«Нет, – думал я в самолете, – не по мне это. Я не такой, и жизнь во мне еще есть. Подобное к подобному, но это мне не подобно». И вспомнил про Лику. Ищет себя в Гвинее-Бессау. Волонтеркой. А вдруг? Или в Париже? Нет, в Париже вряд ли. После Тянь-Шаня? Иссык-Куля? Тувы? Алтая? Искать подобие себе в Европе, в вытоптанной исхоженной Европе…
Зачем, если в кругу древних камней, на поросшем низкой темной травой плато Укок, три тысячелетия спала и вот пробудилась красавица – высокая девушка с маленькой круглой головкой на длинной шее… Головкой, чуть склоненной к плечу даже во сне смерти… И чуть только попытались ее разбудить, как рассыпалась она в прах, и душа ее взмыла над плоскогорьем и витает там сейчас, вот сейчас, кружится, как мой самолет, заходящий на посадку в Шереметьево…
«И зачем Лике Гвинея? Какая нелепость! Разве там оно, ее подобие? Другое дело – ящерицы-круглоголовки, которых она только начала изучать… Держала в руках. Смотрела – и не рассмотрела. Нужно время, чтобы понять. Мне-то со стороны виднее. А вот ей… Хватит ли жизни? А мне моей – хватит?»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































