Текст книги "Профессор риторики"
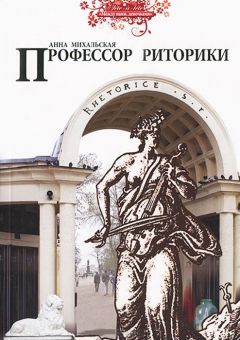
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Рукописный дневник профессора риторики за один летний месяц (июль)
7 июля 200?
Александра Михаилу – привет.
Ну, кажется, пора. Как уговорились. Вместо эсэмэсок – письма. Каждый день по письму, такой дневник. От расставания до встречи. А потом ты прочтешь мой, а я – твой.
Итак, я пишу тебе это первое письмо, сидя на даче, под самой крышей, за столиком с трюмо. Зеркало светлое, чистое, хотя принадлежало оно еще прабабушке Алексея, Кате. Она, как и другие родные, похоронена на старом кладбище за Троицким храмом, под старой березой. Это ее деревянный крест еле держится в рыхлой земле, вечно затененной густым барвинком, и опирается на почерневшую ограду и на серую гранитную плиту над могилой ее внучки, матери моего мужа, милой Наташи, которой вечно будет тридцать девять. По другую сторону от серой плиты с греческим прелестным профилем Наташи стоит другой крест, тоже деревянный, но еще крепкий, и табличка на нем называет имена деда и бабушки Алексея – Николая и Веры. А вот надпись на кресте прабабушки Кати стала совсем неразборчива: время, время… Надо бы ее подновить, да я не знаю ни отчества, ни фамилии, ни года рождения и смерти.
В чистое, светлое тройное зеркало, перед которым я пишу сейчас эти строки, взглядывали когда-то все, кто живал в этом доме.
Женщины – пристально: как, хороша? Все еще хороша? Но новая морщинка! Нет, просто волосок, слава богу! Пока – волосок…
Мальчишки – удивленно: вот он – я… Кто я? – и прочь, с топотом сандалий, опрометью вниз по лестнице, все позабыв, торопясь на волю… На солнце…
Кто еще в это стекло заглянет, уже после меня? И когда это будет – после?
А пока проходят последние минуты последнего часа этого грозового дня. Ливень, зелень, тьма. Зелень – там, где свет из дачных окон – желтый, мирный – ложится на черные ели, орешник, жимолость, траву.
Я не знаю, где ты и что делаешь. Так даже лучше. И спокойно оттого, что нет наконец этой страшной возможности получать и отправлять эсэмэски. И вечных сомнений: послать? Напомнить, что люблю? Но нельзя же это делать каждую минуту. А когда? Сколько нужно, чтобы не надоесть? А вдруг ты не любишь? Не любишь вовсе, совершенно, ничуть? Вот молчишь ведь. Уже час. Два. Три… Нет, это невыносимо. Забыл, разлюбил, бросил! И вот – этот потусторонний звук. Гонг судьбы. И руки дрожат, и мобильник выскальзывает, падает… Читаю, не понимая сперва, перечитываю… Сколько страсти! Как они жгут, эти слова! Как обжигает каждый миг! Нет, невыносимо… Любить словами куда как страшней, чем телом. Слова, слова, слова… И возможность посылать их, словно птиц, стайками… Но какое напряжение – мысли, чувства, всея души. Моя бессмертная душа – и вся в эфире, утекает, переливается в тебя, и – вновь со мной… Внезапно вернулась… Но мне уже неподвластна. Психея, бабочка…
Нет, я рада, что это кончено и я снова принадлежу себе, хотя бы отчасти. Письма, пусть и воображаемые, – это что-то человеческое. Это в человеческих силах. Это можно выдержать. Это прекрасно. Как разговор или свидание. Из писем получится дневник. Или из дневника – письма? И ты прочтешь все, когда вернешься. Как мы уговорились.
Ну, как писали римляне, будь здоров.
8 июля 200?
Сейчас почти полночь. Вот-вот минует последний час ушедшего дня. «Все часы ранят, последний убивает», – такова надпись на циферблате башенных часов средневековой колокольни в Нейи – золотом по черному. Ты объездил весь мир, ну, кроме Африки, кажется, а я не видела ничего, кроме своей вселенной. Своей Москвы, которая после нашей второй встречи состоит для меня из немногих кафе, потом Арбата, бульваров – Тверского, Суворовского и Гоголевского – и Кропоткинской. И переулков между Кропоткинской и Арбатом. И набережной. Вот и все. Город сузился, сжался до размеров детства. Вернулся в первые свои пределы. Нет, в детстве был даже больше: зоопарк и Птичий рынок – там жили мечты, красота, надежда. Там, на пятачке московского асфальта, под раскидистыми пыльными тополями, встречались Африка, Азия, Америка, Европа, Австралия с Океанией. О, этого было довольно. Даже слишком много. Теперь их нет. На месте зоопарка – серый бетон и несколько страшно усталых от него зверей, на месте Птичьего рынка – не знаю что. Не была там.
И как это нас занесло в это кафе? В то мгновенье самого страшного месяца в году? Одновременно? Одних? Я никогда не бываю в кафе, это был единственный раз. И первый. А по Арбату хожу всю жизнь, чуть не каждый день. Мимо.
Нет. Почему я туда вошла, знаю. Почему села за столик у окна и стала смотреть на прохожих, на плитки мостовой, на тот дом, в котором был когда-то магазин «Охотник» и стояло за стеклом чучело огромного вепря. Там я покупала поводки для собак – всю жизнь, с детства. А теперь это просто дом. Ресторан с каким-то жутким названием.
Я зашла в это кафе просто чтобы сесть. А сесть мне нужно было потому, что за минуту до того – проходя мимо бывшей «Аптеки» – я поняла, что Алексей влюблен в свою аспирантку. И поняла, насколько сильно. Тогда он, я думаю, и сам этого еще не знал. А она знала. Эта мысль явилась внезапно, ниоткуда и почти сбила меня с ног. Я открыла тяжелую дверь, вошла и опустилась в коричневое кресло. И стала смотреть в окно. Вот как я там оказалась. А как ты – не знаю.
«Последний – убивает»… Счастливы те, кто этот час проспит. Для других, одиноких наяву, он и впрямь нелегок. Это и свобода, когда в движениях появляется что-то таинственное, колдовское, и все же – горечь потери: никто уже не придет. Некого ждать.
Этот час – для дневников и писем. И я хочу, чтобы он был чист и спокоен, чтобы в нем ровно стучало, минута в минуту, то «бестрепетное сердце совершенноокруглой истины», о котором мечтал один грек. Мечтал так же пламенно, так же страстно, а значит – безнадежно, как я – о тебе, сейчас и всегда.
Я еще не рассказывала тебе о своей первой любви. О солнечном дворе дома на Кутузовском проспекте, где мы – тогда еще втроем, семьей, – жили совсем недолго. Дом был разделен забором пополам, и квартиры во второй половине занимали иностранцы. Дипломаты и их семьи. Я кончила тогда первый класс, но на дачу мы еще не уехали. И я познакомилась с итальянским мальчиком, ровесником. Через черные прутья высокой решетки он назвал свое имя: Рикардо. Рикардо Джульетти. И я назвала свое: Александра. Он повторил: «Алессандра. Сандра. Нет, Алесса. Алиса». И мы ушли в другой двор, соседний, туда, где решетки не было. И встречались там каждый день. Все эти дни светило солнце. Совершенно не помню, как мы друг друга понимали. Я тогда уже вполне говорила по-английски. Так или иначе, это понимание было абсолютно. Он звал меня Алиса Фокс – я тогда была почти рыжая, вернее, темно-золотая, и к тому же ему казалось, что я настоящая Алиса. А страна чудес – там, где я. Везде, куда бы я ни пошла. И мне так казалось тогда. На самом деле, так оно и было. До тех пор, пока мы не уехали на дачу.
Много лет спустя я поняла: это и была любовь. Вернее, такой она должна быть. А сегодня я узнала, что этот итальянский мальчик по имени Риккардо Джульетти, озаренный жарким летним солнцем, был просто ангел. Просто вестник. Он явился мне, чтобы возвестить, что такое настоящая любовь. И обещал мне тебя. Он и был – ты. Поэтому я и говорю тебе сегодня так спокойно: сейчас и всегда. Всегда.
Итак, мое подлинное имя Алиса Фокс, и до сих пор я рыжая. Таковой и пребуду до конца жизни благодаря своей чудесной парикмахерше, которая отличается от меня только двумя свойствами. Во-первых, тем, что ей тридцать, а мне значительно больше, а во-вторых, тем, что она читала Канта, а я нет. Мне это неинтересно.
Я – Лисица Венера, или Красавица (о ней, грозе Лондона в позапрошлом веке, я прочитала у бессмертной выдумщицы Агаты, и сразу поняла, кто я такая. Конечно, я – это именно она, Лисица Венера, вновь воплотившаяся специально для тебя).
И вот я пишу тебе обещанное, но не для развлечения и не от тоски. А потому, что надеюсь, что некая истина о моей жизни станет при этом достаточно совершенноокруглой, а сердце ее, этой истины, да и мое заодно, – бестрепетным.
Сегодня был день одиночества. Я получила несколько эсэмэсок от Ники. Их было немного, и они были маленькие, длиной всего 1–2 сантиметра, как гусеницы пяденицы, и такие же разнообразные.
Бог, кажется, хотел сказать мне сегодня нечто очень важное. В один день он дал мне так много – письмо из издательства с похвалой моей новой книги и обещаниями скорой публикации – и тут же отнял все, что я люблю. Тебя. Я имею в виду начало твоего путешествия и отъезд, конечно. Нетрудно прочесть это послание судьбы, как тебе кажется? Вот они, плоды занятий экзегетикой![31]31
Экзегетика – метод и искусство толкования текстов.
[Закрыть] Делай, что должно, и щедра будет награда, и не делай запретного, ибо жестоко и неминуемо наказание. Выбирай.
Нет мне благоволения – этого небрежного дара счастья, нет соизволения сочетать долг и любовь.
Вот так, трепещущая перед неизбежным, по видимости – неблагодарная и упрямая, несовершенная и знающая, каков выбор, провела я этот последний час уходящего летнего дня. Тот час, что убивает. Но осталась жива. Или мне это кажется?
А вот сейчас наступает самое страшное: нужно закрыть глаза.
9 июля 200? (Примечание биографа: одинаково датированы оба следующих текста, которые автор назвал вариантами)
Вариант 1.
Короткие часы немногих наших встреч после твоего возвращения с одного края земли и до отъезда на другой – эти часы не уверили меня в твоей реальности. Их не хватило. И потому сегодня и я – нереальна. Не чувствую себя, потому что тебя нет – ну, почти нет. И разве могу я сказать так уверенно, как семнадцать лет назад, что способна усадить тебя в кресло, когда захочу, и говорить с тобой о чем угодно? Я, тебя забывшая и себя потерявшая? Я, тень, не справлюсь и с тенью.
Сегодня я снова ответила на несколько Никиных пядениц. Все остальное время прошло в молчании и одиночестве.
Эти два дня я пытаюсь уловить одну мысль. Она мелькает слишком быстро, я ее вижу, но никак не могу сказать словами.
Вот она. Сначала – картинка. Я представляю себе наших детей. Своего Ники. И, насколько могу, твоего сына. Мне кажется, я им мешаю. Не тем, что делаю что-то определенное или занимаю место в пространстве и во времени. Мешаю всей своей жизнью, мешаю тем, что для меня – жизнь. У меня было время, свое время, и я сделала с ним то, что сделала. Но этого времени больше нет, и, забывая об этом, я отнимаю его – у них. Странно, что когда я видела тебя чаще и дольше, мне не приходило в голову ничего подобного. Мне казалось, что раз я жива, то и у меня есть еще время. Время и право жить реальной, подлинной жизнью. Ты понимаешь, о чем я.
Я ошибалась. Нет его, этого права. И время истрачено так, как прошло. Истрачено безвозвратно – на то, что оно принесло. А потом унесло – навсегда.
Знаешь, если бы я была птицей, то моей песней были бы два слова: «Навсегда!» и «Никогда!» И с этими криками я, спугнутая с ветки, уносилась бы в лесную чащу, в черную глубину елового леса, и снова садилась бы там на елку, пока кто-нибудь не спугнет. И опять: «Навсегда!», «Никогда!»…
Но пока я в июльском саду. Зреют яблоки. Сад замкнут, закрыт, недоступен. И я в нем одна – не женщина, не Ева, а птица: «Навсегда!», «Никогда!»…
Я смотрю на растения и люблю их. Они очень отзывчивы. Хотя и не требуют от меня заботы – их поливает кто-то с неба.
Вариант 2.
Как я оживаю от одной только мысли, что снова тебя увижу – через неделю, месяц, год… Боюсь, вдруг этот ряд продолжится до…
Нет, серьезно. Отчаяние мгновенно сменяется радостью, тьма – светом, лучезарным светом, и я улыбаюсь…
Не поверишь, но при этом я чувствую те самые силы, ту спокойную радость, что прежде так легко позволяли мне семнадцать лет назад воплощать тебя и усаживать в кресло. Вот оно, стоит сейчас передо мной, давнымдавно сосланное на дачу. Пустое… И чуть покачивается.
На сиденье качалки брошен плед. Нет. Не тот самый. Тот много лет назад истратился – порвался, потом на его клетчатых останках спали обе мои борзые. Пока сами не состарились.
Лиственницы растут на собачьих могилках, и два бедные холмика покрыты нежнейшей зеленью посеянных мною трав.
И все же мне кажется: только теперь и пришли настоящие силы. Раньше таких не было. Это был почти блеф. Сегодня мне есть с чем сравнивать.
Алиса Фокс, Лисица Венера. И – не твоя!
10 июля 200?
23.20. Вот он, последний час. Тот, что наконец убивает. Милосердно приканчивает израненного, измученного двадцатью тремя предыдущими. Странно, а ведь это похоже на корриду. Или коррида – это метафора жизни? Всепобеждающей смерти?
Я затосковала. Но ничего. Даром что в окно, в стекло, привлеченный светом, бьется толстый злой шершень.
Снова сижу за трюмо прабабушки Алексея. Мною не раз чиненным и снабженным круглой лампочкой, чтобы красавицам лучше было видно себя со всех сторон.
Ну, Алиса Фокс, Лисица Венера, что же ты думаешь об этом дне?
Думаю, что любовь родится от радости. От тоски – никогда. От шершня может родиться только шершень (тут насекомое забилось в стекло еще отчаянней, чуть отлетая назад в темноту и снова шмякаясь брюхом, разбрызгивая по стеклу капли яда).
Еще думаю, что очень жалко мне было сегодня Ники и Лику, Ритика и Вэй Юня – помнишь, я рассказывала – «little disgusting creature», как он себя называет, этот маленький китаец. Бедные, бедные детки. Печальные они. Лика с трагическим взглядом. Так она никуда и не уехала. Ни в какую Гвинею, или куда она там хотела. Не может оторваться от Ники… Ритик с тоской в глазах светлых, фиалковых, распахнутых, как крылышки голубянки Икар. Ники – мятущийся, гневный, тоскливый. Маленькое disgusting creature – сонное и тоже какое-то невеселое. И нервное. Что же это такое? Разве такие были мы в студенчестве? Если это у них предчувствие – то чего? Если боль, не утихшая и не преходящая – от чего?
Дома у них нет. Настоящего дома. И у Ники теперь нет. Он об этом еще не знает. Но и у него теперь, как и у всех, что-то похожее на дом, но не дом, не укрытие, не убежище. Приехали сюда, на дачу. Но уже si devant[32]32
Бывшую.
[Закрыть]. И вот спят – девочки под самым большим моим одеялом из овечьей шерсти, на полу, на ковре, – две крохотные фигурки, еле видные под толщей этого укрытия – чужого… В комнате с желтым абажуром – недвижные, усталые очертания на диванах. И завтракают как-то грустно, и на свадьбу к друзьям двинулись словно нехотя – сонные, медленной вереницей вниз, по дорожке к калитке, на электричку…
И последнее, что я думаю в этот день – угасший, жаркий, дождливый. Было же такое время, – думаю я, смотря на упрямого шершня, который все бьется и бьется из темноты ночной к свету, в стекло, уже все забрызганное ядом, – было же такое время, когда я и часа не могла прожить без эсэмэски, без этого милого писка. И ни дня – без автора. Привыкла к другим перерывам, прав да, нескоро. И правда – не привыкла. Но оказалось, что стерпеть можно. А если так, то почему не терпеть – всегда? Почему не уступить – другим, новым? Детям? Почему не поступиться? Временем? Счастьем? Жизнью? Почему не терпеть до тех пор, пока вот в такой особый час не окажется наконец, что терпеть уже нечего? Что ничего и не нужно, а что было – того и не было?
Нет, милый, это не мои речи, не мои мысли, чужие чувства. Кажется, это называется трансфер – перенос прежнего опыта в новые обстоятельства жизни. Перенос опыта потерь – на новые переживания. О, не вливайте старое вино в мехи новые! А ведь однажды я тебя уже потеряла.
11 июля 200?
О φίλος, χάιρε![33]33
О друг, радуйся! (греч.)
[Закрыть]
А радоваться найдется чему – даже мне, в моем заточении. А уж тебе, в путешествии на край света, и подавно. Побережье северного моря, крик морских птиц, даже киты, наверное… И люди…
Принимала сегодня чету друзей. Он – писатель, как и ты, но никак не может заняться этим серьезно. Блестящий лектор. Профессор. Передачи на радио – постоянный ведущий особой программы. Разбрасывается. Сидели под большой елкой, уже за последним чаем, и только он обрадовался, что «наконец-то пошло общение» (цитирую), как жена развернула его от елки к калитке. Нет, не подумай. Олеся молодец, и кроме массы других достоинств у нее есть чувство времени. Теперь она руководит целым отделом в «Лукойле» – представляешь? Единственная компания, которая у нас еще осталась!
Проводила их и наконец выехала на велосипеде из калитки в вечернюю мглу. Над Истрой стелился туман, мой Орлик наметом носился по дорогам, и по сторонам высокой темной стеной стояли некошеные травы. Небо было тревожно, и последние всполохи отцветающего иван-чая быстро подернулись сумеречным пеплом. Забил перепел, за ним другой. Все это было настоящее, живое, совсем не такое, как разговоры за чаем и анимэфильмы, которые смотрели вчера перед сном взрослые дети, все четверо, – завороженно, неподвижно, сидя в норе под желтым абажуром.
Все бы хорошо, но детей жалко. Странно, что они совсем не хотят выйти из дома. Погуляли бы, что ли… Искупались… Жара, темные луга, быстрая река, запах травы, ночные птицы – нет, все это загоняет их в дом, в нору. Ищут укрытия, защиты, притина. Ищут, где голову приклонить… Бездомные дети.
11 июля 200?
Ну вот, пропустила последний час дня. Никого он не убивает. Какая чушь. Я его даже не заметила сегодня. На самом деле уже двенадцатое, и еще на сутки ближе тот миг, когда я, может быть, услышу тот самый звук. Тот эфирный сгусток, который заменяет теперь человеческий голос, спешащий по проводам. А я ведь боюсь услышать голос. Писк эсэмэски не так пугает. Как же все это странно!
Утро было особым. Тишина. Недвижный экран телефона. Робкие лучи сквозь тучи. Свежая, какая-то детская сонливость… Покой вселенной. Все это напомнило мне те летние пробуждения, когда я была еще девочкой и даже думать не думала о любви. А мобильных телефонов просто не существовало. На даче же телефона и вовсе не было. Как это было чудесно!
Сегодня Виталина отвела меня в храм. Я не говорила тебе, но произошло нечто очень важное.
Давно… Нет, скорее, недавно я загадала одно желание. Нет, не так. Недавно я осознала, что оно у меня есть и что оно самое главное в моей жизни. И самое сильное. Не буду говорить, какое. Я была уверена, что исполниться оно не может. И только робко думала о нем иногда. Потом все чаще. Наконец я поступила очень легкомысленно, даже преступно, как я теперь понимаю. Я обещала себе, что, если это желание исполнится, я воцерковлюсь. Так теперь принято это называть, не смейся. Меня крестили еще в младенчестве, в церкви Иоанна Предтечи, в Предтеченском переулке, что на Пресне, неподалеку от зоопарка. Храм всегда был действующим. Пока я не пошла в школу, моя старая няня, бывшая послушница монастыря в Сызрани, брала меня с собой в «церкву» дважды в день: к заутрене, как она говорила, и к вечерней. Все это запечатлелось. Потом ни о какой религии и речи не было. Но что-то всегда оставалось за гранью сознания, в глубине. Страх Божий. И с ним – покой. Удивительно, но так. И вот всегда, если случалось переступать церковный порог, перекрестившись и поклонясь, я знала, что возвращаюсь домой. Вхожу в храм своего детства. В нем – ангельские голоса и огненные глаза тонких свечей. В нем – укрытие. Под покровом тихой, милосердной Богоматери. Под оком Спаса Вседержителя – оком ярым, яростным, отеческим. Не было со мной отца, – земного защитника и опоры – но всегда был небесный. И пребудет. Сейчас я это понимаю, а раньше только чувствовала.
И представь: мое желание, даже не желание – надежда, и не надежда даже – а так, мечта, легкая, несбыточная мечта, – сбылась! Вот только что, совсем недавно
– а сбылась! Не скажу, какая. Пока не скажу. Ну и пришла пора выполнять обещание. Обет. Раньше мне казалось, что просить Бога о таком и обещать такое – преступно. Но сейчас я думаю иначе.
Я вспомнила прежнего батюшку Троицкого храма – отца Руфа. Он крестил еще Ники, и громовый бас его сотрясал стены, когда перед исповедью он командовал: «Равняйсь, православные! Смирно!» Отец Руф, исполинского роста, широкогрудый и серебрянокудрый богатырь, словно с картины Васнецова, прихрамывал, а под облачением, говорят, скрывался протез – нога была отнята высоко. Священником он стал по обету. В Курском сражении немцы подбили танк, и обреченный на смерть троицкий паренек, задыхаясь в горящей башне, обещал свою жизнь Богу. И спасся, и служил все отпущенные ему долгие годы в меру своих богатырских сил – истово и ревностно, как и жил. И прихожане любили его и чтили.
Что ж, подумала я. Если б не исполнена была моя просьба и не случилось бы чуда, потому что иначе назвать это невозможно, – так ведь и я умерла бы. Не сразу, медленней. Сгорела бы года за два. Ну, за три. Приступы стали бы повторяться чаще, потом лекарства, потом операция – водитель ритма, а потом все равно – тромб, эмболия – и конец. Кто знает, сколько звеньев в этой цепочке могли бы выпасть.
Ну и чего мне стыдиться? Не так уж это и легкомысленно – желание жить. Просьба о спасении. И я пошла с Виталиной. Познакомилась с батюшкой. Отец Андрей. Совсем молодой, чуть старше Ники, русоволосый, сероглазый. Объяснил он мне, этот отец Андрей, как нужно готовиться к исповеди и к причастию. Я ему не сказала про обет. Нельзя было так делать, я знаю. Пока он говорил – тихо, мерно, ласково, серьезно, опустив глаза и только изредка взглядывая мне в лицо, мне мучительно захотелось узнать, что его-то привело в храм. Да так прочно привязало, что учился, принял сан. И приход. И я спросила.
Оказалось: случай. Чистый случай. Мальчишкой, лет семи-восьми, он болтался на пыльной дороге, у магазина. Он из местных. Не из Троицкого – из Манихина. Это станция перед нашей. Так вот. Было лето, жара. Как сейчас. В магазине продавали бананы. Ну, считай, когда это могло быть. Году в девяносто втором – девяносто третьем… И ему ужасно, ужасно хотелось съесть банан, хоть один. Мучительно хотелось, до дрожи. Он сидел на ступеньке магазина, безнадежно, а тут выходит мужик какой-то. Купил продуктов для дачи и спускается по ступенькам к своей машине. В одной руке пакеты с едой, а другую он поднял над головой и на ладони держит бананы. Целую гроздь. Огромную желтую гроздь. И вдруг останавливается. Заметил мальчишку краем глаза. А тот смотрит на бананы. Только на них. Так этот дядька отдал ему все бананы. Не остановился даже. Просто опустил руку и шлепнул банановую гроздь парню прямо на черные от загара коленки. Всю, целиком. На грязные расцарапанные коленки, в синяках и ссадинах.
И отец Андрей сказал: все из-за этого. Забыть не мог. Отслужил в армии и пошел в семинарию. Вот как оно бывает, с желаниями. Непросто. Или просто?
Будь здоров.
12 июля 200?
Михаилу от Александры – привет.
Сегодня я читаю научную монографию про человеческие эмоции. Упала на меня с полки, когда я спускалась по лестнице мимо стеллажа. Приятно думать, что мои страдания – просто аффективно-когнитивный комплекс.
Я готовлюсь к исповеди и питаюсь какой-то травой. Виталина дала мне книжечку – молитвослов. Есть чудесные тексты. И как это я раньше их не знала!
На даче очень влажно, и зелень, кажется, еще позеленела, потемнела, стала сизой, сытой и набухшей. Даже воздух какой-то зеленый.
Начитавшись про эмоции, я стараюсь, во-первых, никак их не подавлять, а во-вторых, ими управлять. Первое легко удается: слезы текут рекой. Второе труднее. Для этого надо делать «лицо радости». Тренируюсь перед трюмо.
Я очень испугана Алексеем. Именно испугана. Он приехал из Бубенцов, с трудом оторвавшись от аспирантки, и ночью был разговор. Что там ночью – всю ночь. О любви, конечно. Пока только о любви. Абстрактно. Сказал, что за настоящую любовь отдал бы остаток жизни. Оказалось, что я, как и все другие его женщины, настоящей не была. То есть была ненастоящей. Ясно, что настоящая – это та, что сейчас. И остаток его жизни, который он так хочет за нее отдать, легко перейдет в другие руки. Ручки.
И знаешь, утром он сказал: «Ну что ж, хорошо, что мы поговорили». И тут мне стало страшно. Ведь на самом деле это значит: «Я рад, что я все-таки честно сказал тебе, что было. Что есть. И что будет».
И еще – это напомнило мне, как я жила последние лет пять. Или двадцать пять? А, все равно. Ничего не менялось, четверть века не менялось – до прошлой ночи. А теперь изменилось. Полностью. Потому что было названо словами.
Я испугалась. Но не боюсь. Я ведь теперь свободна.
Я ведь Алиса Фокс, Лисица Венера. И мне ли бояться очевидного, освещенного ярким светом слов, словно какой-то дрожащей, грозящей и ускользающей тени?
Действительность лучше, чем о ней принято думать. А я думаю о ней. И думаю не так, как принято. Это радует.
Я страдаю, конечно. Как всегда, от любви. И это тоже радует, потому что теперь я страдаю от того, что она ко мне пришла. И я способна мечтать. Снова способна. Я ведь забыла уже, какое же это счастье – мечтать.
Ну, не чудесна ли жизнь? А, Алиса Фокс?
И она отвечает мне: да. Да! Да!!!
13 июля 200?
Вот и уходят последние минуты последнего часа этого последнего дня. Последнего – потому что он ведь не вернется больше. Но я успела за стол, и вот я смотрю в трюмо, и вижу там те же глаза и то же бледное лицо. Тогда, семнадцать лет назад, в этом же зеркале, там, в глубине, жила совсем другая женщина. Внешне она, как ни странно, не так уж изменилась. Так все говорят. И многие видят в этом бесовские чары. Ведьмы, как известно, не стареют. Ужас, что я пишу. Грех. А еще готовлюсь к исповеди и читаю святые молитвы. Вот опять шершень бьется в стекло – окно я предусмотрительно закрыла, – а вот и еще один! И еще! Гудят низко, так что стекло отзывается и вибрирует, и брызжут ядом.
Сегодня утром я сидела за столом под самой большой елкой. Это странное дерево высится прямо напротив входа. Странность в том, что ель не меняется, как, впрочем, и я. Говорят, что, когда жива была Катя, прабабушка Алексея, а сам Алексей только учился ходить, дерево было точно таким же, как сейчас, – выше нашего дачного трехэтажного дома. Оно невзлюбило меня. Сразу, как только я появилась на даче. Это как-то чувствовалось, и я старалась сидеть за столом под елью пореже. Когда я сильно болела, она снова стала расти, а теперь вот опять замерла, даже некоторые ветки стали сохнуть…
Когда-то мы – то есть друзья Алексея – встречали здесь, на даче, каждый Новый год. Так было заведено. Но однажды это случилось впервые. Как и все на свете. Отчетливо помню, что тогда, в сильный мороз, я поднялась на третий этаж и села за это трюмо у окна. В зеркале качались ветви этой ели и неслись снежные хлопья. И я написала: «Я знаю – в зеркало под елью смотреть нельзя на Новый год. Оно слепит глаза метелью, в нем всех метелью занесет».
С тех пор двое из немногих друзей погибли. Уже двое. Первым – самый лучший. Так всегда и бывает. Единственный из всех, он стал и моим другом тоже. Не мог приспособиться к новой жизни. Бился в одиночку. И когда понял, что проиграл, прожил недолго. Замерз в лесу, на лыжах. Один. Сердце. В феврале. В метель.
Второй – поэт и песенник, талантливый и веселый, тоже старался удержаться на плаву, неудачно. Не хватило сил – спился. Убили его в подмосковной электричке, выкинули с площадки – под откос. В ночь. В метель.
Нет, это все позади. А про елку – выдумки. Я спокойно сидела за столом, пила чай и смотрела на соек. И тут по мобильной связи донеслась весть о том, что Наргиз– иранская студентка Ники – выловила в темной пещере на севере своей родины и привезла в Москву семнадцатисантиметрового, фиолетового в пятнах, с громадными черными глазами и длинным хвостом, очень редкого. Тритона, конечно.
В книге об эмоциях я читала за чаем про радость. Но теперь я знаю не только про радость. Я знаю и саму радость – благодаря тебе. Удивительно! Радость, счастье, – это, конечно, случалось. Но – проносилось и исчезало так быстро, что я не успевала даже их почувствовать, а только могла сказать себе: ах! Это прошло!
Теперь счастье обрело длительность. Стало ощутимым. Я могу вспоминать его, предвкушать, даже вызывать и удерживать. Я иду по дороге и знаю: вот оно, счастье. Вот эта минута. И следующая. И все, что наступят после.
Я знаю теперь магическую радость – ту, что создала для меня новый мир. И я в нем не одна – впервые после краткого сопребывания с тем итальянским мальчиком. С ангелом. В солнечном дворе без решетки. Вместо него – ты, настоящий. Исключительный. Прекрасный. Такова же и я – Алиса.
Я знаю и реальную радость тоже: отныне я и в обычном мире не гостья. Я в нем хозяйка – уверенная и спокойная, щедрая и сильная. Конечно! Уж если магический мир мне подвластен, то что говорить о простой, прямой жизни!
Через восемь минут – следующий день. На самом деле, я жду не столько тебя, сколько начала моего магического времени. Оно настает через месяц, с середины августа. Мои любимые дни, ну, не дни, а ночи, – те, в которые я с детства не сплю и смотрю, смотрю на небо – это двадцать пятое и двадцать шестое. Падают звезды, горят созвездия на черном небе, горько пахнут листья, кричат молодые совы.
Будь здоров.
14 июля 200?
На самом деле, уже тридцать восемь минут, как пятнадцатое. Время идет, и как быстро! Все минуты (какое странное название для того долгого срока, пока большая стрелка совершает круг), все эти бесконечные замкнутые круги, из которых немногие сцеплены друг с другом, но большинство так и остается порознь (а ведь таки устроен часовой механизм: большие и маленькие колеса цепляются друг за друга, но есть, кажется, и не соприкасающиеся никогда) – все эти круглые, даже совершеннокруглые вместилища кусочков жизни, все они (ну наконец-то я, кажется, добралась до цели: нельзя же так писать, – скажешь ты) – все они наполнены разговорами с тобой или воспоминаниями об этих разговорах, воспоминаниями о взглядах, движениях души и тела…
Сколько раз можно переживать одно мгновенье? Нет, не по своей воле – по воле крохотных, но самостоятельных, даже самовластных единиц жизни? Странно, что для этих элементарных частиц существования нет особого имени ни в одном, кажется, языке… Ни в одной науке… Они неделимы и сотканы из времени, из события, из его осознания или просто ощущения… А из них соткана материя бытия.
Сегодня один из тех дней, когда внешних событий, казалось бы, нет. А вот запомнится каждый миг. То есть каждая частица бытия. Откуда-то это всегда знаешь. Утром я ездила на велосипеде по полевым дорогам – как всегда, якобы тренировать борзую. На самом деле мне это точно так же необходимо.
Стеной стояли голубые овсы, а в них высились золотые короны подсолнухов с говорящими и вопрошающими лицами.
Днем в институте встречалась с одним абитуриентом – поэтом, конечно. Сказал, что пишет философскую лирику. И любит Тютчева. Рабочий он, из Липецка, с конвейера «Индезит» (стиральные машины). Только вот руки у него что-то трясутся. Крупно дрожат пальцы. Спросила, сколько платят на конвейере. Ответ приводить не буду. Страшно: копейки. Люди, говорит, изнашиваются быстро.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































