Текст книги "Профессор риторики"
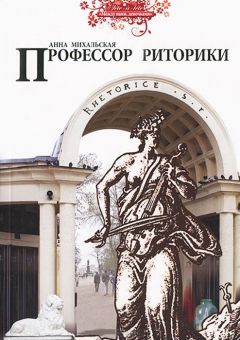
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
А потом я шла по Садовому к Маяковке… И вспоминала другое время… Как жарко в августе Садовое кольцо дышало дымкой мутно-голубою, троллейбус пел, толпа текла в лицо, и было зеркалом тогда лицо любое… Мираж в пустыне раскаленных крыш, плеск голубей, раскрытых окон блики, и опаленный солнцем черный стриж – стрела любви, ее посланник дикий…
Вечером снова ездила по полям с собакой и видела – нет, видела другое, другое, другое…
Потом с Виталиной гуляла по темнеющему лесу и у Истры, в холодном тумане, и не видела, кажется, ничего… Вовсе ничего. Только бывшее… Только si devant…
Ну, завтра с утра исповедь.
15 июля 200?
Мне с моих небес теперь уже не упасть. Эту фразу я прочитала где-то, запомнила – и, видно, не зря. Настало время, когда я могу сказать это о себе.
Вот как начался день. На велосипеде я выехала на гравийную дорогу, что ведет по другой стороне бывшего оврага и опоясывает ряд полуразрушенных кирпичных коттеджей, в которых так никто и не жил. Их даже и бывшими не назовешь.
Подняла голову, взглянула на небо, прозрачно-голубое от лучей восходящего солнца, и вдруг увидела пару диковинно-прекрасных птиц: белые маховые перья просвечивали, так что казалось, что это сами крылья кончаются сияющими лучами. Длинные иссиня-черные хвосты чуть колыхались.
Это были просто сороки – но они летели в небе моего магического мира.
Через несколько мгновений все изменилось. Небо и все вокруг вдруг закрылись, будто захлопнулась книжка с цветными картинками, и я оказалась совсем в другом месте и времени. Вот Арбат. Ноябрь, легкий снег, серые сумерки опустились в синеву вечера. И я иду по своей улице – все дальше, мимо зоомагазина, мимо дома с серыми рыцарями, к дому арбатского мудреца, а снег чуть покалывает лицо: ветер встречный. И я захожу во двор, там темно. Кошка замирает на тропинке в снегу, подняв лапку.
Что это там, в глубине, на каменном постаменте? Боже, да это голова. Одна только голова. Одинокая голова в пустом дворе, том самом дворе, через который давным-давно я торопливо пробиралась в таком же снегу, к единственной в мире двери. Пробиралась к свету – к теплому желтому свету, к живому огню любви и слова. Туда, где под матовым абажуром, над чашами с сухими лепестками роз, резвился и играл веселый Логос. А сейчас… Огромная холодная голова из темного гранита в безлюдном заснеженном дворе. Это он. Вот во что его превратили, моего Профессора.
И я выхожу из двора – этого страшного склепа – медленно, тяжело, но – выхожу снова на Арбат, напротив театра, под голубовато-желтые фонари, и иду, чтобы хоть где-то сесть. Приклонить голову. Иду в то кафе. Навстречу тебе. И еще не знаю об этом, но все-таки – уже знаю.
И сразу следующая картина – весенняя капель. Не совсем еще весна, но уже брызги солнечных капель прыгают с карниза вниз, на мраморные ступеньки музея, а я стою, подняв голову к небу, и солнце греет щеки, ласкает закрытые веки. Я опускаю голову и смотрю вниз, с крыльца: жду. Жду тебя. И белые облака рвутся на волю в синеве теплого ветра. Это как раз то, что я чаще всего вспоминаю: мерцает мир, и мириады миракул солнечного света дрожат опаловой плеядой вокруг любого силуэта. И льда шагреневая кожа сжимается и отступает, и ветер так неосторожен, что о весне напоминает… Сухой асфальт шершав и нежен – невольно ждешь прилета чаек, и день так ласково бесснежен, что о зиме уже скучаешь… Конечно, ты это помнишь. Разве я могла тебе не сказать…
Тем временем я еду на велосипеде уже вдоль старицы, собака сгоняет стаю диких голубей с прогалины на поле, и я тороплюсь. Пора. Скоро восемь.
Как трудно взойти на пригорок, по песчаной дороге мимо розовых сосен – туда, где под высоким куполом неба клубятся голубые купола сельского храма. Крашены купола той же нестойкой и вечной краской, что оградки на кладбище. Вокруг них вьются черные точки стрижей – стайками, как буквы в эсэмэсках, и визжат, и свистят, словно торопят мобильный телефон… Прости мне, Господи, это сравнение, но ведь так оно и есть.
Так, вцепившись в Виталину и чуть позади нее, в страхе шла я на эту первую в своей сознательной жизни исповедь.
– Исповедуется раба Божия Александра. – На коленях, в солнечном углу храма, у окна, я все-таки сказала, – опустив глаза, а после уже и глядя в лицо отцу Андрею, – то, что должна была сказать. Без чего не умереть спокойно. Смертные свои грехи. Потому они, верно, так и называются – смертные. Я говорила, в луче плыли золотые пылинки, а из-под самого купола смотрели всевидящие очи Спаса Вседержителя.
Любовь и смерть. С мужем живу не венчана. А теперь что ж венчаться, если и мужа-то нет, кажется? Если любишь другого. Любить – другого, но вне плотского греха, – так любить и Бог не запретит. Вне контактных откровений, – говорил о такой любви мой духовный светоч, философ, арбатский мудрец, сам в тридцать шесть лет принявший тайный монашеский постриг. И все же, и все же…
Самое страшное – смерть. Аборты. Из всех зачатых в нецерковном браке детей только Ники Бог дал избежать этой участи. А ведь и на его небытие было уже выписано направление – в какую-то больницу на Страстном бульваре. При всем, что было в жизни и что могло бы смягчить вину – ужасы советской контрацепции, нежелание мужа, – нет моей вине оправдания. Что ж, так и должно быть. Не любишь – нет у тебя права на контактные откровения. Любишь – люби и детей. Отвечай за них. Самовластным злодейством творишь свою судьбу. Откуда же счастье?
– Сокрушаться будете сердцем до конца жизни, – сказал отец Андрей и замолк. Но покрыл мою склоненную голову, начертал поверх крест и отпустил.
Святое причастие – незаслуженный дар, милость и прощение – огненным комком ожгло горло, но растопило лед и горячо затеплилось в душе.
И мы с Виталиной, потрясенные и живые, щурясь от яркого света, вышли на высокое белое крыльцо, под благодатное солнце июля.
16 июля 200?
Александра Михаилу – привет.
Ну, ближе к письмам. Или к дневнику? Позволю себе только одно отступление. О контактных откровениях. Как бы это сказать немного… эзоповски? Мне кажется, что если бы они между нами были, то и глубина их была бы небесно высока. Двусмысленно? Ну, может быть. Но ты ведь поймешь меня верно.
А теперь о земном – совсем земном, если такое бывает. Мне кажется, Виталине просто нужна другая кошка. Эта, Глаша, – молодая поросль, сорняк с церковного двора, котенок, взятый там из жалости, – не подходит. Понимаешь, Глаша не нежная. Все время висит на дереве. Пытается дотянуться до гнезд. А может, до звезд? Так или иначе, с Виталиной она холодна. Слишком холодна. Жестока.
Все как-то померкло, хотя день снова солнечный и жаркий. Так еще один лучезарный день уходил и ушел. А помнишь, как весной – чем ранее, тем бережней и удивленней – замечаешь всего один лист: вот он, уже распустился! Один цветок, хоть мать-и-мачеху: вот он, уже расцвел… А сейчас так много всего вокруг, и таким водопадом несутся дни, полные цветов, трав, ягод…
Полная разлука легче переносится, чем миражи эсэмэсок. Не надо гадать по ним: любит – не любит. Лучше ромашки. Спокойней. Да, я знаю: люблю. И, может быть, любима. Вот и все. Жаль только, что нельзя вдвоем пройти по лесу, вдоль реки, через поле.
Нет, все-таки Северный полюс – это смешно. Чересчур символично. И зачем тебя туда понесло?
Разве писателям это так уж необходимо? Это ведь даже не край земли, а какая-то точка, притом воображаемая. Какая-то метафора дали. И он уехал на Северный полюс… Как в сказке, глупой современной сказке.
Здесь же… Я смотрю в окно, сидя на прежнем месте, за трюмо, под крышей. Там, за оврагом, сосны еще освещены желтым солнцем, стволы горят, как в огне, а внизу, у ручья, уже ночная прохлада. Я предоставлена сама себе и томлюсь без твоего участия. Мой мобильник, словно дохлый шершень, валяется где-то, молчаливый и ненужный. Шершней, кстати, становится все больше. Тех, что проникли в комнаты, приходится убивать бадминтонной ракеткой.
Все предметы вокруг меня: и трюмо, и книги, и картины, и вот эта белая чашка с цветком шиповника, окаймленным позолотой, – все странным образом осмысленно и само себя понимает. Лучше, чем я – себя. Это и есть главный и единственный признак присутствия здесь любви. Здесь – это значит, что она не только во мне, но наполняет пространство. Все пространство, которое я вижу, и все время, которое меня заключает. Как говорят математики, это условие любви, необходимое и достаточное.
Жаль, больше писать не могу – пора бежать вниз, проверять, как чувствует себя Little Disgusting Creature.Они приехали днем – Ники, Лика, Ритик и Вэй Юнь. Затаскали маленького китайца по Москве, в жару, так, что началась тахикардия, и я уложила его отдыхать, напоив лекарствами – своими. Остальные поехали на велосипедах по полям. Лика купила себе такую же шляпу, как у меня, – помнишь, такая широкополая. Коричневая, как горький шоколад?
Ах, кажется, внизу горит в плите курица. Вот приехали велосипедисты. Все, бегу.
Жаль, не успеваю написать еще одну вещь – самую главную.
Жаль кончать письмо – кажется, будто пора расставаться.
Жаль, жаль, жаль…
17 июля 200?
Шершни по вечерам ведут себя как в фильмах ужасов: ломятся в стекла – а окна закрыты, и именно из-за них, несмотря на духоту, – протискиваются в щели стеклянной двери, в комнату, где я пишу эти ночные записки. Пришлось сегодня заклеить щелки листками. Под руку попалась пачка буклетиков, посвященных семидесятилетию института, где работает Алексей. ИПЭЭ РАН – Институт проблем экологии и эволюции… Странные эти биологи. Надо же настолько не чувствовать слово, чтобы назвать свое заведение: «институт проблем»…
Сегодня я подумала (а может, решила): это мое последнее лето на даче. Эта жизнь прожита. И кончилась, что бы там ни было, впереди. Пусть растут лиственницы на могилках двух моих старых собак – двух друзей, – вместе с ними и прошли все годы этого нового века. Деревья такие маленькие сейчас – так, еле заметные в траве стволики и несколько пушистых ярко-зеленых веточек. Пусть цветут без меня розы – как уж смогут. Пусть стоят на бесчисленных полках старые мои книги. Спите спокойно, друзья моей жизни.
Возьму с собой в Москву оленью шкуру – ту самую, в белых крапинах-пятнах, что я выкроила из остатков своей давней шубы. Той, в которой я ходила по Арбату на уроки греческого и латыни. В которой я встретила и полюбила Алексея. Он говорил потом, что накануне встречи он видел меня в ней во сне, где я превратилась в пятнистого оленя. И сон оказался вещий. Как тот олень, в конце концов я оказалась не на своем месте. И в смертельной опасности. Я чувствую сейчас эту опасность в холодной волне, что пробегает иногда по лопаткам и шее, в спазме горла, когда я смотрю на Ники… Можешь ли ты спасти меня от нее?
Больше мне нечего тут делать. Как не было у меня никаких дач, так и не будет. Вот когда елка оживет! Она уже, кажется, перестала сохнуть и готовит обильный урожай шишек для птиц и белок.
Ники работает на веранде второго этажа, прямо подо мной. Оттуда доносится китайская музыка. Лика возлежит на тахте, Вэй Юнь и Ритик сидят на полу. Возгласы. Это Ники доделал какие-то таблицы, и наступило всеобщее оживление.
Один из шершней проник-таки в комнату, судя по треску хитиновых крыльев, соприкоснувшихся с горящей лампой. Придется звать Ники с бадминтонной ракеткой.
Так, музыка сменилась. Теперь звучит демоническая, она же «готишная», Мэриам. Очень по-кельтски. И по-русски. Смешная! Кто бы мог подумать, что и через десять лет она будет так любима…
Сегодня опять ходили купаться на Истру. И опять текла быстрая река, унося время. Сейчас 23.37…
18 июля 200?
14.25. Против обыкновения, пишу сегодня днем. Невыносимо. Нет, все невыносимо. Не могу ни на чем сосредоточиться – внимание рассеивается, и вот уж бред, просто бред, сотканный из картинок – ну, помнишь, я писала – не картинок, не мгновений, а элементарных частиц минувшей весны и уходящего лета… И еще эта жара.
В полдень небо над насыпью – я ехала с Орликом в поля – было как выцветший шатер, голубой только сверху, напротив солнца. А если не поднимать глаз – дымчато-линючий.
Душно. Боже мой, как мне душно. Толстые зеленые кузнечики взвизгивают по кустам, сочные, как зреющий крыжовник. Но и у них не хватает сил на песню – замолкают, едва начав.
На этом листе строчкой ниже – след от убитого Ники шершня. Вчера видела с балкона только одну упавшую звезду. Ничего не загадала. Вот и взяла этот белый листок с кровью шершня, чтобы… Ну, это единственное средство…
Ты спросишь: для чего? Ах, я не знаю. Я и сама не знаю…
Ну, Алиса Фокс, Лисица Венера, как же ты можешь так тосковать и так дрожать, страдая? Так любить? Откуда у тебя это странное свойство – эта постоянная жажда любви? Ты, Красавица, ты, магически озаренная и профетически одаренная, ты, ведунья воцерковленная, успокойся.
Нет, все-таки этот Северный полюс – это слишком. Насмешка, усмешка, ухмылка. Шутка такая. Жестокая, впрочем, шутка.
19 июля 200?
Сегодня собеседование в Литинституте, и мне нужно присутствовать. Встать пришлось в шесть. Успела.
– После школы я работал в «Макдональдсе». Кем? Курьером, промоутером. Нет, русского слова для этого не знаю. Стихи стал сочинять, ну, наверное, лет пять назад… Круг чтения? Гессе, Керуак, Бродский, cеребряный век… Очень люблю…
– В наше время опасно принимать решения. Кем работает мой отец? Он ученый… Стихи свои почитать? Сейчас. Ой, они на работе. Нет, кое-что помню. Вот:
Мы с тобою – затихшие вопли
В непролазной терновой чаще…
Спасибо, достаточно.
Я свои стихи читать не могу.
– Ну, почитайте с листа.
– Нет, не могу…
– У вас отец в Сибири живет?
– Да.
– А вы где?
А я в Италии.
А вы здесь, в Москве, постоянно живете?
– Нет, я постоянно живу в Люксембурге.
– А что вы там делаете?
Я преподаватель танца. Какого танца? Классического, современного, фолк-данса…
Скажите, вы сразу после школы?
– Да.
– А мысль поступать в Литинститут когда у вас возникла?
А когда я захотела связать свою жизнь с творчеством. Вот именно тогда у меня и появилась мысль такая.
– А вы после школы чем занимались?
– В Италии жила.
– Да? И где же?
– В Генуе.
– Чем занимались?
– Социальными науками.
– Какими, например?
– Я люблю психологию.
– Что вы читали по психологии?
Эзотерику там всякую. Библию, например…
В театральный вам не надо, вы сразу в обморок упадете.
Да нет, я уже играю в театре. Профессионально. Постоянно то есть.
Вы из Минска? Белорус? Вы где родились?
– В Феодосии.
– Украинец, значит?
– Нет, я русский.
– А почему католик?
– Потому что у меня родители поляки.
А говорите, что любите Гоголя. Как же вы можете его любить, если вы католик?
А в какой момент ваших отношений ваш муж оказался москвичом?
– В самый первый момент. Но если честно и откровенно, то у меня уже другой муж.
– Тоже москвич?
– Тоже. Но я работаю завскладом.
– Ну и что?
– Это склад книжной продукции. Потому я много читаю…
– Мне сказали, до двадцати пяти лет не надо. Вот вырастешь, тогда и поступай в Литинститут. У меня друзья в Воронеже, они писатели. Они знают. Вот я и выросла.
– А стихи когда начали писать?
– Лет тридцать назад. Когда перестала шить.
– Что?
Ну, пока я «челноком» не начала работать, я весь город обшивала. А до того я все Лужники пирожками кормила. Потом собак разводила. Бойцовых.
Я работала машинистом башенного крана. Потом в деревню попала, и там я работала дояркой. Директором клуба сельского… Потом у нас клуб аннулировали как бы, а потом и деревню. Как бы ее не стало. Но вот когда я дояркой работала, меня как бы прорвало.
Ну, почитайте стихи того периода. Когда вас как бы прорвало.
А кто были друзья Пушкина?
Николай Второй. Пушкин был очень одинок.
У всех особые глаза. Они светятся. У всех, у всех, не спорь. Ты, скептический и строптивый, ты, упрямый и завзятый спорщик. Ты их не видишь. А я – вижу. Глаза у них именно такие. Потому что все эти люди – молодые и не очень – независимые. Они не зависят от среды, от города, от жизни. Не зависят и от нас – комиссии. Своя у них жизнь, как и должно быть у человека – άνθροπος[34]34
Человек (др. – греч.).
[Закрыть], ввысь устремленного. Своя – не чужая.
– А вы в Перми где работаете?
– Водителем трамвая.
– Тяжело?
– Ну, как вам сказать… За восемь лет зрение упало, остеохондроз… А вообще-то раньше я жила в Березняках, но они провалились.
– ???
А там соль вырабатывали, и под городом образовались пустоты. Ну и вот. Город провалился.
Я до некоторой степени был изолирован от общества.
– В каком смысле?
– В прямом.
– И долго?
– Восемь. Ну, как вам объяснить… Суд – это рынок, на котором торгуют свободой, не зная ее цены… Но там была библиотека, и я много читал. Что? Камю, Сартр, Фаулз…
– Мы с вами где-то встречались. Я вас помню.
Ну да, у меня когда-то была аккредитация в Белом доме.
– А вы чем занимаетесь?
– Сейчас я не работаю. Ну, почти. Раньше – на автомойке, а сейчас няней.
– Где?
– В одной семье. Они риэлторы.
– А книги где берете?
– У них и беру. У них библиотека большая.
– Они что, читают?
– Ну да. Мы цитируем друг другу любимые строчки. Сергей Владиславович очень любит Маяковского…
– Мой отец был цирковой акробат, а мать портниха.
Стихи почитать? Так, сейчас: «Я, жизни тягостной заточник…»….
Стихи я давненько пописываю, для военнослужащих для своих.
– Как – своих?
А я служу. Старший мичман. И троих сыновей родила, вырастила: капитан, майор, лейтенант.
Я заваривала чай для чайной церемонии.
– Зачем?
А у меня работа была такая. Где? В Новокузнецке. Странно? Ну да, наверное…
Оставалось еще много поэтов и поэтесс, но я не выдержала. Взяла со стола шесть пустых пластиковых бутылок – воду от жары давно выпили – и сделала вид, что пошла их выносить. С ними вынесла и себя, окончательно. И вдоль террасы «Макдональдса» направилась к метро. Мимо в мареве жизни плыла Москва.
20 июля 200?
Скоро уже. Но дни становятся все мучительнее, и сквозь слезы все яснее проступает под явным рисунком моей жизни какой-то тайный, скрытый узор. Или это тоже обман? Смотреть сквозь слезы – все равно что сквозь старое истонченное стекло с волнистыми наплывами времени. Так искажается мир… Где же правда?
Гнезда брошены, и новые, яркие, глупенькие птицы готовятся жить. Одни – к отлету, другие – к зимовке. Вчера на выгоревшем газоне Тверского бульвара видела молодого вороненка – глянцево-блестящего, беззащитного. Он с недоумением озирался. Сегодня утром Орлик спугнул прямо с дорожки юного голубя-вяхиря. Тот склевывал песчинки и мелкие камешки, зазевался и едва успел подняться на крыло, спасаясь от борзой.
Сегодня же в зарослях лимонника нашла пустое гнездо крапивника. Птенцы уже вылетели. Сердце сжалось.
И вдруг к вечеру обруч, что сковал сердце, разомкнулся. Я вдохнула влажный воздух оврага – и успокоилась.
И подумала… Даже не подумала, а внезапно узнала. Увидела, как всегда это со мной и бывает. То есть случилось трехминутное умозрение, как сказал бы мой арбатский Профессор. Узнала глазами.
Вот что. Даже если мы окажемся вместе в другой жизни, я и то буду не уверена: а может, это только мне нужно? А тебе нет? Но тут же решила: тогда это, как теперь говорят, будет уже не моя проблема. Какие сомнения! Если мы не расстанемся после этого мира, то это навеки… значит, так и должно быть. А потом я еще подумала: но ведь и сейчас, здесь и теперь, разве не то же? И не пора ли отказаться решать, все время решать, быть или не быть вместе, то есть вообще – быть или не быть, как какую-нибудь задачку по геометрии в классе эдак в шестом? Как есть, так и есть. Как будет, так и будет. До смерти, как после.
И только теперь, вот сейчас я поняла, кажется, подлинный смысл слов нашей главной молитвы: «Да исполнится воля Твоя яко на небеси и на земли…» Хоть в этом, в этом, только в этом – вдруг да исполнится воля Твоя? Здесь, на земли, хоть ненадолго… Пусть на несколько дней только… А может, всего и осталось на земли, что несколько дней: таких коротких – и таких длинных…
Ну, вот и забрезжило наконец что-то разумное. Нашлась опора в главном.
Теперь о неглавном. Ники в Звенигороде, на биостанции, и, кажется, занят тем, что кружит голову одной девушке – той, что гостила у нас прошлым мартом. У одного жениха, испанца, он ее уже увел, теперь только появился второй, русский, собирается сделать то же. Я его предупредила.
Орлик очень меня любит. И радует. Что ж, у аспирантки Алексея, той, что с прозрачными глазами, той, что держит сейчас в руках его сердце, черная кошечка. А у меня – белая собака. И я вспомнила:
Вот листья, и цветы, и плод на ветке спелый,
И сердце, всем биеньем преданное вам…
Не вздумайте терзать его рукою белой
И окажите честь простым моим дарам.
Это Верлен, и лучше нет ничего. Называется – «Green»[35]35
«Зеленое».
[Закрыть].
Не так ли, Алиса Фокс? You, beautiful old vixen, wise and bold?[36]36
Ты, прекрасная старая лисица, разумная и отважная?
[Закрыть]
Будь здоров. Ты не терзаешь моего сердца, нет. Это я его терзаю. И твое заодно. Прости.
21 июля 200?
Сегодня мы разбирали сарай. Приехал из Бубенцов Алексей с затуманенным взором, и мне удалось уговорить его сделать это – впервые за двадцать два или двадцать три года. Я и сама не понимаю, зачем просила о такой ерунде – так, по привычке. Это ведь мое последнее лето, я сюда уже не вернусь. Так что мне должно быть все равно. Но двадцать лет уговаривала – и вот. Согласился. От угрызений совести, наверное.
Сарай разбирался целый день, и видно было, что каждый год из двадцати трех оставил свой культурный слой в этом строении.
На самом дне, на полу, обнаружились гнезда крыс. Покинутые! И снова сжалось мое сердце. Гнездо крысы, послужившее жизни и опустелое, так же сиротливо, как брошенное птичье…
22 июля 200?
Сумерки. Угасает день, полный бледного, но такого жаркого солнца… Ночь была вся грозовая, и ливни шумели один за другим.
Вчера в сарае нашла серую папку с завязками. Странно, как это она там оказалась. Ведь в ней – моя фотография, сделанная через год после развода родителей. На обороте рукой отца написано: «Сашенька. Парк ТСХА». И год, а за ним в скобках – вопросительный знак – нет, год неверный. На фото я похожа на юного Орлика. Точь-в-точь. Настолько, насколько девочка может быть похожа на борзого щенка. И выражение то же, только не такое залихватски-радостное. Выражение печальное. У Орлика в детстве тоже такое бывало…
И знаешь, что еще я нашла в этой папке?
Фотографию милой молодой женщины в голубом, с белой кружевной паразолькой, женщины, очень похожей на отца. Судя по дате на обороте, это моя сводная сестра – от его нового брака. Это Марфа, художница.
Она родилась, кажется, именно в тот год, который надписан отцовской рукой на моем фото. И там же – ее буклеты с выставок, с кратким и блистательным жизнеописанием: персональная выставка в Виндзоре; выставка в Манеже; собственная галерея в Турции («Marpha»), и другое – многое.
Ночь я не спала. Ее глаза и улыбка, ее непринужденная поза с этим кружевным зонтиком, сквозь который падает солнечный свет и тоже становится кружевным, а главное – что-то особое, такое, что я забыла, но не вполне, а вот сейчас сразу вспомнила…
Стоило выключить свет – и вот опять ее голубые глаза, и улыбка, и рука с зонтиком, и жест…И так всю ночь.
Утром, с больной головой, встать не смогла и в Москву не поехала. А разъехались все… Алексей читает «Фауста». Потому что его аспирантка пишет стихи. Интересно, какие ему нравятся больше? Нетрудно догадаться. Эта штука посильнее «Фауста» Гёте! Ну вот, это пошлость. Прости.
Листала книгу про эмоции и еще одну – «Популярная психиатрия», – но о несчастной любви, длящейся больше двадцати лет, ничего не нашла. Это я про Алексея. Про свою любовь к нему, в которой я была так уверена. До того ночного разговора с ним. Помнишь, я писала. Если у него все эти годы никакой любви ко мне не было, то, может, и у меня… Обман? Видимость? Внушение? Нет, ни слова не нашла. А как искала: вдруг все пойму…
Но поняла и без книжек.
И теперь я знаю точно: тот итальянский мальчик, который дал мне мое настоящее имя, тот вестник, тот ангел – он обещал мне – тебя. Он и был – ты.
Теперь я спасена. Но не могу забыть слов одной одинокой женщины, японки, которая триста лет назад, однажды вечером, сидя, как и я, у изголовья, записала: «И почему мир так печален?»
Я не смогу больше ничего написать. Буду ждать теперь, когда ты приедешь, мы встретимся в кафе и я отдам тебе эти свои непосланные письма.
Странно, но рука почему-то пишет «прощай».
Прощай».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































