Текст книги "Профессор риторики"
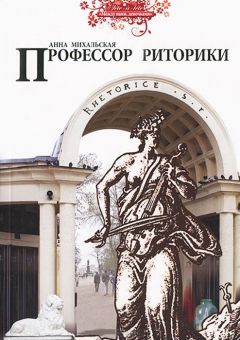
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Документ Word 4
А если бы я отшатнулась – в слабости страха или, напротив, в негодовании сильного человека, оскорбленного и униженного? Разве стояла бы я здесь, у полукруглого входа в метро «Чистые пруды» – странно, не могу вспомнить, как на самом деле выглядит этот вход, но мне почему-то кажется, что там арка. Похожая на ту, что на Кропоткинской. Или такая же. Или та же.
Но я стояла. Как всегда, одна. Упругий, сильный ветер конца марта развевал длинные концы моего зеленого платка, но не утешал даже цвет шелка – яркий, свежий и тоже сильный. Не слабее ветра.
В этом месте, под аркой, подлинной или воображаемой, я могла уже позволить себе слабость. И я плакала – отчаянно, навзрыд, безутешно. Довзаболи, как говорят у нас на Севере, – от души, от моей неповоротливой, как у прустовского Свана, снова не успевшей увернуться от разящего острия обиды, раненой души. Раненой недостойным, а потому уязвленной опасно.
Тонкая сигаретка плясала на ветру в моих ледяных пальцах, слезы жгли глаза и щеки, высокие каблуки коричневых ботинок – лучших, какие у меня были, то есть единственных, – звонко стучали о равнодушный асфальт, когда я переминалась с ноги на ногу в напрасных попытках себя успокоить.
За что? Почему именно я? За что мне все это? Сколько еще терпеть?
«Долго, – отвечала я сама себе, – ведь приезжала-то просить деньги на организацию факультета для коммерческого университета, которому сознательно продалась. Отдалась за деньги. Сама просила – денег же. И получила. Живи теперь, что ж плакать-то? Трать деньги. Организуй. Расходуй. Радуйся». И слезы хлынули снова. Все только начинается, и терпеть придется всегда.
Ветер холодил лоб и щеки, тонкая ментоловая сигаретка понемногу успокаивала.
«Нет, – вспоминала я, – нет, какие ковры! Цвета английской парковой розы, кремово-белые, с ворсом тяжелым и плотным, высоким, как давно не стриженный газон. А серебряный судок с осетриной – рыба была тоже цвета розы, только чайной, со слезой на лепестках. На крышке судка трепетали серебряными крылышками блестящие путти: вот эти пухлые младенцы подлетают к вам и толстыми пальчиками подносят дары морей.
А весь особняк в Колпачном переулке – бывший оплот комсомола, вытеснивший кого-то из бывших и сам вытесненный – новыми, денежно-политическими, будущими!
Ах, чтоб и вам тоже стать бывшими, сi-devant – прокляла я Люцифера, к которому только что ходила на поклон. Поклонилась – ну, хоть не поклонялась, как побуждал меня пославший к нему Мефистофель. Что-то у меня с именами не вяжется. Люцифер, Мефистофель – один персонаж… Одна персона!»
– Тебе нравится L? Нет, ну скажи, понравился тебе L? Мой ученик, между прочим. Ну, ты знаешь. Что я тебе-то буду объяснять. А вспомнить – приятно. Да и шеф его – тоже мой. Бывший. Ученик то есть. Ты с шефом еще не знакома. С самим S! Ну, может, и познакомишься еще, чем черт не шутит? Если дело пойдет. Значит, понравился. Ну и отлично. Давай теперь, деточка, работать. Главное сделали. Деньги переведут, пиши бумаги. Готовь документы на подпись Весь пакет.
Эту краткую напутственную речь Мефистофель произнес уже на следующий день, когда, выплакав на Чистых прудах все слезы (по крайней мере, так мне казалось, но запас был, как выяснилось дома, исчерпан вовсе не до конца), я поднялась в ректорский кабинет бывшего российско-американского университета, вытеснившего бывшую Высшую партшколу – сi-devant! – и села напротив него за кофейный столик под напольными часами высотой с Биг-Бен. Часы мелодично пробили два. Секретарша, милая скромная девчушка с хваткой ротвейлера, принесла поднос с коньяком и кофе.
– Может, тебе виски, девочка? – спросил Мефистофель небрежно.
Я знала, что следует предпочесть виски, что и сделала. Как просто бывает доставить человеку удовольствие. В окно, сквозь жалюзи, только вошедшие тогда в офисную жизнь, лилось весеннее солнце – щедрое, для меня слишком щедрое. Солнце каких-то других, незнакомых мне и счастливых людей. А может быть, знакомых и богатых. Темно-рыжий напиток в стакане золотился, в широком луче толпились веселые равнодушные пылинки.
– Ну, как вы с ним поговорили? Рассказывай. Только кратко. Все самое главное. Учебник свой подарила? Надписать не забыла? Сколько ты у него пробыла? Минут пятнадцать?
– Да где-то так примерно. Минут пятнадцать. Да. – Такой ответ я сочла уместным. Вряд ли Мефистофелю станет известно, что не пятнадцать. И не минут. А два часа с лишком.
Нет, мы только разговаривали. Вернее, меня допрашивали. Беседа строилась как с коронованной особой: вопрос (со стороны особы) – ответ (с моей).
Если быть точной, Люцифер, первый зам и сподвижник своего патрона S, его серый кардинал, а потому сильнейший своей закрытостью и мудро довольствующийся властью реальной, допрашивал вовсе не меня. Я как таковая его не интересовала. Ему было важно выяснить мнение моей тени. Или, что то же, мнение тени, в которой пугливо укрывалось тогда мое «я», то есть социальной роли. Мою социальную роль он определил, я думаю, так: «старорежимный интеллектуал, бывший поборник народного просвещения, рабочая лошадь вузовского образования с высшей квалификацией – профессор». И не ошибся. Все было правильно.
Узкая, как цапля, секретарша с черной гривой жестких блестящих волос, отчетливо переступая идеальными ногами и вынося коленки поочередно крест-накрест – дефиле для подиума – открыла передо мной дверь и объявила: такая-то из такого-то университета, профессор.
К моменту, когда прозвучала из ее серебристых губ эта фраза, я была в ярости. В бессильной злобе на себя. В отчаянье. Как я могу так волноваться? Почему не научилась до сих пор верному взгляду на мир? Почему будущая встреча с властью заставляет мои ладони потеть, а сердце биться, как перед экзаменом? Кто он такой, этот L? Моложе меня лет на пятнадцать – мальчишка, в сущности. В соавторстве с S написал одну тонкую книжку. С одной-единственной мыслью: деньги – это все. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Точнее: лучше быть богатым, чем бедным. Подумаешь, открытие! О том, что люди гибнут за металл, мы знаем давно. Он не из тех, кто гибнет. Но ведь он и не человек. Люцифер. Да, и еще написал учебник по пиару. Чуть ли не первый в нашей стране, а может, и первый. Ну и что? Пиар – дитя риторики, жалкая жертва позднего аборта престарелой матери: ей – две с половиной тысячи лет, ему – от силы сто семьдесят. Пиарчик. Крошка Цахес такой, черненький, хотя насаждается мысль, что в основном белый. И не фея Розабельверде, а сам Люцифер поглаживает его в нужные моменты по безобразной голове.
Да и кому быть подлинным автором учебника по пиару, как не ему, кто «вечно хочет зла, но сотворяет благо»? Ну, это дудки. Никакого блага он не сотворил, просто сумел обольстить даже Гёте, куда уж там было Булгакову удержаться. Не сотворил, потому что вообще ничего сотворить не может. Даже пиара. Цахеса даже. Учебник – может. Списать. Скомпилировать. Погладить по головке и пустить гулять по белу свету. Тоже мне, светоносец! Не зря дали ему имя самой таинственной, самой двусмысленной звезды – Венеры… Двусмысленной, двуликой, двуименной: Утренняя звезда! Ей же имя – звезда Вечерняя… Кометой пронеслась по черному небу моей памяти фраза философа Витгенштейна: «Невозможно заменить “Вечернюю звезду” на “Утреннюю” в предложении “Пастух ложится спать, завидя «Вечернюю звезду»”: эти выражения имеют разный смысл, но предмет, который они называют, один и тот же – звезда Венера»… Так ученый немец рассуждал о значении и смысле, о великой тайне именования предметов мира… Утренняя звезда… Денница по-русски. Венера, любовь… Любовь земная и любовь небесная… Люцифер, принесший нам свет пиара, просветитель из тьмы, пророк личной воли, именованный Венерой. Что ж, скольжение смыслов и подмена понятий – испытанные приемы пиара и пропаганды.
Ах, да ведь он и так уже çi-devant – бывший: падший ангел, упавшая звезда, грянувшая с небес в глубины ледяной тверди. Проклятье мое напрасно. Все свершилось!
Секретарша колыхнулась в своем высоком кресле, и черный плащ ее волос на миг открыл резкий профиль. «Но мои влажные ладони… Мое трепещущее сердце… Нет, какое же я ничтожество, вот и Логос меня покинул, отлетел с омерзением, увидев мое смятение перед жестким лицом власти – преступной, денежной, циничной!»
Так думала я, еще сидя в приемной, на бархатном диване, украдкой вытирая платком потные ладони и – волнуясь. Что поделаешь. Нервы. Просить вообще противно. Но почему я так завелась? Сердце колотится, вся дрожу… Власть. Вот она, разлита вокруг. Вот ее ядовитые испарения, ее циничная сила. Логос, где ты? Легко же ты меня покидаешь. Меня, дрожащую тварь с потными ладонями…
Но тут секретарша пригласила меня войти. Вернее, просто посмотрела на меня наконец – впервые за полчаса, что я провела перед ней в приемной.
В проеме двери открылся зал. Задняя его стена терялась в солнечно-туманной дымке, так что пространство казалось безграничным. Как в горах.
Я ступила своими коричневыми ботинками на персиковый ковер, и высокие каблуки потонули в нем, утратив от этого всю свою звонкую и беспечную силу.
Передо мной простирался стол для заседаний, блестящий, как плавательный бассейн.
На столе сидел L – на самом краю, нога на ногу, легкий и угловатый, как хищная птица, готовый и мгновенно соскользнуть, и сидеть так бесконечно. Спокойный. Одной рукой он опирался на стол, другой сделал мне знак садиться.
– Хотите сок? Я могу предложить свежевыжатый, апельсиновый. Сам всегда пью. И только его. Не хотите?
Я не отказалась. Осетрина и другие компоненты здорового образа жизни олигархов появились позже, по ходу беседы.
И села в торце стола, поближе к двери. Положила ладони на стол (жест «открытая рука», как рекомендует мудрость пиара, а на самом деле – чтобы он знал, что я об этом приеме знаю).
Послушно отвечая на вопросы, я поняла, что от меня требуется. Деньги дадут. Иметь своих выкормышей – акул пера, взращенных на свежих кусках плоти раздираемой на части страны, на крови, алой соленой крови, ежедневно каплющей с олигархических клыков, – иметь таких не просто хорошо. Необходимо. Для пиара, понятно. Нужно же в этой стране формировать благоприятную информационную среду. Общественное мнение.
Я подарила учебник. Он полистал, кивнул, сказал, что до завтра прочитает.
Я подняла брови. И зря. Прочитал ведь! Назавтра же это и выяснилось, когда я в ректорской машине повезла к нему на подпись пакет документов, подготовленный с помощью скромной ротвейлерной девочки – секретарши Мефисто.
Он тоже поднял брови, и допрос продолжался. Я делала все по правилам: отвечая, смотрела в глаза. Прерывание зрительного контакта – переключение ролей в беседе. Он задавал следующий вопрос, уточнял и все чаще переходил к монологам.
– Образование у нас никуда не годится, – говорил Люцифер. – Совершенно оторвано от жизни. Люди ничего не умеют. Не приспособлены к жизни.
– К какой? – спросила я.
– Что к какой?
– К какой жизни?
– К профессиональной, вот к какой.
– Чтобы уметь, надо знать, – сказала я.
– Не умеют простейших вещей, – продолжал он. – В программах одна теория. То ли дело в Штатах. Нам нужен американский образец. Практика, практика и еще раз практика. Никакой теории. Кейс-обучение. Пример из практики – разбор – пример для выполнения. Очень просто. Вот и у вас так должно быть. На факультете журналистики. Вы будете деканом, согласен. Если Мефистофель рекомендует. И учебник ваш мне понравился. Составите программы – покажете мне. И никакой теории, уж будьте добры.
– У нас госстандарты, – взмолилась я. – Чтобы лицензию получить, нужна, например, теория журналистики. Так дисциплина называется. И много другого. Философия, как у всех. Логика. История журналистики. История литературы… – О риторике я и заикнуться не посмела.
– А вы программы по стандарту составляйте, а учите не по стандарту. Кому она нужна, эта философия? История тем более.
– Для аргументации хотя бы, – сказала я. – Для того, чтобы убеждать. Для пиара. И пропаганды, между прочим. Литературные аналогии, исторические – распространеннейший тип доводов в журналистике. Без него никуда. В рекламе даже.
– Риторику введите, – приказал Люцифер. – Я ваш учебник еще почитаю, пока листал, вижу – почти пиар. Пусть будет. Пиара побольше. Все остальное – к черту. Одна практика, помните, одна практика.
– Но ведь они сразу в газете работать будут. Это и есть практика.
– А тогда можно вообще только газету и оставить, – улыбнулся он. – Так и сделаем. Нечего зря время тратить. В аудиториях штаны просиживать. А программы напишите. В министерстве пройдет, мы устроим. Получите вы свою лицензию. Скажите, а вы действительно считаете, что все это нужно?
– Что все?
– Ну, вы понимаете. Теория. История с географией…
– Считаю.
– А у вас дети есть?
– Есть, – сказала я и впервые за эти часы вспомнила о Ники. Странно, что забыла. Ведь для него я тут и мучилась, для него и его отца. Что бы он сказал, если б сидел здесь, за блестящим столом, и слушал, как клекочет об образовании эта крупная хищная птица? Какой свет знания несет на своих черных крыльях?
В этот момент внесли осетрину. Жаль все-таки, что Ники тут нет.
– А чем они занимаются?
– Тритонами, – чуть было не сорвалось с моих пересохших губ, но я вовремя одумалась. Вряд ли Люцифер вообще знает, что это такое. Кто это такие.
– Лягушками, – ответила я.
– ЧЕМ??? – не спросил он, нет, – вскричал в возмущении.
– Лягушками, – повторила я внешне спокойно. Было ясно: он ждал, что я отвечу как всякий, до меня входивший в эту дверь и удостоенный сидеть за этим столом: юриспруденцией, экономикой, медициной… Журналистикой, наконец.
– ЗАЧЕМ??? – снова воскликнул он.
– А потому что это ИНТЕРЕСНО, – сказала я.
Люцифер почувствовал, что некая грань преодолена, и услышал в моем зазвеневшем голосе вызов.
– Интересно? – повторил он с издевкой. Но и с недоумением. Он был озадачен. – Интересно?
– Ну да, интересно. Просто интересно, и все.
– Но… Так же нельзя. Что они будут делать, когда вырастут? На паперти стоять с протянутой рукой?
– Конечно. Именно. Это у нас называется – наукой заниматься.
– Но ведь у нас это бесполезно, – сказал он, успокоившись. – Наукой стоит только в Штатах заниматься.
– Ну… Наверное, – сказала я. – У нас сейчас, наверное, и правда бесполезно. Но что значит – полезно? Вы что имеете в виду?
– Да в общем-то ничего. Лягушками одинаково бесполезно. Что в Штатах, что у нас. Один черт. Вот вы говорите – интересно. Это ведь что? Так, удовлетворение собственных потребностей. Потому за это и не платят ничего.
– А вот, – начала я вкрадчиво, – вот, скажем, Фарадей. Он, думаете, почему изучал химическое действие тока? А потому, что им владела общая идея – чисто философская, между прочим. О единстве сил природы. И открыл электромагнитную индукцию. И эта самая индукция стала основой всей электротехники. А делал он все это не ради пользы. Ему лампочка Ильича даже померещиться не могла. Ему просто было ИНТЕРЕСНО. А все это я знаю, потому что училась в советской школе. Физику учила. Хотя для практической жизни, тем более для моей профессиональной, физика совершенно бесполезна. А вот вас переспорила. Не знала бы – не смогла. Вот.
– Ну, до свидания, – сказал Люцифер. – Спасибо, что уделили мне столько вашего драгоценного времени. Оторвали от изучения того, что вам интересно. Вы интересная женщина, между прочим. Вам это известно? Из школьного курса физики, я полагаю? Или из вузовской философии?
– Ну да, – согласилась я. – Из диамата, истмата и политэкономии: капитализма и социализма. У меня только за социализм четверка, а так все пятерки.
Не сомневаюсь, профессор, – ухмыльнулся Люцифер на прощанье. – Могли бы и не говорить. Это само себя видит, как сказал бы француз. Монтескье какой-нибудь. Но я ведь не менее галантен, правда?
От биографа
Если бы в год, когда мне исполнилось 16, не тигр был властителем мира… Но это именно он, великолепный махараджа джунглей в ярчайшем полосатом атласе, занес тогда над нами свою когтистую лапу. Тигриной лапе, которая легко ломает позвоночный столб быка, ничего не стоит чуть искривить земную ось или, по крайней мере, наклонить ее так, чтобы все понеслось и закрутилось в вихре нежданных событий.
Если бы небесный тигр не внушил коту, обыкновенному, хотя и очень крупному соседскому коту, ощущения своего могущества под защитой своего полосатого покровителя, разве посмел бы этот усатый зверюга проникнуть на наш дачный участок и разгуливать там поутру? Разве утратил бы он на рассвете майского дня страх перед Батоном – ужас, впитанный с детства и крепший в нем, ничтожном котенке, пока он взрастал за сеткой забора, глядя на свирепого пса, охранявшего наши владения? Разве забыл бы, выходя на поиски гнезд с беспомощными голыми птенчиками или теплыми насиженными яйцами, что Батон никогда не дремлет? Разве стал бы недвижно супротив врага в свой смертный час, выгнув спину и яростно шипя, вместо того чтобы бежать во всю прыть и найти себе спасительное укрытие?
В ранний час цветущего мая мой воскресный сон на дачной веранде был внезапно прерван.
– Мальчика убили! – кричала в отчаянье соседка Любка. – Мальчик! Мальчик! Мальчика убили!
Я распахнул дверь на крыльцо. За забором, закрыв лицо руками, рыдала Любка. В этот год она сдала дачу на все лето, кипенно-белым цветом был одет терн и вишни, стояла настоящая жара, и семья даченанимателей с двухлетним мальчишкой переехала из города уже на майские праздники.
– Батон мальчика убил! – услышал я снова. Нет, это был не сон.
Ничего страшнее со мной, кажется, еще не случалось. Я боялся взглянуть с крыльца туда, куда было обращено Любкино заплаканное красное лицо – на заросли бузины и крапивы у сарая, а потому тупо смотрел прямо перед собой, на калитку, ведущую к соседям, и на Любку. Она причитала. Я стоял в оцепенении. Пахло свежей смятой травой, выпустившей зеленый сок, пахло цветами и солнцем.
– Коля, – закричала, всхлипывая, Любка, отняв от красного лица руки и увидев меня на крыльце, – Коля, иди, посмотри, может, жив еще? Мальчик мой! Мальчик! Сколько раз я его от забора отгоняла, пока котенком был, думала, понял, вырос ведь! Котик мой любимый! Пролез-таки… Вот здесь, в этом месте пролез, под калиткой! Коля, Коленька! Беги скорей, я ведь к вам зайти не могу, Батон не пустит… Дай его мне, моего котика, живого или… – И она снова закрыла лицо руками, раскачиваясь под ветвями цветущей яблони.
Мир обрел прежние, привычные, чудесные очертания. Вся красота его вновь вернулась, обрушившись на меня теплым водопадом майского ливня. Зловещая ядовито-зеленая буйная крапива и темная, вонючая бузина ада преобразились.
Ноги еще плохо слушались меня, когда я спускался с крыльца и шел к этим уже не страшным зарослям.
Там, опустив голову к земле и стараясь просунуть нос в щель под сараем, стоял Батон. Не оборачиваясь, он приветствовал меня: султан на обрубке хвоста плавно покачивался.
– Люб, – сказал я, подходя к калитке, – он под сарай заполз. Как достать, не знаю. У нас там досок полно и всякого хлама. Может, выживет. Я Батона запру пока, а ты посмотри, хорошо?
К вечеру Мальчик так и не выполз. Под сараем было тихо. Запертый в доме Батон был спокоен. Под глазом его недолго кровоточила крохотная ранка.
Когда первое горе утихло, Любка сказала только: «Ну, делать нечего. Кошки это кошки, собаки – собаки. Так мир устроен. Ничего, Коленька. Не волнуйся. Забудем. Мы ведь соседи. Да и вообще… Чего уж тут». Как поразила меня эта тихая, печальная формула смирения!
Через пару дней появился запах. Ужасный, невыносимый, тошнотворный. Над сараем, вокруг него и особенно в нем жужжали и носились черные тучи мух. Делать было и впрямь нечего – залежи некогда полезных вещей, скопленных отцом под строением, не позволяли вытащить труп. Так наш сарай стал мавзолеем кота.
Еще через неделю мы почувствовали, что цветет нагретый солнцем шиповник. Потом сладким дурманом дохнула жимолость. Еще позже в воздухе разлился аромат жасмина и поглотил все запахи разом. Все было забыто.
Мой профессор ездил на зачеты и экзамены с дачи в Москву. Я готовился к выпускным – в школу меня отправили, когда мне было шесть, вот и настало время: выпускаться – и сразу же поступать. На биофак. В МГУ, конечно. На факультет, которым четырнадцать лет правил прадед. На кафедру, которой руководил он четверть века бессменно. Прадед – основатель дачи, демиург семейной вселенной. На даче же я и готовился – ко всему сразу. Ко всей моей жизни.
Отец был в экспедиции. Снова где-то в Туве. А может, на Алтае, не припомню. В общем, его, как всегда, не было. Мать в свободные от университета дни (какой уж это был у нее университет! Название одно) красила дачу. Изнутри – окна, двери, полы, а на первом этаже, в прадедовой норе, вырытой им собственноручно лопатой под корнями ели и выложенной кирпичом, – еще и белила оштукатуренные стены. Я помогал двигать мебель, остальное она делала сама. Даже краски сама покупала и возила на тележке из Истры.
Запах масла, скипидара и уайт-спирита перебивал по ночам даже левкои и душистый табак. Профессор делал и эту свою работу с привычным тщанием, но и с порывом, с неистовством сражающегося берсерка, всегда допоздна, иногда чуть не до рассвета. Да ведь первые песни зарянок звучали в четыре, а небо светлело на востоке и того раньше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































