Текст книги "Профессор риторики"
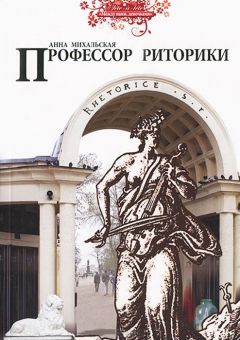
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
Цыган Витька взял свою лошадь за повод, вспрыгнул в седло и скрылся в неизвестном направлении.
А мы с китайцами, чтобы скоротать время до поезда в Москву, к которому нас должен был подкинуть Волоков, направились к девочкам.
Девочки в составе двух немок-волонтерок встретили нас смехом и щебетом, как ласточки. По слухам, в одну из них был уже влюблен Хай Чжэн. Хай Чжэн больше похож на северо-американского индейца, чем на китайца. Очень высокий. Смуглый, и лицо его жестко и определенно. Как и его душа.
Его Гретхен – по имени Берта-Ванесса: чудесно, правда? – была ростом ровно метр девяносто. Стройная, тонкая, черная, с острым лицом кельтской певицы Энии, она была притягательно загадочна. Пока не открыла рот. Я говорю по-немецки, и мне быстро удалось выяснить, что Берта (она же Ванесса) просто мечтает свалять для меня из шерсти местных овец теплый колпачок. Спустя несколько недель, когда обе девочки остановились у меня дома по пути в Германию, она действительно подарила мне его – окрашенный натуральной растительной краской, которую Ванесса (Берта) выдавила из каких-то неведомых мне болотных растений, прочный и мягкий, как хороший валенок, колпачок, украшенный тонкой шелковой кисточкой, до сих пор со мной. А Хай Чжэн писал ей потом письма. Недолго. Как и все в этой жизни.
Мы уезжали. Арбуз оставили у девочек, а с ним и подарки Хай Чжэну. От родителей из Бейджина.
– Знаешь, – сказал Ли Мин Волокову на прощанье, – у нас в Китае есть одна поговорка: «Тот не муж, кто никогда не видел Великую Китайскую стену». Теперь будет еще одна. «Тот не муж, кто никогда не видел лошадь». – Он был счастлив.
Вот так и кончилась эта поездка. А с ней и моя филия – любовь-дружба, страстная, долгая, жаркая и преходящая. Как все в этой жизни.
Так кончаются и мои поиски аналогий – сходного, близкого. Хрия требует, да нечего мне ей предложить.
Ни толерантный Запад, расплывающийся и дрожащий в голубом тумане марихуаны и однополой любви, ни жесткий Восток, где люди по сей день держат свое слово и чтят родителей, – ничто, кажется, нам не подобно. Что было – ушло, а что придет – неведомо.
Часть 6
Пример
«Exemplum»
Пояснение биографа
Чтобы рассуждение вышло убедительным, в этом именно месте, на шестом этапе классической восьмичастной хрии, ритору полагается приискать достаточные примеры, подтверждающие правильность сказанного. Они берутся из истории, литературы, из своей жизни, наконец. Из собственного опыта. Из судьбы своей черпаются они, эти примеры.
Наша же судьба такова, и читатель, думаю, имеет все основания в этом со мной согласиться, что всякий прожитый нами день может стать наилучшим примером для хрии о любви, времени и смерти – от первого предрассветного, сонного еще шевеления замедленной в спящем теле мысли до внезапного исчезновения ее в темной кроне разветвленного древа снов. Так засыпает ребенок, набегавшись за день – глаза, словно окна в весенний сад распахнутые навстречу новому, неожиданно закрываются, будто переполнившись, и густые ресницы осеняют сомкнутые веки. Так же и мысли.
Продолжить придется тоже мне. биограф
Мне казалось, что жизнь налажена. Нет, не так. Я и не задумывался о ее исправности, как пассажир легко и радостно скользящего по блестящим рельсам поезда – пассажир, тихо дремлющий на диванчике vagon-lit[27]27
Спальный вагон.
[Закрыть] или беспечно взглядывающий в окно: бессмысленный взгляд, бессмысленные картины. Случайные, непонятные, чужие.
А присмотреться стоило. Сосредоточить взор, а за ним и мысль. Ведь не далекие и невозвратные поля и холмы летели мимо – пейзаж моей собственной жизни. Мимо, мимо…
Даже о банке почти не вспоминалось: зачем? Никакой насущной нужды не было. Родители устойчиво развивались. Знаете, есть такой термин – «устойчивое развитие»? Точнее, был. Сейчас о нем никто и не вспоминает, об устойчивом развитии этом. Придумал, конечно, какой-то американец. Некая социально-экологическая теория, с нажимом насаждавшаяся у нас в ту пору, когда профессор продавал свои способности в коммерческом университете, а кровь все капала с клыков молодых реформаторов. Кровь нашего народа, между прочим. Народа, имя которого… Вот тут уж и впрямь справедливо: nomen odiosum est[28]28
Имя ненавистно.
[Закрыть]. Лучше имя его не произносить. Тем более в сочетании со словом «кровь». Нет у этого народа никакой своей крови. Только общая. Что наше – то наше, а что ваше – то общее. Закон всех перестроек. И революций.
Скажешь: я русский… Зачем сказал? Разжигает национальную рознь. Розжиг костров в лесу запрещен. Или: сказал с вызовом. Без вызова такого не скажешь. Или: с чувством собственного превосходства. Читали Ленина – «О национальной гордости великороссов»? Нет? А я читал. Там все это написано, вполне подробно. И ярко, надо сказать. Только софизмов много. Риторики. Тут профессор меня извинит: сам знает, что наука его – как двуликий Янус и служить может не только на благо, но и на гибель. Общества. Народа. Личности.
Пробовал как-то в беседе назвать себя без этого имени, уж совсем, мне казалось, нейтрально. Я вот, – говорю, – славянин. Применил, так сказать, уловку. Называется это в риторике «расширение тезиса». Может быть, здесь профессор сказал бы даже о «смягчении». Не знаю. Но в ответ было то же – недоумение. Даже негодование: как?! Кто это может о себе так сказать? А татары? А варяги? А турки? А угры? А балты? Да-а-а, батенька… Славянин тоже нашелся.
Короче, чья-то общая кровь капала с клыков толерантных агнцев пера, политики и бизнеса, когда теория устойчивого развития насаждалась, как хрущевская кукуруза, повсеместно. Но родители мои и впрямь развивались, и развивались устойчиво.
О профессоре я уж не говорю. Книга за книгой… Сидит женщина дома, пишет. Ну, сходит иногда в библиотеку или лекции почитает – и назад, за стол. По пути – в магазин. Мы ведь с отцом приходим очень голодные. Я особенно.
Некоторое подозрение могла бы вызвать лишь страсть к уборке. Прямо мания какая-то. Но и в этом я нашел нечто полезное. Вещи не нужно было искать – всякий носок на своем месте.
И еще одно. Только одно. Очень редко, раз в год примерно, приходилось вызывать «скорую». Сердце. Мы старались ее не огорчать, но разве за такой уследишь! От каждого слова – в слезы. Но ведь успокаивалась она так быстро. И опять за стол. Или за уборку. Или на работу. Что может быть лучше, чтобы ритм, восстановленный никотинамидом, держался?
Да и сам профессор держался стойко. Диета, специальная гимнастика, жесткая дисциплина. Никаких лекарств, только трава. Обычный пустырник. Тот, что растет у дачных дорог на местах заброшенных свалок. Темные жесткие стебли, опушенные шершавыми волосками, пурпурные неброские кисти, будто припорошенные горем. Высокая трава, неприветливая. Некрасивая. Но приступы становились все реже, а ритм все устойчивее.
Даже отец шевелился, порою очень активно. Бродячие собаки в городе стали горячей темой. И денежной. Начались интервью и съемки. Журналисты наседали. «Мутанты завоевывают город. И плодятся…» Как вам такой заголовок? А под ним, на первой полосе «Комсомолки»: «По мнению ведущего сотрудника ИПЭЭ РАН Алексея Н. Черкасова, чем больше бродячих собак отлавливают, тем быстрее темпы их размножения». Все это, конечно, проплачено фирмами ловцов. В те годы за одну пойманную бродягу город платил сто баксов. А вот и иное: «Рыцари в собачьих шкурах». Подзаголовок: «Каждая убитая собака попадает в рай». Каково? Это «МК». Проплачено противниками ловцов – теми, кто хочет, чтобы город щедро отстегнул на приюты. И на стерилизацию.
И руки к отцу тянулись с обеих сторон: он ведь был единственный – дипломированный и остепененный, академический и авторитетно-научный… Денег он на этом сделать не мог, но настроение поднималось. А ведь это самое главное, правда?
Вот он сидит за ноутбуком, такой весь по-школьному сосредоточенный, приблизив к экрану лицо – совершенно юное, даже мальчишеское, несмотря на пробившуюся седину и лысину, – и, набычив свою упрямую крутолобую голову шестиклассника, весело щурит свои рыже-серые сияющие глаза записного озорника и острослова: «Ну-ка, поди-ка, Николай, почитай, что за бред мне бибисишники прислали!»
Я, понятно, подхожу не торопясь, потягиваясь и прихлебывая черный чай из своей любимой оксфордской кружки. Да, неслабо. Реально вполне:
«Dear Mr Сherkasov, I am sorry for writing to you in bad Russian. Please read the document attached to this email and if possible call me at work.
I can speak a little Russian and I would really like to talk to you about your research.
Thank you and kind regards, Leucoj Tulip[29]29
Дорогой г-н Черкасов, простите, что я пишу вам на плохом русском. Прочитайте, пожалуйста, документ, прикрепленный к этому письму, и, если возможно, позвоните мне на работу. Я немного говорю по-русски и была бы рада побеседовать с Вами о Ваших исследованиях. С благодарностью и наилучшими пожеланиями – Левкой Тьюлип.
[Закрыть]Дорогой г-н черкасов, Моим именем будет левкой тюльпан. и я свяжусь вы считать исследование, котор вы в настоящее время делаете в собак улицы.
Я работаю для вызванной компании телевидения средствами IWC и мы были бы очень заинтересованн в делать программу основанную на ваших исследовании и злоключениях. Мне дал ваше email профессором Bateson университета Oxford поговорило к директору моей компании для того чтобы сказать ему о вашем исследовании. Было бы хорошо знать больше о вашей работе, например, вы надеетесь доказать и достигнуть и почему вы думаете важно. Препятствуйте мне сказать вас о компании вообще. Сформировано в мае 2004, Средства IWC выросли из 2 из производственное предприятие независимого телевидение Великобританий уважать: Идеально мир (основанный Murial Сер) и Wark Clements (основанное Kirsty Wark). IWC T будет компанией 2-центра основанной в лондоне и Шотландии. Оно имеет 3 главным образом фокуса genre: factual, драма и программы детей. Мы делаем программы на канал 4, BBC 1, 2, 3 и 4 и BBC Шотландия, ITV, Открытие, Небо и хозяин других цифровых каналов. Немного программ, котор мы делали недавно – Оригинал вселенного с профессором Стефан Hawkings (минуты C4 2x60), Корень зла с Ричард Dawkins (минутами C4 2x60) и втихомолку жизнью Manic упадочного отличая Стефан жарит, Ричард Dreyfus и Fisher Carrie (программы BBC2 2x 60 мельчайшие).
Я хотел был бы добавляю что я имею личный интерес в этом проекте и поэтому спрашивал быть одним для того чтобы коснуться с вами. Я жил в Moscow на 6 месяцев между 2005 и 2006 в которое время я свидетель трудные жизни
100.000 собак улицы (я находился там в зиме, по мере того как вы знаете, будет определенно трудно для их). Оно кажется как очень интересные и злободневные вопрос и одно люди должны быть более осведомленны. Окончательно, Я должен спросить если вы были причалены любыми другими компаниями телевидения от Британии и Америки и если так, то размер вашей запутанности с ими. Я реально хотел был бы разговаривать более далее с вами о возможности создавать репортажное-документальн. Принимающ вас не поговорите английскую язык (мои извинения если вы делаете!), то мы все еще связывали над телефоном даже если мой поговоренный русский не гениен. В противном случае чувство свободно для посылки email.
Я смотрю вперед к слышать от вас.
Сердечные приветы, левкой тюльпан».
Ну, что тут скажешь? Разве это не устойчивое развитие? И разве устойчивое развитие – это что-то иное? Нет, нет и нет.
И я был спокоен и не вспоминал бы о банке.
Но вот оно: началось.
Вечером явился по телевизору Иисус Христос. Немолодой уже юноша. Его впалые виски и увядшие щеки были обрамлены поникшими волосами, на челюстях и подбородке пробивалась темная небритость, а голос звучал устало. Я зашел в кухню, откуда доносилась его речь, плоская и деревянная, как фанера, пролетающая над Парижем, и услышал: «Мне тридцать три года, и у меня есть справка о непорочном зачатии». На этом мессия замолк, и новостная программа была продолжена ведущей, оформленной в стиле кокаинового шика.
Я выключил телевизор и стал пить чай, глядя в окно, на реку. Над стальной водой, над серым гранитом набережной и асфальтом дорожных развязок неслись по лимонному небу пурпурные облака, как летающие кинжалы в моем любимом китайском фильме. Закат обещал ветреный день. То, что некогда было солнцем, угасало где-то далеко, позади башен – небоскребов, выстроенных еще при Лужкове в московском Сити. Теперь тусклое кровавое пятно вечернего света опускалось за лесом этих серых бетонных столбов. Хотя сначала башен было две – может, в память об 11 сентября 2001 года, а может, московский градостроитель посмотрел фильм – мелькнувший на мгновение и тут же забытый блокбастер по давно забытому роману Толкиена.
Два небоскреба высились на холме за рекой. Там когда-то стоял один император – он не знал моего народа и ждал ключей от Москвы. Я-то думаю, что башни поэтому и возникли именно на этом месте. Но всем остальным ясно, что на самом деле башни порождены были самим текстом оксфордского профессора. Порождающая сила текстов – предмет особого интереса другого профессора – моего. Это и есть современная риторика, во всяком случае, так он полагает.
Стемнело, и с вершины одной из башен поднялись и разошлись по черному уже небу два синих луча. Они были как чувствительные усы слепого, но хищного насекомого. Усы непрерывно ощупывали небосвод. Это привычное зрелище показалось мне почему-то настолько ужасным, что я отвернулся от окна и, не допив чай, забился на свои нары – купленную лет пять назад железную кровать, под которой, как бы в норе, располагался такой же серый стол.
Дача, моя родина, первое жилье, сохраненное моей младенческой памятью, по сути и была – нора. Это было ее «присущее», а не «привходящее», как сказал бы вслед за Аристотелем мой профессор. Норная структура родного дома оказалась порождающей моделью того угла моего сознания, который отвечает за ощущение уюта, так что всю жизнь я чувствую себя в безопасности только в углу. В норе.
Подходящая штука, то есть структура, продавалась лет десять назад в «Икее» – плоские грибы «Икей» и «Ашанов» выросли тогда вкруг московских окраин, ведьминым кругом очертив расползшиеся вплоть до Кольцевой новостройки. Бесконечно однообразные многоэтажки требовали мебели и утвари, и хозяева бесчисленных бетонных сот наполняли их, неустанно снуя в «Икеи». Для наполнения желудков людей и, соответственно, поддержания жизнедеятельности служили «Ашаны».
Все стало так просто. Машина – бензоколонка – «Ашан» – «Икея» – сота. Как в сотовом телефоне, так в сотнях и сотнях сот. Так просто, как в сотовом сознании обитателей.
Сотовые мысли стали путаться, и я задремал, закутавшись в икейный пледик – мой любимый пледик из какой-то синтетической дряни, зато с несколькими изображениями белых кошек, – да и не плед вовсе, а только функция пледа, имя пледа – так все вещи в «Икее» суть только имя и функция. Разве можно найти хоть какое-то сходство между моим клочком серой псевдофланельки с белыми кошками по краям и исходным предметом, названным этим словом – например, пледом Шерлока Холмса – добротным до степени вечности переплетением нитей, по-настоящему спряденных из подлинной шерсти живых овец, взаправду жевавших и глотавших свежую траву на холмах реальной Шотландии? Риторический вопрос, не правда ли? О реальности Холмса и говорить нечего. Если сравнить Шерлока с виртуальным икейным пледом…
Но я отвлекся, а ведь тут-то как раз и началось.
Во сне было темно. Меня – а я был всего лишь яркой золотой искрой – носило вверх и вниз над черными волнами мрака. И вдруг я услышал голос. Обычный голос, только всеобъемлюще звучный, голос без источника, голос без уст. Спокойный, но внушительный, словно бы побуждающий к действию:
– Завещание. Завещание. Завещание.
Так он сказал и умолк. Тьма, лишенная звука, будто еще сгустилась. И вновь тот же голос произнес – прямо рядом со мной, неожиданно приблизившись, обретя место во мраке:
– Завет. И в ухо мне прошептал: «Завет». И в третий раз – то же, уже издалека, удаляясь: «Завет!» Все снова смолкло, и мне показалось, что я проснулся. Наяву было так же темно, как во сне. Лежа на спине, я открывал глаза, закрывал их – было то же. Но голос вернулся.
– Наследство, – неторопливо и внятно прозвучало отовсюду сразу. – Наследство. Наследство. Я не мог шевельнуться и, широко открыв глаза, неподвижно смотрел вверх.
Тьма молчала. Не было слышно ни шума ночного города, ни редкого стука капель из кухонного крана, ни журчанья холодильника.
Вместо этого в слепом мраке пронеслось какое-то тихое дуновенье, словно мягкое крыло большой птицы чуть не коснулось щеки.
– Наследие, – властно проговорил голос совсем близко. – Наследие, – шепнул, будто напоминая. И далеко-далеко, исчезая, крикнул: «Наследие!» Все равно что «Прощай!».
Наверное, я потерял сознание. А может, мне все это снилось, с начала до конца снилось, потому что в сером свете июльского рассвета, в чириканье и возне воробьев на жестяном карнизе нашего старого кирпичного дома, я нашел себя таким же, как воробьи, бодрым. Я был полон желания спуститься вниз и позавтракать, а главное – полон любопытства. Энергичного любопытства, а не какого-нибудь вялого недоумения – эдакого безразличного, дряблого и слабого, как непроснувшееся тело. Я хотел узнать, что все это было и что значит. В моем любопытстве была надежда, а не безнадежность. В моей силе – уверенность, что узнаю. Узнаю наверняка. Узнаю вполне. Откуда бы? То есть откуда уверенность? И – откуда узнаю?
Может быть, голос напоминал о банке? Нет. Никакое она не наследство. Тем более – не наследие. И никто не завещал мне ее. Спер я ее, эту банку. Просто спер. Нарушил завет, а не исполнил. А сама банка… Разве это завет? Наследство, наследие, завещание, завет… Есть в этом ряду слов какая-то загадка, закономерность какая-то, но банка тут ни при чем.
Профессор уже ушел в институт: накал приемных экзаменов бывает в разгаре лета. Первый день августа. Еще один день жары. Стоило мне приоткрыть раму стеклопакета, как потянуло гарью – торфа в подмосковных недрах хватит до конца нашей эры. Где-то в дымке скрывалось то, что некогда звали солнцем. Опаловое свечение было разлито в сером тумане. Везет отцу: сидит себе с волчатами в тверской глуши, дышит воздухом, прозрачным, как глаза его аспирантки, наставляет студентов – Хай Чжэна и нескольких полоумных девиц. Этакий гуру новой теории поведения.
Нет, есть все-таки в моем профессоре что-то профетическое – пророческое, даже ведьминское. Помню обрывок начатого ею текста – я его тоже отправил в пианино, чтобы не затерялся. Там было сказано, кажется, так:
«Под тучами черно-златыми, полями асфальта пустыми, голодною серою тенью, в жестоком и легком движенье преследует нас этот город, детей позабывший так скоро, как будто бы мы позабыли тот город, в котором любили, тот город, в котором дружили… В котором не прятались – жили…» – видите, город-волк. Волчья ферма…
Я с тоской вспомнил о недавнем путешествии с арбузом. Содрогнулся. Какой порыв… Сколько страданий… Какая, в сущности, нелепость… Был бы я умнее – просидел бы все это время в бархатном пыльном нутре кареты, как сделал это в осьмнадцатом, любимом мною, столетии иронический англичанин Лоренс Стерн. У него-то хватило житейской мудрости понять, что подлинное сентиментальное путешествие не может быть реальным. Посидел в карете, виртуально пропутешествовал, да еще и роман написал об этом. Вот и мне бы – в нутро, в нору. Умереть, уснуть… И видеть сны, быть может… Куда как достойней, чем метаться по ухабистым и скользким дорогам Тверской губернии, словно угорелый заяц: весь – напряжение, безнадежность, боль… Не иронический я какой-то.
Кофе пить не пришлось – опаздывал на встречу с Вэй Юнем. На Пушку, в «Макдональдс». Там и выпью. Все равно мой маленький друг будет долго и со вкусом завтракать: грех не набраться сил перед магазинами. Предстояла закупка экспедиционных вещей, а это надолго.
«Макдональдс» шипел кофейными автоматами и шумел разноцветной толпой в самом устье Большой Бронной, там, где она вливается в Тверскую под печальным взглядом поэта, черного от скорби и дыма, будто после аутодафе, полыхнувшего до небес и оставившего его невредимым, но навек неподвижным.
Вэй Юнь ждал меня на террасе, окруженной широким поясом желтых цветов, за плотной стеной их беспомощно-терпкого, какого-то обмирающего запаха. Это были на редкость крупные виолы – плоские нежные венчики цвета темного золота, нагретые в туманном воздухе, словно в парной, они, казалось, сами источали жару. Их только что обдали утренним душем из шланга, и на золотых монетах лепестков еще искрились прозрачные капли.
Вэй Юнь что-то чирикал, как маленькая квакша, птичка или цикада, а я потягивал кофе и смотрел на бульвар. Там, прямо напротив, бил фонтан, струи шумели и пенились, а на каменном ободе сидели абитуриенты Литинститута, листая книжки и смеясь. Они курили и флиртовали. На страницы учебников падали мелкие брызги.
За белым столиком чуть сбоку от нас сидели двое – цветущая молодая женщина, почти раздетая, с прямой чуть жирноватой спиной, и мальчишка лет десяти, с ее лицом, только мягким и еще не злым. Она оживленно говорила, жестикулируя и откидывая назад волосы. Блестело золото на полных белых пальцах, просверкивали тонкие разноцветные лучи алмазов в ушах.
Говоря, она не отрываясь смотрела сыну в глаза, будто внушала что-то, колдовала, завораживала. Я прислушался.
– А если я не буду так дышать? Так, как ты объясняла. Мы тренировались, но у меня не очень получается, – сказал мальчик.
– Ну, тогда врач не обнаружит у тебя тех симптомов, которые нужны для нашего диагноза. Ты ведь понимаешь, как это важно. Это определит всю твою дальнейшую судьбу. Бронхиальная астма – это белый билет. А белый билет – это свобода.
«Да, – подумал я. – Все то же. А ведь сколько лет назад я рассказывал садисту-психиатру в диспансере о привидении кота! Тогда мне было шестнадцать. Через год с небольшим – тридцать. Дюжина, почти чертова. Но – все то же. Служат теперь всего год, но что это за срок! Год – главный цикл человеческой жизни, главная ее единица. И год сегодня – никак не меньше двадцати лет рекрутства в девятнадцатом веке. Все происходит так быстро. Знания, техника, деньги… Деньги и власть, что текут и распределяются по миру потоками, словно электричество по высоковольтным линиям… Но эта вечная для нас угроза вылететь из жизни, чтобы больше туда не вернуться! Потерять единственно нужное время… Все у нас чужое, друг мой Луцилий, одно только время наше. Многие видят смерть впереди, а ведь большая часть ее у нас за плечами, – так, или примерно так, скорбно и веско, говорил юношам Рима Сенека. И Аристотель: погубить юношество на войне – все равно что из года уничтожить весну.
Но сегодня, сейчас, в нашем мире не то ли – уничтожить возможности? Отнять насильно время? Никакой контрактной армии так и нет. Одни обещания. Да и кто на земле нашей многострадальной позаботится о людях ее? О семьях? О сыновьях? Нет, как повелось исстари, издревле, так и осталось. Молох – и дорожная пыль».
Думал я так и слушал – с сочувствием. Не то чтобы с сочувствием – с пониманием. Но вдруг, неожиданно для себя, отставил стакан с кофе, и спина моя сама выпрямилась, как у этой женщины. Она все говорила, говорила не умолкая, говорила со своим сыном, как со взрослым мужчиной, как с равным, и пристально смотрела ему в глаза своими блестящими черными глазами, ни на миг не отрывая взора. Я сделал Вэй Юню знак, и он послушно замолк. Слышен был только шум фонтана, шаги множества ног по мягкому от жары асфальту. И ее слова. Ее речь, что становилась все резче, все громче. Стало душно. Очень душно.
– А патриотизм? – спрашивал мальчик. – Патриотизм? Родина? Кто будет ее защищать? Так другие говорят, не я, ты не думай. Но все-таки?
– А ты вспомни, что сказал Булат Шалвович Окуджава! Во время так называемой «перестройки» он сказал: «Патриотизм – это чувство, доступное даже кошке»! И ему поставили памятник. Ты возразишь: а какие у него песни военные! Замечательные! Да, конечно. Прекрасные песни.
– А как же тот героизм? Солдаты шли на смерть. И была победа. «Одна на всех, мы за ценой не постоим»?
– Ну, милый, мы ведь теперь знаем, как это было на самом деле. Раньше нас было легко обмануть, а сейчас мы знаем слишком многое, чтобы в это поверить. Ты слышал о заградотрядах? Тех солдат, кто не шел вперед, а тем более пытался бежать, просто расстреливали специальные отряды, пущенные сзади. Своих же расстреливали. Дадут стакан спирта, вот человек и идет. Бежит даже. И кричит что-то, а что, и сам не понимает. «За родину, за Сталина!» Ужас. Обман сплошной. А за спиной заградотряды. Вот так.
– Нет, ну все-таки…
– Пойми, ведь это был все-таки другой мир, другой. Все были обмануты и запуганы. А сейчас мы свободны.
– А нас в школе учили, что Кеннеди сказал: «Don’t ask your country, what your country can do for you! Askyourself, what can you do for your country!»[30]30
«Не спрашивай свою страну, что она может сделать для тебя! Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны!»
[Закрыть] Речь называется «Патриотизм»…
– Ну и правильно вас учили. Кеннеди – это Кеннеди, а США – великая страна с великим народом. Была, есть и будет. Только мы с тобой живем здесь. Здесь и сейчас. В этой стране. Нужно же понимать, что эта страна представляет собой сейчас! Да ее, если разобраться, и нет на самом деле. О чем ты? Защищать границы какой-то несуществующей страны! С несуществующим народом! Нечего тут защищать. Не-че-го. Пойми это и веди себя достойно. И дыши как следует. Дыши, как я учила. И ничего не бойся. Не беспокойся ни о чем. Ты свободный человек. Даже здесь. Особенно здесь. Через некоторое время будешь жить, где захочешь. А пока пойдем к врачу. Пора. Только дыши, дыши правильно.
Они встали из-за белого столика, и отодвинутые стулья в духоте резко визгнули пластмассовыми ножками по блестящему кафелю. Я молча смотрел им вслед.
Вечером, после беготни по спортивным магазинам – в жарком дыму Вэй Юнь, да и я тоже, скорее не бегали, даже идти быстро не могли, а так – переползали, присаживаясь везде, где можно было выпить кофе, а колу мы пили по дороге, прямо из бутылок, не переставая, – я вошел наконец в свой дом, бросил в коридоре рюкзак и пакеты с покупками и подошел, как всегда, к окну.
Закат был точь-в-точь как вчерашний. Расплавленный диск в сером тумане… И я вспомнил ту песню – цыганскую песню, что свела с ума Федю Протасова в «Живом трупе», – ту, что так часто пел под гитару мой дед, отец профессора. Называлась она странно – «Невечерняя». И слова там были странные – про туман на поле, туман серо-пегий… Я плохо помню деда, совсем почти не помню, но эта любимая песня матери – звучит, и стонет, и стелется поверх росистой травы на лугу у Истры, под густыми пеленами ночного тумана, тумана невечернего… «Невечерняя заря занималася…» Больше ничего, ничего не помню… Только переборы гитары, то звучные, как далекий гром за рекой, то тихие, близкие, звенящие, словно тонкие браслеты на тонкой руке…
Дед мой прошел всю войну с гитарой. Пел там. На войне – пел. Невозможно это понять, невозможно. Думать об этом трудно. Нельзя, наверное. Почему он выжил? Что за судьба – выжить, от подмосковных стылых высот, мерзлых окопов, и до рейхстага – выжить. А потом – жить… И я вспомнил строчку из песни другой эпохи, недавней вроде бы, но такой уже неразличимо далекой: «А в мире есть закон, и он гласит: кто любит, тот и должен быть убит». Высоцкий, кажется. А потом: «Кто любит, тот не должен быть убит».
Мой дед выжил. Что это значит? Что справедливо и то и другое. Нельзя было не умереть. И он умер. И остался в живых. Он был убит – и выжил. И жил. А любил – всегда. И его любили. И мать мою назвали его именем – Сашенькой. Бабушка говорила, что другие имена для нее просто не существуют.
Я подошел к старому шкафу и с трудом выдвинул нижний ящик. Дерево лишь слегка повело от времени, шкаф был надежный, дубовый, но ящики слушались не сразу. Не «Икея» все-таки. И вынул папку, пожелтевшую послевоенную картонную папку с завязками, и сел за стол, и положил перед собой плотные сероватые листы. И маленькую книжечку со звездой на темно-красной, почти черной коленкоровой обложке.
«Красноармейская книжка. Яворский Александр Александрович. Старший сержант. Старший орудийный мастер. Год призыва – 8 августа 1940. Наименование части: 313 Зенитно-Артиллерийская Варшавская Краснознаменная орд. Б. Хмельницкого дивизия.
Прохождение службы: Московский фронт – 21.6.41–18.5.43. Брянский фронт – 6.6.43–9.5.45. I Белорусский фронт.
Правительственные награды. Медаль «За боевые заслуги» – 17.2.44. Орден «Красная Звезда» – 31.8.44. Медали «За оборону Москвы» – 1.5.44. «За взятие Берлина» – 5.45. «За освобождение Варшавы». «За победу над Германией» – 9.5.45.
Ранения и контузии в период Великой Отечественной войны. Легко ранен в грудь в октябре 1943 г.».
Вот и все. Все! Легко ранен в грудь.
Сверху на каждом листке книжки написано: «Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих книжек задерживать».
Наградные листы я разложил в хронологическом порядке и стал читать – внимательно. Не торопясь. Читал их в первый раз в жизни. И не торопился, кажется, тоже
– впервые.
Январь сорок пятого. Вверху на листе– портрет Сталина, по сторонам знамена, в дубовые ветви вплетены орденские ленты. Внизу, под текстом благодарности, – солдат держит древко знамени, оно реет на ветру, на пилотке звезда, рука указывает вперед, за спиной развевается плащ Георгия Победоносца, за солдатом дым пожарищ, наступают наши танки, следом бегут другие солдаты, а некоторые лежат. Лежат неподвижно на поле боя. Но это, видно, враги.
«Тов. старший сержант Яворский Александр Александрович. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 17 января 1945 года Вам объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ за отличные боевые действия при овладении столицей союзной нам Польши городом Варшава – важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке ВИСЛА. Командир части № 31436 подполковник Ухальцов». Подпись, широко размашистая, вверх устремленная. Полевая печать войсковой части.
Второй лист. Сверху рисунок тот же – Сталин в знаменах, лентах и дубовых листьях, – а под текстом – три острые иглы кирх, руина стены с вывеской «Otto Wirhenih» (написано готическим шрифтом), обломкизданий, падающие столбы линий электропередач, поверженные немцы, над ними – наши солдаты с винтовками наперевес, впереди мчится танк – экипаж у башни, винтовки изготовлены к бою.
«Тов. старший сержант Яворский Александр Александрович. Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 11 февраля 1945 г. № 274 за овладение городами ДОЙЧКРОНЕ и МЕРКИШ-ФРИДЛАНД – важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ». Печать и подпись те же.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































