Текст книги "Профессор риторики"
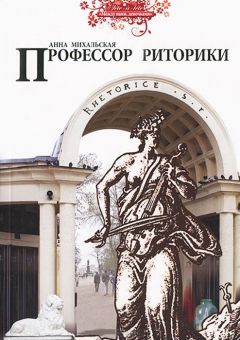
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
«Как можно ошибаться в людях. Не судите, да не судимы будете, – размышляла я, направляясь в противоположное крыло здания, в свой журналистский деканат. Каков Амир! Или добро и в самом деле существует, что прорывается на свет столь же неумолимо, как нежные ростки молодой травы ломают серую кору асфальта? Если так, то есть и Бог… А ведь я усомнилась… Усомнилась…»
И я отперла ключом свой пустой кабинет, села в роскошное вертящееся кресло – «кресло руководителя», как этот предмет назывался в магазине офисной мебели, – и выпила рюмочку коньяку. Одна. С облегчением. Стало тепло. И светло где-то внутри. Наверное, там, где душа. За окном сгущалась тьма ноябрьского вечера.
В дверь робко постучали. Вошла незнакомая девушка, весьма привлекательная, с потоком струящихся золотых кудрей до попы и бархатными карими глазами.
Нежным лепечущим голосом она назвала меня по имени и отчеству.
– Да, это я. Чем я могу вам помочь?
– Э-э-э, – замялась девушка, – меня зовут Ксюша. Я – ну, как бы это сказать… Я как бы помощник Романа Вениаминыча… Я вообще-то с телевидения. А теперь еще буду типа лаборант, или методист, как у вас это называется… Ну, на этой кафедре, короче.
– Да, Ксюша?
– Так вот мне ректор посоветовал как бы от Романа Вениаминыча к вам сходить и все узнать.
– Что – все?
– А я и сама не знаю. Ну, все, что полагается. Романа Вениаминыча заведующим кафедры назначили, и он меня послал… типа спросить… как это… ну, что для этого делать надо?
– Заведовать, – сказала я. – Заведовать. Больше от него никто ничего не потребует. Так и передайте: надо заведовать. Хорошо?
– Как, и все? – Она широко раскрыла свои шоколадные глаза и помахала в воздухе ресницами.
– Все, Ксюша.
– Ну, извините… – протянула она и тут же приободрилась: – Но если что, я к вам еще зайду, вы не против?
– Пожалуйста, Ксюша, конечно, заходите, – ответила я с легким сердцем. Я знала: вряд ли хоть раз доведется мне впредь наблюдать этот симулякр телемира, прелестный, как девочка-цветок из анимэ.
Больше она не приходила. Исчезла.
Если бы не психология… Если бы не замечательная эта наука, разве созвали бы заседание Ученого совета, разве прозвучал бы на нем доклад бывшего зама бывшего министра просвещения, прогрессивного педагога и ученого-психолога, многотомные труды которого я давно заметила за стеклом в кабинете Мефистофеля – толстые книги, одетые в толстую красную кожу с золотым тиснением, так, как некогда издавались собрания сочинения классиков марксизма-ленинизма? В нашем коммерческом «универсуме» этот молодой, совсем молодой и очень веселый человек был профессором, конечно, но особенно важным, потому что главной его кормушкой по-прежнему оставалось министерство.
Если бы не скинхеды… Если бы не бесчинства фашиствующих бритоголовых чернорубашечников в российских городах, разве возник бы президентский проект по внедрению толерантности в сознание россиянина, разве разрабатывались бы психологически обоснованные программы по развитию толерантности на всех уровнях образования – от детского сада до вуза включительно? И главное – разве на реализацию этих программ выделены бы были столь значительные бюджетные средства?
– Привет, Валюша, дорогая, тебе грант не нужен? По толерантности? А то у меня есть. Хочешь – бери! – разносился по коридору баритон бывшего замминистра перед заседанием.
И сам доклад был веселым, энергичным и, соответственно, очень коротким. Профессор быстро объяснил, что такое толерантность, как нам всем ее не хватает, какие ужасы сулит ее отсутствие и какие выгоды – стремление к ней.
Выходило – надо быть толерантным. Чем толерантней, тем выгодней.
Мефисто отдал приказ факультетам: ввести толерантность в учебный план как обязательную дисциплину. А лекции сделать общими, для всех сразу. И читать будет наш главный психолог, самый толерантный человек в вузе. А может, в этой стране. Глава толерантности в министерстве. Ее доверенное лицо. Ее адвокат и распорядитель.
И в третий раз, через неделю после первых двух, случился скандал. На этот раз совсем камерный. Пока весельчак докладывал, присутствующие посчитали в уме, сколько в год получается лекций. А почем платят за одну лекцию главному психологу, тоже все знали. Выходило, что толерантность встанет вузу в новую иномарку высокого класса.
Но вместо этого встала главный бухгалтер «универсума» – поднялась как бы нехотя, как бы с трудом, кутая острые плечи в немодный, но надежный широкий шарф, спасавший ее узкую грудь от внезапных сквозняков нежданных нововведений.
Сначала она покашляла. Потом закашлялась. Немедленно поднесен ей был стакан чая с лимоном: в холодные времена года «универсум» обеспечивал своим комфорт и защиту.
– Это что ж выходит, господин ректор, – сказала она наконец, тряхнув светлыми кудельками слабых волос. – Шутка ли, такая сумма? Нет у вуза на это средств. Нету – и все. Не заработали.
Веселый психолог демонстративно развел руками. Ректор нахмурился.
– И вообще, толерантность-то ваша – это терпимость, что ли? – продолжала женщина уже визгливым базарным голосом. – Мы, бухгалтерия, и так все терпим. Сами знаете, что. У нас не университет, а дом терпимости какой-то. Больше терпеть не сможем. Бюджет не вытерпит. Если это президентская программа – пусть грант дают вузу на толерантность. А мы из своего кармана за нее платить не будем. Я к Велиару Ариманычу завтра сама поеду. С приказом с вашим. Не утвердит он его. Так и знайте. – И, кутаясь в шарф, зябко поеживаясь, бухгалтер села.
– Ну и я с вами, дорогая Вера Сергеевна, – упрямо сказал Мефистофель, – меня-то вы с собой в машине потерпите? Будьте же толерантны! – и широко раздвинул губы в агрессивной американской улыбке. Он знал, что в молодости был похож на Збышка Цибульского в «Пепле и алмазе», а сейчас почти не отличим от Джека Николсона, и даже лучше – тот лысый, а у него до сих пор копна серебряных волос. И стоматолог не хуже, чем у знаменитого американца.
Но все видели, кто победил. Не толерантность, нет. И почти не стараясь скрыть злорадства, члены Ученого совета группками разбрелись по кабинетам: по рюмочке – и домой. Мефисто с психологом удалились в ректорские апартаменты рука об руку.
Я вышла в мутную ноябрьскую тьму одна. Спустилась, не оглядывась, по ступенькам во двор, где господ профессоров ждали блестящие черные машины с шоферами. И заторопилась – дома ждал голодный Ники. Я чувствовала, что глубоко несчастна. Хуже того – я понимала это. А вот причины не видела. Денег хватало с избытком. Времени в общем тоже. Но чего-то остро недоставало. Толерантности, не иначе.
Плач биографа о слове (тренос первый)
Если бы не цикады! Если бы не эти изысканные насекомые с золотыми глазами и золотыми жилками на прозрачном золоте крыльев! Если бы не их песни… Если бы не этот гулкий, неодолимый ритм их тимпанов, в такт биению крови в жилах человека – антропос – άνθρωπος, вот ведь как назвал себя грек – «ввысь устремленный»!
Ведь пульсирующее золото солнца над выгоревшей золотой травой, и толчки упругого голубого ветра, и колебанья сребристых олив, и биение сильного сердца – все эти волны, усиленные во сто крат ритмом цикадовой песни, гулкой, как удары воинов по щиту, взмыли к небу и вознесли человека. Вот как родился Логос.
Если б граждане полиса не поднялись на мраморные ступени амфитеатра – на высоту многоэтажного дома – и не сели плечом к плечу, недвижимо, боясь шевельнуться, на ярусах гигантского полукруга, лицом к горам и к морю, к рощам олив и пенью цикад, и не узнали так своего одиночества в мире – для кого зазвучал бы Голос?
Но каждый и каждый, со своею психеей-душой, бьющейся крыльями в сердце, слышал и Голос судьбы, и свое ответное Слово. Одинокий, вылетел в мир человек, ввысь, как стрела, устремленный.
Если бы время вперед, распрямившись однажды, стремилось, а не свернулось кольцом, как змея, уставшая жалить…
Но замкнулся в круг амфитеатр, крылья содвинул свои и в римский цирк превратился. Людям в глаза уж не небо – чужие глаза посмотрели. И, ужаснувшись себе, римляне взгляд опустили к тиграм, вниз, на арену, где кровь, остывая, дымилась… Тело, прекрасное тело, расставалось с душой понапрасну, и расчленялось мечами, когтями, и гибло. Homo – латиняне звали себя, а «гомо» родственно «гумус». Праха пригоршня – вот человек, а восставший – в прах обратится…
И прозвучали слова: «в сортире замочим». И Логос покинул сердца и собранья.
Биограф продолжает рассказ
Вот когда я впервые всерьез подумал: не пора ли?
Профессор жил изо дня в день. Все время тратил на то, чтобы пылесосить. Красить. Ремонтировать. На ночь читал тонкие белые книжечки с цветной овальной картинкой на обложке: Он держит в объятьях Ее. За завтраком вставал из-за стола, чтобы в ванной смыть слезы. То же было за ужином. Все реже я видел его за компьютером. Потом писать и вовсе перестал. Все стремился на дачу, гулять вдоль реки. А в городе – прочь из дома, ведь пылесосить и красить уже нечего. Вон из клетки квартиры – и ходить по набережной. Как заключенный по тюремному двору. От Бородинского моста к Новодевичьему и обратно. В сторону Белого дома – никогда. Книги его давно были изданы и переизданы. По ним начали даже учить, как говорить и писать, рассуждая. Но быстро перестали. Это стало ненужным. Гражданам дали право голоса. Свободу слова. И отняли речь и рассудок.
Не вдруг – постепенно.
Несколько лет все наслаждались речами. Припав к телевизорам, замирали. Ораторы соревновались. Проигрывали и побеждали. В школах заговорили дети. Тот самый учебник – необычная книга, в которой для них сказано было о Логосе, – начал жить.
Странные это были годы. Много было ораторов, а оказалось, что только два настоящих. Но зато какие! Великие.
Над муками слова в устах первого народ хохотал громче, чем над домашними заготовками юмориста – из тех, что попроще. Он говорил смешнее, потому что так не придумаешь. Корчи бессвязных фраз перепечатывались прессой в специальных рубриках. Но он, именно он и оказался автором ключевой формулы Эпохи мутаций. «Хотели как лучше, а вышло как всегда». Так говорит теперь каждый.
Второй веселил народ, как Жванецкий. Своей фразы от него не осталось, одно только слово: «Однозначно!» Однако других слов было много. Даже слишком. Казалось, они сталкиваются второпях, наскакивают друг на друга, а узор складывается похитрее иного кружева. Только вот время, время! Что за ведьминские круги представляешь ты скорбному, недоуменному взору? И слуху! «В Третьем Рейхе каждая девушка найдет себе жениха!» – знакомо? И вдруг, через пятьдесят лет после Победы, с российской трибуны: «Мы каждой женщине дадим по мужу!» Кто победитель? Станьте нашими активистами! ЛДПР победит на выборах, и жизнь начнет улучшаться!
Левых назвали правыми. Кто там шагает левой? Правой, правой, правой! И вообще, война – это мир. Только год был уже не 1984-й.
Логос держался как мог. Но тихо и внятно сказано было: «в сортире замочим». И нецензурной стала культурная речь. В школе царствует тест безглагольный. У голубого экрана дети замолкли. И слово звучать перестало.
И тогда я подумал о банке.
Стоял пасмурный осенний денек – из тех, когда только тонкие голоса синиц живы в затихшем лесу и у нас на участке, среди елок и сосен. Мы приехали вместе, профессор и я: побродить вдоль реки, вернуться домой, выпить чаю – и назад, в Москву.
Я поднялся наверх. Там, в мансарде, хранились мои тетради. Только протянуть руку – и дотронешься до собственного детства. Ужас. Но я решился. Что привело меня сюда, какая сила заставила вынуть из стенного шкафа пыльную картонную коробку, стряхнуть паутину, сомкнувшую ее створки, открыть их – и вынуть из времени то, что принадлежит ему – не мне? Не из прошлого, заметьте, а из времени. Для меня прошлого нет, как, впрочем, и будущего. Неважный из меня вышел бы историк.
Ну, вот она. Черный коленкор – точно такая же, как те две, что мать хранит бережнее всего остального. Нет, неверно. Просто хранит бережно. Все остальное, кажется, для нее теперь почти не существует. То есть существует, конечно, но как-то иначе. На свои черные коленкоровые тетрадки с записями занятий у арбатского мудреца она смотрит не так, как на другие предметы мира. Они для нее истинно όντος – сущее. Все остальное – не совсем, кажется. Я думаю, это потому, что тетрадки – вещественное доказательство бытия ее любви. Свидетельство ее начала. Когда они писались, конца еще не было. Да и каждая из тетрадей не дописана. Обрывается случайной какой-то фразой. Так и ее любовь.
Да, вот она, моя собственная черная коленкоровая тетрадь. Одна. Единственная, с записями детских занятий с моим профессором. «Gallia est omnis divisa in partes tres»… – Цезарь, «Записки о Галльской войне». Жаркий июльский день, жужжат осы в мансарде, солнце печет крышу. Мы сидим за столом, весь дом – под нами, под домом – скат холма вниз, к ручью, под ручьем – пологий спуск к долине Истры. Мы – выше всех. Мне было, наверное, лет восемь…
Puella pulhra, puelle pulhre… прекрасная девушка, прекрасные девушки… Где она? Где они? Puella pulhra – так даже сейчас можно сказать о матери. Странная. Может быть, ведьма? Время, быстротекущее время… Да, все-таки удивительно!
Но у нее был еще один приступ. Недавно. Теперь я точно знаю, от чего это. От тоски. Отец уезжает все чаще. И мы с матерью постепенно выпадаем из круга, который он сам вокруг себя очертил. За чертой – не-сущее для него. Несущественное. Несуществующее. А то и прямо враждебное – там сама жизнь. Мы выпадаем в жизнь. А он открещивается от нее – нелюбимой, опасной, грозящей. От этой прекрасной ведьмы. Как философ Хома Брут от Панночки.
Я вернул тетрадь в коробку, коробку – в шкаф. Стряхнул пыль с ладоней. Подошел к окну. Листва поредела, и на противоположном берегу оврага видны были краснокирпичные коттеджи, обветшавшие, неживые, молчаливые. Там моя банка.
Я опустился на прадедов стул, к столу, за которым в июльский полдень сидел когда-то над черной тетрадкой за латынью. Греческий для экономии мы писали в ней же, но с другой стороны.
В тот день мать рассказала о Пане. Греческом козлоногом. Потому что в такие вот дни, когда все застывает под палящим солнцем в молчанье – поля, леса, птицы и только звенят цикады – в Греции, конечно, а у нас – кузнечики, в такие вот дни Пан пугает людей, и, охваченные паническим страхом, не разбирая дороги, несутся они к своим жилищам или, зажав уши, падают лицом вниз в нагретые душистые травы. И еще рассказала, как разнесся однажды чей-то неведомый голос: «Пάν τέθνηται» – «Пан умер!» И еще прокричал: «Пан великий мертв!» – и заплакали ручьи и нимфы, оливы и дриады… Ведь и они должны были уйти следом за козлоногим флейтистом. И так настал конец античного мира…
Нет, надо подумать. Я выкапываю банку. Деньги… Как от тоски избавить деньгами? Купить еще дом? Зачем он ей? Одиночество станет только сильнее. Машину? Разобьется – нечаянно, а может, нарочно. Одежду? Куда она в ней пойдет? Кого своей красотой обрадует?
Надо еще подумать. В этот раз – нет. Рано. В следующие выходные. Придумаю что-нибудь за неделю. И вот тогда…
Плач биографа о природе (тренос второй)
Если бы не банки из-под пива! Но Эпоха мутаций принесла с собой, как Церера в подоле, эти серебристые баллоны. И щедро раздала и рассеяла всюду: маленькие цистерны, до краев налитые спелым соком зерна и горьким хмелем. И щелкает узкий алюминиевый язычок, и открывается треугольный ротик, и тянется навстречу алчущим губам, и вот они слиты. И пустая высосанная оболочка, легкая, совершенная в своей никчемности, летит в сторону. Куда попадет.
И многие попадали в реки, речки и ручейки. Так и в нашу Истру. Чудное у нее имя: ведь в былые времена и Дунай звался так же. Истр – и вот Истра. Быстрая Истра. Истра стремительная.
Если бы не банки, разве спаслись бы от исчезновения бычки-подкаменщики, испокон веков населявшие истринские мелководья? Пропали бы навсегда, как другие рыбы. Те, что ушли вместе с наядами вслед за великим Паном вглубь времен…
Но хитрые маленькие бычки, чуткие к Эпохе мутаций, мутировали сами и стали еще меньше – точно такими, чтобы пролезть в треугольную дырочку затонувшей пивной банки. Изменилась даже форма их скользкого пестрого тельца – прежде плоские, теперь они треугольны в сечении, как напильник; а потому легко проникают бычки в банку, откладывают там свои икринки и, затыкая отверстие собою, выращивают там молодь. Прочих рыбок в Истре уж не увидишь: сперва икру их поели ротаны – головешки, сорные, широкоротые, склизкие, как лягушки, а потом даже ротанов не осталось: их тоже кто-то съел, а после вымер. Сточные воды из прибрежных коттеджей, полные нечистот и химикатов («Тайд! А теперь мы идем к вам!»), бычки перенесли стойко. Но только они. Они одни.
Если бы не газоны! Но владельцы участков в долине и по склонам оврагов так полюбили газоны… Что за дача без мирного жужжанья косилки, без вееров алмазных брызг, в жаркий день раскрытых над стриженой свежей травкой!
Но чтобы посеять, нужно вырубить и выкорчевать. И вот пали со стоном дриады в стволах черных ольх и черемух, еле слышно пискнули перед смертью на дне оврага нежные жительницы тонких стволиков бересклета, мелких берез и осинок…
И весна, Примавера, нежнейшими своими ногами ступила на колючую щетку газонной травы – вместо бархата мхов и пушистых подковок копытня, желтых примул, голубых, как небо, пролесок, скучный покров, жесткий ковер из «Икеи» ей здесь постелили…
И напрасно крапивник, зарянки, синицы и славки, серые пеночки и соловьи, и варакушки в ярких уборах место искали для гнезд – на газонах не водятся птицы.
Лужи исчезли. А с ними пропали тритоны. Тщетно бродили мы с Виталиной вдоль русла ручья, меж железных заборов. Луж не нашли – и ручей не звенел, а чуть слышно полз по камням, и шептала бессильно наяда что-то сухими губами, и погибала от жажды.
И все чаще страшные стали нам попадаться находки. Однажды мы заглянули в дуплянку, откуда что-то давно не слетала с гнезда мухоловка. Видим: на дне распластала безжизненно крылья мертвая птичка, укрыв своим телом погибших от голода деток. Нечем их было кормить: комары не живут на газонах. Бабочки, мухи и тысячи мелких существ сгинули вместе с бурьяном со склонов оврага.
В тот осенний день, спустившись из мансарды в прадедову нору и напившись под желтым абажуром чаю, мы с профессором вышли на дорогу, ведущую к Истре, чтобы совершить обычную прогулку по берегу, вокруг Трехдубового Леса, названного так отцом в ту пору, когда на опушке еще высились три раскидистых могучих великана, а сам Лес не был частным владением и любой мог гулять в задумчивости под сенью его дубов, берез и сосен, слушая переливчатые голоса иволг высоко-высоко в ветвях, под самым солнцем, или предаваться любви в зарослях душистой темной малины, или, смеясь, играть в салочки на дорожках, устланных шелковистой сосновой хвоей. Помню себя – за ручку ведомого по лесу прадедом и прабабкой. Для тех все минуло – детство, молодость, старость. Нет, не целовался я ни с кем в этой малине. Не успел. А сейчас она побледнела, опала, и только несколько прозрачных плетей торчат из-за забора.
Изгородь преградила нам путь и там, где мы этого совсем не ждали. У старой железнодорожной насыпи, по которой во времена отцова детства сновал паровозик из Манихина в Истру. Когда я был маленьким, как отец в ту пору, насыпь поросла уже соснами и березами, с песчаных склонов ее можно было скатываться веретеном, прижав к бокам руки, а под молодыми деревцами, во мху и сером хвойном опаде, попадались душистые розовые рыжики и крепкие маслята на желтых ножках. И однажды весной, когда трава уже зеленела, я издали слышал там странный громкий зов – то ли отрывистое мяуканье, то ли лай. Отец сказал – рысь. Кричит во время гона. Да, вот что здесь бывало. Рысь, подумать только!
Мы покорно обошли и эту преграду. Дорога, песчаная дорога к реке, по которой профессор в голодные времена начала Эпохи перемен возил меня в коляске, украдкой подбирая обнажившиеся на краях поля клубни картофеля, а то и вырывая их из земли моим совочком, чтобы сейчас же спрятать в матерчатую сумку, – эта самая дорога, с которой однажды в теплый июньский вечер я увидел над полем, в темнеющем, но еще светлом небе нервный полет летучей мыши, была теперь забрана в прочный панцирь асфальта. А как благоухали тогда травы на поле! Как проносились прямо над головой майские жуки, жужжа в ночи, словно пули! Как трепетали нежными крыльями блеклые ночные бабочки! Как звонко и маняще бил где-то прямо у дороги перепел!
Вот и река. Темна, быстра, холодна. Мы подошли и встали над водой, на высоком крутом берегу.
Профессор молча глядел в проносящийся под ногами поток. На быстрине заворачивали кругами неровные поверхностные струйки, вытесненные из глубин, ввинчивались в тело реки узкие воронки – и пропадали.
И вдруг мать повернулась ко мне и посмотрела прямо в лицо – своими слишком светлыми для человека глазами. Яркие черные точки зрачков расширились.
– Ну, что? – спросила она. – Все? Как ты думаешь?
С природой, по крайней мере, действительно все было кончено. И не только у нас в Подмосковье. До самых дальних заповедных лугов и лесов, побережий, песков и степей дотянулись щупальца спрута. Извлекали все живое из моря: sea-food шел на ура. Как лес, газ и нефть. Законы все позволяли, но и их почему-то обходили. Странно!
Так что Пан действительно умер. В этом мире скрыться ему было уже некуда. В глухой сибирской тайге один вечно голодный китаец выловил его, как лягушку. И в мешок.
Кстати. О китайцах. Вспомнил, стоя рядом с профессором на берегу и глядя на струи моей реки внизу, под обрывом. Поднялся холодный ветер и стал бросать на воду пригоршни желтых березовых листьев. Мы следили, как теченье сносит их вниз, на излучину, к ивам. Вот тогда я и вспомнил – нет, не китайца. Сначала другое, совсем другое. Удивительные вещи можно увидеть, смотря на темную воду Истры. Давно забытые или не бывшие вовсе.
Сквозь прозрачные струи я вижу загорелое тело моего прадеда. Я стою на этом самом месте – след в след. Только в отпечатке моего взрослого китайского башмака уместилось бы три следа тех, детских, сандаликов.
Прадед, вырывший нору, основатель семейного гнезда, дома моего родного – дачи, – в Истру окунался как в святой источник – ежедневно, с ранней весны до глубокой осени. Но в тот день лето было в разгаре, и ходили мы на реку рано. «Солнце встает над любимым оврагом» – это первая строка нашего дачного гимна. Ее я только сейчас и помню. Прадед, по имени тоже Николай, – в честь него я и назван, – заходил вверх по течению, складывал вдвое свое коренастое небольшое тело и, распрямившись – руки над головой – нырял с песчаного обрыва. Некоторое время его вовсе не было видно, но внезапно прямо подо мной, внизу, там, где сейчас крутятся в водовороте желтые листья, поплавком выскакивала над темной водой его круглая голова с мощным лбом. Отфыркиваясь, он тряс ею, пускал вверх фонтан, словно дельфин, и после тихо, умиротворенно отдавался несущим его струям, лишь слегка пошевеливая ногами и руками. Истра благосклонно сносила его вниз, до Коровьего пляжа, и редко нам удавалось опередить его, даже припустившись бегом вдоль реки по дороге. Обычно он встречал нас уже на песке, довольно посмеиваясь и отряхиваясь.
Я все смотрю вниз, пока река уносит четверть века и два месяца. И вот снова июль – июль вновь расцветшего лета.
В темной воде подо мною – тельце моего ученика, младшего коллеги, приятеля. Я потихоньку приспосабливаю его к изучению тритонов и их ДНК. К работе в лаборатории. Белое, как молоко, нежное, как щупальце юного осьминога, его тело проплывает вниз по течению, полускрытое круглыми листьями кувшинки – Офелия, да и только. А теперь, словно лягушка, он то округляет, то распрямляет колени и локти. Это Вэй Юнь, или, как он подписывает некоторые особенно жалостливые e-mail-ы, «Little disgusting creature»[24]24
Маленькое омерзительное существо.
[Закрыть].
Две картины, разделенные четвертью века И двумя месяцами. Тело нового человека в прежних берегах – о, не вливайте вино молодое в мехи старые!
Что ж, темная река, унесла ты моего прадеда, а следом за ним и деда, а принесла маленького лягушонка из Китая.
– Все? – спросила она еще раз. – И, охватив взглядом долину Истры, заборами нарезанную на частные владения, как пирог на блюде, подняла глаза и стала следить полет пары воронов над полем. Переговариваясь, черные трефовые кресты следовали к далекому кургану городской помойки, клубящейся еле заметным сизым дымом.
– Нет, конечно, – ответил я. – Продержись еще ровно неделю. К следующим выходным будут новости. Я сон видел.
– Сон? Ты? Разве ты видишь сны? Впервые слышу. Расскажи. – И, отвернувшись от реки и от меня, она тихо пошла по дороге к даче.
– Ну, это, собственно, был не сон. То есть сон, конечно, но нельзя сказать, что я его видел.
– То есть? – Она остановилась и снова посмотрела мне в глаза. Не с надеждой, нет. С недоумением.
– Я его слышал. Это был только голос.
– А кто говорил?
– Не знаю. Голос совсем незнакомый.
– Женский?
– Низкий, довольно громкий… Значительный. Нет, скорее мужской.
– Ну, и что сказал? Или, может, спел?
– Сказал. А потом повторил. И повторил еще раз. Знаешь, трижды, как в сказке.
– Так что же?
– Только три слова.
– Три слова? И повторил трижды?
– Да, вот так: «НАСЛЕДСТВО, НАСЛЕДСТВО, НАСЛЕДСТВО!!!» И еще два раза то же самое. И я проснулся.
– А почему ты думаешь, что через неделю что-то случится?
– Не знаю, но я так чувствую. Это связано как-то со сном.
– Спасибо, милый, – сказала она на ходу и посмотрела на небо. Оно было серо и пусто – вороны улетели. – Я подожду. – И подняла руку к горлу, к впадине между ключицами, и положила тонкие пальцы на свой камень. Мне показалось, он просвечивает сквозь них теплым жаром, словно оранжево-малиновый уголь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































