Текст книги "Профессор риторики"
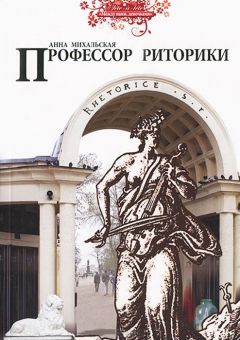
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
Биограф обнаруживает еще подобие, и не одно
Это твой телефон говорит:
Эй, Хозяин, тебе кто-то звонит!
И чтоб ты потом не говорил,
Что тебя я не предупредил!
Писклявый голосок пробивается сквозь кучку одежды, сброшенной на прибрежную траву, словно шкурка жабы. Кажется, это сам Little Disgusting Creature поетпо-русски, взывая к кому-то всемогущему, милостивому и милосердному. Но нет. Это блестящий черный «Самсунг» заклинает своего Вэй Юня – Хозяина. Неужто из дьявольского разнообразия телефонных мелодий можно выбрать столь подобную! А вот ведь удалось…
О темные воды Истры! О листья желтых кувшинок, омытые струями времени! Кто только не любовался вами в июльский полдень! Слюдяные стрекозы, зимородки, на стремительных виражах сверкающие над рекой, словно драгоценные камни, бархатно-черный дрозд, по каплям льющий с макушки самой высокой ели густые прозрачные ноты вниз, вниз, к корням мирового дерева, к началу времен… Угры и славяне в беленых льняных одеждах… Ордынцы и вот теперь – китайцы… Вэй Юнь – тайванец и китайцем себя не считает. Он тонок и миниатюрен, как тайская женщина, и его нежные члены, сгибаясь и разгибаясь в лягушачьем движении, смутно белеют под тяжелой карей водой моей реки – близко, еще ближе… Прямо у берега. Он встает, и потоки обтекают его светлое, разве только чуть желтоватое тело, и падают, возвращаясь в воды, поднимая к солнцу сверкающие брызги из тихой черной заводи. Трепещут стрекозы. Он растягивает широкий рот и смотрит на меня блестящими глазами. Голосок телефона все не стихает:
Эй, Хозяин, тебе кто-то звонит…
Хозяин Вэй Юнь шарит мокрой рукой в жабьей шкурке, поджидающей его на берегу, извлекает блестящий говорильник, и раздаются звуки китайской речи. Словно заморская птица поет над Истрой. Я уже давно понимаю эту песню, и Вэй Юнь знает об этом. Но со мной ему удобней объясняться по-английски.
– Ли Мин тоже поедет, можно? – говорит он голосом своего мобильника, жалобно-просящим и вместе с тем странно повелительным. – Он захотел. Можно?
– Можно, – отвечаю я нехотя. – но ты знаешь, Вэй Юнь, что Ритик как раз собиралась потратить свое время – а у нее времени не так уж много, совершенно так же, как у всех нас, между прочим, – так вот, она собиралась потратить время, свое собственное время, чтобы позаниматься с тобой математикой. Потратить, оторвать от себя, отдать тебе, а не собственной работе. Или удовольствиям. Посидеть в белом пластиковом кресле за столиком на террасе «Макдональдса» с ванильным коктейлем, например. Поглазеть на прохожих на площади Киевского вокзала. Ты понимаешь, что она от этого отказывается? Ради тебя?
Я задавал риторические вопросы – вопросы, вовсе не требующие ответа, а заключающие его в себе, как бумажная обертка конфету, – исключительно в воспитательных целях. Вэй Юнь совсем недавно приспособился получать у всех помощь и теперь у нас на глазах быстро превращался в совершенную машину для поглощения чужого времени. С этим что-то нужно было делать, да поскорее. Иначе все мы внезапно могли стать рыбами на дне неожиданно обмелевшей реки – бьющимися на песке беспомощными и обреченными рыбами на дне пустого русла, лишенного животворной воды времени. Мы – это я и мои студенты, те, кто собирал по всему свету тритонов и склонялся над секвенатором в лаборатории на пятом этаже серого гранитного сфинкса – здания биофака МГУ, отчасти уже занесенного песком пустыни. Я чувствовал, что пески медленно, но заметно покрывают гигантские львиные лапы: пустыня наступала.
– Я с Ритиком договорюсь, – проквакал Вэй Юнь. – Она согласится подождать. Ведь всего на два дня отложим. Мы же только туда и обратно, правда? А математику я сдам. Ну, в крайнем случае на осень перенесут.
Я представил себе Ритика. Как сидит она сейчас, Маргарита Буш (типично украинская фамилия, не так ли?) в белом пластиковом кресле на террасе Макдональдса – сидит так недвижимо, что ни волосок на ее голове не шелохнется, ни один волосок, некогда темно-рыжий, гнедой, а теперь вороной, выкрашенный в салоне красоты МГУ в угольно-черный цвет: так Ритик превращала себя в подобие любимого – Вэй Юня. Только вот китайский ей не давался. Я представил, как сидит она сейчас и ни ресница не дрогнет над ее распахнутыми остановившимися фиалковыми глазами – глазами-крыльями, глазами-бабочками, глазами-голубянками, столь любимыми Набоковым. Тут же я представил себе и самого Набокова – молодого, с чувственными жаждущими губами, еще полными, еще не изогнутыми в истончившейся сарказмом улыбке… Вот он быстро всходит по невысоким ступенькам на террасу «Макдональдса» у метро «Университет». Он рассеян. И тут-то взгляд его, праздно озирающий неинтересные предметы и лица, падает на Ритика… Маргариту Буш… И его светлые, почти бесцветные глаза встречаются с ее глазами… Он замирает, увидев на круглом лице девушки, обрамленном странными, слишком черными волосами, двух живых голубянок, двух Икаров, распластавших в покое свои фиалковые чуть подрагивающие крылья… Он понимает: вот она, перед ним, – мечта его жизни, властительница снов, его Машенька, нет, его Лолита… Но Ритик – она этого человека, этого высокого денди со светлыми глазами просто не видит. Никакие Набоковы, да и никто иной, кроме Вэй-Юня, для Маргариты Буш, неотрывно взирающей на экран своего мобильника в ожидании эсэмэски, не существует. Только любимый. И она ждет, незаметно для себя чуть выставив вперед руку, сжимающую телефон, и фиалковые крылья бабочек-глаз чуть подрагивают… Но вот на экране что-то дернулось, будто мгновенная рябь искривила неподвижное зеркало, и откуда-то из глубин эфира скользнула на него надпись: NEW MESSAGE. READ NOW?[25]25
Новое сообщение. Прочитать сейчас?
[Закрыть]
Ну, конечно! NOW! Немедленно! Сейчас же! Скорей! И непослушные пальцы, скованные волнением, нажимают не на те клавиши, но наконец она справляется, и читает, читает, читает, и читает снова, и перечитывает… Глаза-голубянки взмахивают крыльями, и две слезы, дрожащие на нижних веках, скатываются по щекам и падают на белый пластик стола. Там они незаметны – два прозрачных блестящих пятнышка. Дует ветер – теплый, пыльный, печальный. Нет, занятий с Вэй Юнем не будет. И в Тверскую губернию, в брошенную деревню, где изучают волков студенты (и с ними Хай Чжэн, мой…друг? Нет, скажем – знакомый), – в эту тверскую деревню, куда отправляется ее любимый Вэй Юнь, Ли Мин и я сам, Ритика не зовут.
Маргарита Буш встает, и белое пластиковое кресло с наждачным скрежетом отъезжает в сторону. По-прежнему сжимая мобильник, она спускается по низким ступеням террасы, и изумленный молодой Набоков не осмеливается остановить ее: ведь сделать это – все равно что прикоснуться рукой к самому отчаянью. Ссутулясь, опустив свою вороную голову так, что пряди черных волос закрывают побелевшие щеки, и не видно глаз-бабочек, а только густую ниже бровей челку, Ритик идет по раскаленному июльским солнцем Ломоносовскому проспекту вниз, к площади Индиры Ганди, к Дому аспиранта и стажера, – идет своей странной угловатой походкой: колени выдвигаются вперед, а ступни ног в порыжевших кедах чуть отстают, и широкие штанины потертых джинсов совершают вокруг них медленное вращательное движение… Молодой Набоков смотрит вслед, и даже его дар не позволяет вообразить, в какой совершенный балет, в какой немыслимо, виртуозно прекрасный танец обращается эта неуклюжая походка Маргариты Буш, стоит только ее фиалковым глазам заметить бабочку. Если бы… Да что говорить! Разве можно представить, а тем более описать, как стремительно сменяют друг друга арабески руки с сачком – марлевым орудием лова, как изящны и точны фуэтэ, как молниеносны взмахи сачка и как неотвратима судьба преследуемой Ритиком крылатой красавицы!
Документ Word 8
Все это уже было. Иначе, но все-таки было. Китайцев я помню с детства. Вернее, одного китайца я помню, потому что он был первым аспирантом моего отца. А других – не отдельно, а стайками, потому что они учились во всех московских вузах. Народу в Москве было совсем мало, и узкоглазые молодые люди с жесткими черными волосами обращали на себя внимание. Все знали, что это наши китайские братья. Полвека миновало, и вот опять. Ники дружит с китайцами. Ники учит китайский, и когда к нам приходят его студенты и приятели, слышна то китайская речь, то английская. Прежде все здесь говорили по-русски – ученики и учителя. Конечно, в раннем моем детстве все, все было по-другому… Но и подобно – так, как подобны геометрические фигуры. Такая вот геометрия времени.
Когда Москва была пустынна, и в зимний день холодный снег не таял под струей машинной, был горячее человек, спокойней шаг, быстрее бег… Мы шли пешком по переулкам, что от Горбатого моста сплетались сетью закоулков, как жилки палого листа, – до насыпи, где поезда, мы шли меж синих стен сугробов, минуя свечи фонарей… И монастырь, где спит во гробах монахинь прах и прах царей и галки спят во тьме ветвей. Сухой и легкий, словно птица, нас ждал в тот вечер дядя Ли – ждал, чтоб с учителем проститься и раствориться там, вдали, – на желтом полюсе Земли. Я поняла тогда пространство: до этой шелковой страны лежало больше верст и странствий, чем от Земли и до Луны. За годы став совсем родным, Ван Ли за красным винегретом здесь, в общежитии, сидит, скрипя непрочным табуретом… Благодарит отца, следит, чтоб чай в пиалы был налит. И – нет его: в глазах – дорога, в глазах – иная сторона, в глазах – нескрытая тревога… А рядом – скромная жена. И рюмка – выпита до дна. Он был блестящий математик, а я была совсем мала, боялась спрашивать некстати, но в этот вечер поняла, что знак у времени – стрела…
И вот Ники… Пытается дружить с юношей по имени Хай Чжэн. Он еще студент, но не младше. Дружить Ники не умеет. Или просто знакомые, или страстная привязанность. В этом случае – последнее. Хай Чжэн угрюм, замкнут и для Ники – непознаваем. А значит, неодолимо привлекателен. Это чувство к строптивому, непременно жестокому другу я узнаю. И со мной некогда было подобное. Чувство – предвестник. Чувство – буревестник. Предтеча большой любви. Не знаю, насколько совпадут очертания этих подобий, но думаю, полностью.
Мне до боли жаль Ники. Но делать нечего. Терпеть. Ждать: время пройдет, все минует… До этого, кажется, далеко. Но какое чувство длится больше года? Один оборот Земли вокруг Солнца, и человек видит полный круг времен… Боль утраты, боль любви, страстное напряжение дружбы неотвратимо слабеют. Помню афоризм Монтеня: «Кто видел весну, лето, зиму и осень, тот может спокойно умереть: ничего нового он уже не увидит». А может, это сказал Конфуций? Ники познакомился с Хай Чжэном осенью, теперь лето.
За это время любовь к китайцу подвигла Ники уговорить отца создать в брошенной деревне, затерянной в тверских лесах, настоящую научную базу – чтобы Хай мог под руководством Алексея изучать звуки волков. Скуление, писк, визг, ворчание… Вой. По Интернету нашли волчат на продажу, ездили за тридевять земель, чуть ли не на Алтай, кажется, и еще куда-то. Волчата нынче дороги: по сотне долларов каждый месячный грозный хищник. Алексей взял для работы и еще студентов. Даже одну аспирантку. Все для фронта, все для победы. Наука вздрогнула и оживилась. Правда, вся база была – несколько опустевших выморочных изб да столбы, вкопанные так неловко, как это умеют только ученые. Столбы поддерживали провисшую сетку вольеров. Волчья ферма…
Конец мая. Полдень. Цветет все – сирень и ландыши, яблони, вишни, терн и ирга. И в узких прорезях зеленых бутонов шиповника виден уже пурпурный бархат лепестков. Мы с Ники нехотя затворяем за собой калитку дачи и мимо железных и деревянных заборов, за которыми теперь навеки спрятан от наших глаз ручей его детства и моей молодости, не спеша идем вверх по дороге, на электричку. Свет и тепло овевают каждую мошку, стебли трав и осок удлиняются на глазах – тянутся к солнцу. Черными стрелами свищут над куполом церкви стрижи, высоко в небесах обращаясь в подвижные точки. Три печальные ангела так и сидят над своей чашей, повернутой к проходящим так, чтобы было видно: она пуста.
У церковной изгороди, к Пасхе выкрашенной изумрудной зеленью, мечется небесное создание. На спине рюкзак размером с фортепьяно, на девственной груди бинокль. Болотные сапоги с ботфортами. Золотистые косы ангела вьются вдоль розовеющих ланит, уста от жары и волненья приоткрыты. Ангел говорит по мобильнику. Но мы-то с Ники знаем, куда летят эфирные волны: в наш дачный дом, под корни ели, в комнату-нору, выкопанную трудолюбивым биологом – прадедом Алексея. Ангел потерялся и теперь сверяет направление. Мы, сохраняя инкогнито, указываем студентке Алексея путь к святому источнику. Источнику знаний о волках. То есть к нашей калитке.
В это утро на даче назначен сбор всех, кто собирается уезжать на Волчью ферму. Сбор, за ним – отъезд. До осени. До поры, когда покраснеют и побелеют нежные листья бересклета, нальется рыжим соком рябина, а пурпурным – ирга, когда склюют ягоды стаи дроздов и улетят к югу. До поры листопада и начала университетских лекций. А мы с Ники уже выходим на перрон. И садимся на лавочку, тоже недавно выкрашенную, празднично-синюю. Нагретую утренним розовым солнцем.
Нелегко придется Алексею в это лето. И в эту осень. А может, и зиму… Так думаю я. И соглашается Ники. Жить среди златокудрых ангелов с небесным взглядом… Учить и окормлять… Слаб человек… И особенно слаб, когда перед ним его юность: вот она. Лицом к лицу.
Надежды, молодые тревоги – больно. Невыносимо, пронзительно больно: они уже не твои. Нет, не твои. Ни златокудрые ангелы, ни бессонные ночи на крыше избы у лесной опушки – ночи, когда только звезды в глазах, только черное небо и нестойкие, падучие, прекрасные, вечные звезды – но и они, эти ночи и эти звезды, – нет, не твои. Вспомни-ка, сколько уж раз видел ты весну, лето, зиму и осень? И эти звезды? То-то. Не твой черед. Твой черед миновал. Навсегда. Но смириться с этим нельзя. Да и нужно разве? Зачем? Зачем, в самом деле? И каждый, движимый новой и новой любовью, – но ведь не последняя же она! – смотрит на небо.
Вчера ночью я смотрела на него с балкона дачи. Где-то далеко, в тумане лугов над Истрой, бил одинокий перепел да в куртине черемухи, оттесненной новыми сплошными заборами от ручья к перекрестку дорог, прямо над крестом у святого источника, звенел и булькал соловей. Надо мной сияли бриллианты Большой Медведицы, куда-то вниз, задевая за острые вершины елей, косо скатывался ковш Малой, а вокруг белой кисеей недвижно висели кулисы цветущего сада. Там, в вышине, на черном небе я различила наконец тонкие туманные нити судеб – наших и тех, что с ними переплетались. Я отвернулась и ушла в дом.
Утром Алексей попросил меня помочь покормить волчат. Я взяла одного на руки. Это был черный зверек размером с небольшую крысу, очень похожий на тех беспородных кутят, которых бабки продавали на старом Птичьем рынке – на том единственном, настоящем и вечном, что некогда был на Таганке. Там, у бабок, точно такие щенята пищали и скулили в обширных вонючих коробках, с трудом поднимая к солнцу свои полуслепые еще головки.
Волчонок тоже открыл глаза совсем недавно. Треугольные уши еще не встали, а были плотно прижаты к узким скулам. Сейчас он тыкался мне в пальцы крохотным влажным носом.
– Это Тася, – сказал Алексей. – Таис то есть. Так ее Ники назвал. Хорошее имя.
– Мне нравится, – сказал Ники. – Ты же помнишь:
Thais habet nigros, niveos Lecania dentes.
Que ratiost? Emptos habet illa souos[26]26
Зубы Таис черны, у Лекании же белоснежны. Что это значит, скажу: каждому в мире свое. (Это, конечно, неверный перевод. На самом деле так: у Таис зубы природные, свои, а у Лекании искусственные! – Прим. биографа.)
[Закрыть].
– Да, – ответила я. – Хорошее имя. – И, набрав в пипетку молока, поднесла ее к носу волчицы. Маленькая пасть приоткрылась, и молоко было проглочено. Скоро оно кончилось и в блюдце, но зверь, по-видимому, был уже сыт. Волчонок потоптался у меня на коленях, не без труда вскарабкался передними лапами на мой локоть, поднял голову.
И вдруг тонкая слабая еще шея детеныша вытянулась и напряглась, черные маленькие губы сложились трубочкой, и к потолку взмыл тихий, протяжный, совсем не щенячий звук. Волчица Таис выла – почему, бог весть. Но выла она по-настоящему, и странно было слышать этот дикий голос в нашей комнате, темноватой даже в это сверкающее майское утро. В этой дачной гостиной, выкопанной Алексеевым дедом у корней большой ели. Под желтым шелковым абажуром Алексеевой бабушки. Над дубовым столом, купленном в двадцатые годы на Арбате – моими дедом и бабкой.
Мне стало холодно, и я поспешно передала зверя на руки Алексею.
Электричка все не шла. Мы с Ники вспоминали златовласого ангела с мобильником.
Солнце подымалось выше и становилось все горячее. День обещал быть очень жарким. Над мокрым от росы перроном курился легкий пар.
И – вот оно! Из колеблющейся солнечной дымки прямо перед нами появилась странная фигурка. Стройная, ладная, очень прямая, она напоминала лезвие стилета, внезапно выхваченного из ножен. И глаза – девочки? женщины? – были такие же – узкие и стальные. Они заглянули под поля моей шляпы, скользнули оценивающе и еще сузились, устремившись к лицу Ники. Он уже объяснял, какая дорога ведет к даче.
Если бы я знала, когда, сколько раз и с кем пройдет это юное существо дорогу от перрона к дачной калитке! Но главное я почувствовала. Ники выдал свой дом. И обречен был – отныне и навсегда – оставаться бездомным. Она, легко рассмеявшись, пошла вперед, по дороге к церкви. Пока одна.
Свистнула электричка, мы с Ники вошли в вагон и оглянулись в окно поезда. «Это и есть будущая папина аспирантка, – сказал Ники, – хорошая девочка. Способная. Я сам выбирал». Узкая фигурка уже исчезала из виду там, где у забора готовился зацвести старый куст белых роз.
Так мы были у себя дома в последний раз. Так навсегда уезжали. Только Ники понял это не сразу.
Из записок биографа: подобия все множатся
Ли Мин влюблен в армянку. Не так давно, но все-таки. Нашел ее здесь, в МГУ. По-моему, ее Соня зовут. А может, и не Соня вовсе. Так или иначе, Ли Мин считает, что армяне – это древние китайцы. Вчера, сбегая вниз по лестнице с пятого этажа, из нашей лаборатории, на второй, в буфет, где вот уже несколько поколений студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников биофака наслаждаются яичницей с зеленым горошком или с ветчиной, я услышал знакомые голоса на пролет ниже. Притормозил. Прислушался. У окна лестничной клетки, очевидно, сидя на подоконнике, разговаривали двое. Лика и Ритик.
– Как ты думаешь, Соня очень красивая? – Голос Лики нарочито спокойный.
– Не зна-аю, – безразлично отвечает Маргарита Буш. Она, конечно, поглощена экраном мобильника.
– Я слышала, как Ники сказал, что очень. А ты как думаешь? Ну, все-таки?
– Нет, не особенно. – Голос Ритика успокаивал. Милая, она делала это нарочно. Для подруги. Нет, Ритик все-таки чудесная. Чу-у-удная, как принято говорить на биофаке со времен одного очень, очень выразительного преподавателя, не чуждого богемного артистизма и нарциссизма. И то и другое, а особенно в сочетании, действует на сердца студентов неотразимо. Вот все и попались. До сих пор, вот уже лет тридцать подряд, весело звенит в рекреациях и гулко стонет в коридорах это слово: «Чу-у-у-у-удная!!!»
Итак, Ли Мин, влюбленный в древнего китайца, то есть в армянку Соню (и впрямь очень красивую той быстротечной красой Востока, которая сжигает девушку, как жаркое пламя, несколько зим спустя оставляя лишь черные угли), а с ним Вэй Юнь и ваш покорный слугасобрались на Волчью ферму навестить Хай Чжэна.
Июль был на исходе. По вечерам красные долгие закаты и что-то едва ощутимое в ветре, все еще жарком, говорили о том, что год вот-вот наденет свою корону из колосьев и трав, плодов и… ну, что там еще полагается. Оставив риторику, можно сказать короче: наступал август. И я не видел Хай Чжэна с конца мая, с того памятного утра, когда мы с профессором уехали в Москву на электричке, оставив дачу в распоряжении нескольких студентов, Хай Чжэна в их числе, будущей аспирантки, которую звали так же, как мою мать, и их научных руководителей – отца и его давнего друга, тоже волчатника. Все они в тот же день должны были на двух машинах выехать в Тверскую губернию.
По непроницаемому жесткому лицу Хай Чжэна можно было прочесть, что с присущей ему серьезной твердостью юноша собрал свою волю в кулак, чтобы стать, как он всегда намеревался, славой новой китайской зоологии. А кулак у него был неслабый. Ли Мин, его наставник в каратэ, был доволен.
Два месяца минуло с тех пор. Связи с Волчьей фермой не было почти никакой. Я провел это время в Москве, затворившись в прохладе лаборатории, и лишь по вечерам слышал прощальные клики стрижей над твердыней биофака, выходя на Воробьевы горы, чтобы в одиночестве совершить свой путь к дому: по Бережковской набережной, через мост, во двор.
За два месяца я понял любовь. Или, если угодно, дружбу – но ведь это одно. Это счастье-страдание, и на излете, как на излуке, кончается оно тоже одним. Только одним. Смертью. И не важно, кто умирает – ты ли сам, обращаясь в нового не-себя, как оборачивается человеком волк-оборотень, ударившись о землю; тот ли, кого любишь – теряя, теряя, теряя свое прекрасное лицо вместе с твоей любовью… А она – она то утекает по каплям, то, будто прорвав плотину, бешеным потоком вновь устремляется на свободу, сметая на своем пути две незначительные фигурки. И это вы оба: любящий и любимый. Бывшие – ci-devants…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































