Текст книги "Профессор риторики"
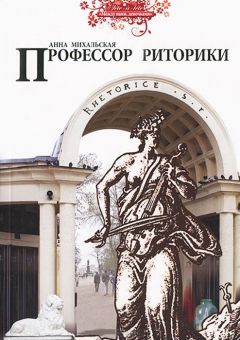
Автор книги: Анна Михальская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Впервые я вошла в большую лекционную аудиторию нового здания педуниверситета на юго-западе на заре. Амфитеатр круто спускался к сцене. За моей спиной оказалась доска. Я провела по ней принесенным с собой куском мела. Белый брусок не оставил на изрытой временем коричневой поверхности ни следа. Я положила его на стол. Тот покачнулся. Пока я совершала все эти подготовительные действия, в пространстве стали скапливаться студенты. Это были молодые сильные люди. Они жаждали развлечения или, по крайней мере, дельной науки. По выступу стены, высоко над ними, неспешно прошла кошка. Посидела, умываясь, и спрыгнула в недра огромного рояля. Рояль стоял на сцене рядом со мной, крышка его была давно оторвана, и внутренность служила большой урной. Оттуда торчали струны, но кошка ловко приземлилась на пружинистую груду мусора.
Пора было начинать. Гладиатору рано или поздно приходится выходить на арену. Я подняла руку к горлу, коснулась своего камня и сделала шаг вперед.
– Я прочту вам курс риторики, – сказала я громко. – Мало кто знает, что это такое. А я – знаю. Риторика – это я.
Раздался одобрительный свист – уверенный и громкий. Этот звук пронзил мое сердце. Мне показалось, что первая лекция удалась.
Но уже в 8.30 второй субботы я услышала следующее:
– Вот вы все правильно говорите. Интересно даже. Но… Искры нет. Нет искры. Зажигание не работает. Вы нам лучше расскажите, как ОНИ обманывают. Как ОНИ нас обманывают. Вы газеты читаете? Телик смотрите хоть когда?
Я обещала. Обещания надо выполнять, – гласит основной принцип римского права. И я отдавала дни анализу газетных текстов газет и телевизионной пропаганды. А ночью писала об этом лекции. В результате появилась новая дисциплина – сравнительно-историческая риторика. И сама собой написалась книга – курс тех самых лекций. Я читала их сильным молодым людям, по субботам к 8.30 наполнявшим амфитеатр, чтобы посмотреть, как я – единственный гладиатор – вела бой с собой же под их свист и крики. Да, слушала еще кошка. Скоро кошек стало больше, появилась и бездомная собака, ранней весной нашедшая тепло среди нас. Временами она даже играла, таская по сцене куски картонных коробок.
И самое главное – от лекции к лекции студенты все прибывали. А книга показалась интересной, моментально была опубликована и принесла еще денег. На гонорар мы купили в костромской деревне, в местах, куда не заходил даже Иван Сусанин, кирпича и леса, чтобы подвести под наш дом новый фундамент. Сам дом был оплачен гонораром за книгу о кошках. В те времена издатели еще не успели опомниться и платили авторам, как в Советском Союзе, – много и честно.
Книги следовали друг за другом, и все складывалось. Зато разладилось в институте, на кафедре. Слишком много книг. Слишком серьезный учебник. А автор один. Не по-товарищески как-то. До тех пор мне и в голову не приходило, что если человек пишет книгу, то по неписаному советскому закону он обязан тащить за собой весь коллектив. Что у него должны быть соавторы. Какие соавторы, – наивно удивлялась я, – ведь это я не спала ночами, это я, шатаясь от усталости, читала лекции, это я думала, думала, думала… Это я отказывалась от кино и гостей, от приятного и бесполезного, это я наполняла высоким напряжением каждую минуту уходящих – улетавших дней… Какие соавторы? Тетки, которые не жалели времени, чтобы покормить своих детей вкусненьким, сделать на зиму икру из синеньких, спешили домой, чтобы не пропустить сериал, а в метро читали белые книжечки с яркой картинкой на обложке: Он (на карих глазах слезы) обнимает Ее (синие глаза полузакрыты отстрасти)? Но работать на кафедре становилось невозможно.
И, как всегда в ключевые мгновения моей жизни, зазвонил телефон. Кто же на этот раз – архангел или Мефистофель? Кто бы то ни был, а ждать себя долго он не заставил.
– Пора тебе, деточка, к нам, – услышала я знакомый с детства голос высокой персоны. Самой высокой, с которой наша семья поддерживала отношения. Точнее, конечно, наоборот. Еще недавно персона совсем высокая, ныне ректор коммерческого университета – первого, несколькими годами ранее – советско-американского. То есть, конечно, американо-советского. А теперь – просто первого коммерческого университета в Москве.
Пора, пора. Ты у нас по совместительству уже поработала. Пора и насовсем. Приходи ко мне в университет, поговорим. Жду.
И я пошла. Все ослепляло: по-прежнему, но и как-то по-новому – туалеты, лестницы, стены, на стенах – портреты Основателей. Ведь я могу принять решение – и стану не просто приходящим, приблудным лектором – а блестящим профессором этого блестящего вуза. Вершины власти сияли здесь, как Джомолунгма. Сверкали автомобили и подъезд, мерцали глаза студенток, водопадами лились и искрились их длинные белые и черные волосы, обработанные лучшими шампунями и кондиционерами.
Но как я – та самая, что привыкла читать лекции бездомным собакам и кошкам, а заодно мальчишкам в свитерах, драных на локтях, девчонкам, которые в весенних сумерках синели от голода, – как я осмелюсь учить чему-то этих белозубых повелителей жизни?
И я согласилась. Все, в общем, было понятно. Благодеяние в виде космической по моим земным меркам зарплаты предлагалось не в знак старой семейной дружбы и не просто так. Просто так в этом блистательном мире заоблачных высот ничего не бывает. Я уже была профессором, а профессора – штатные, не совместители – нужны были здесь для министерских формальностей. В минимальном количестве, но нужны. Какой университет без профессора? Смешно! И вот, чтобы в министерстве не рассмеялись, а дали лицензию на образовательную деятельность, а позже и аккредитацию, подтвердив университетский статус заведения с блистательными туалетами, я и понадобилась.
Но я согласилась. И когда я впервые очутилась у кассы и взяла в руки обещанные деньги, мне все казалось, что это недоразумение, зарплату придется вернуть, а вот мне вернуться домой уже не придется. Достоевский какой-то. «Бедные люди». Но все оказалось не так.
И я стала читать лекции в маленьких комфортабельных комнатах, и студентки слушали меня, раскинувшись в низких и мягких креслах, а их сияющие волосы свисали чуть не до полу, перекинутые через велюровые спинки. Девушки чирикали и ворковали, нежно смеялись, отвечая волшебным трелям первых мобильных телефонов и время от времени ругались матом, а я – тосковала.
Я тосковала до боли. До слез. Тосковала о нескладных мальчиках в слишком коротких брюках – горячих спорщиках, остроумных, серьезных и знающих, об их подругах – гордых, смешных и верных, в вытертых дешевых джинсах и вязанных на спицах полосатых шарфах… О той весне, первой и единственной весне моего преподавательского счастья… Но… Облака легли на траву, по реке поплыли ивы…Время вешнее лукаво, быстроного, несчастливо, как беспутная девчонка, та, гордячка, щеголиха, что смеется слишком звонко, только плачет очень тихо… Тосковала я о лестницах, где курила со своими студентами и пила горячий кофе из термоса, о холодных аудиториях с поломанными стульями. И особенно часто тосковала о той, большой, амфитеатром, в которой некогда состоялся ранним утром седьмого февраля мой риторический дебют, а через неделю, на следующей лекции, четырнадцатого, в день святого Валентина, мне на сцену уже бросали самодельные яркие валентинки, как римляне кидали два тысячелетия назад лавровые ветви гладиаторам – за мужество. Да, тосковала об этом самом дне, когда прозвучали слова об искре. Когда сработало зажигание. И все зажглось.
Но вернуться было, как всегда, невозможно. «Смерть мы привыкли видеть впереди, а ведь большая часть ее у нас за плечами», – поучал умник Сенека своего младшего друга Луцилия. Вот и эта часть жизни отошла туда – за плечи, к смерти.
И мне не хватало ветра… Упругого, теплого ветра начала лета, начала жизни… Я еще помнила это: ветер, и вот уж разрыв в облаках, вихрь растревоженных веток… снова качает июнь на руках, в море горячего света – юных, стремящихся в горнюю высь, чтоб взапуски со стрижами с криком ловить непокорную мысль в чистых небесных скрижалях…
Впереди же лежала пустыня безопасного, вполне обеспеченного бытия. И снова я паковала вещи – как мало их было, однако! Операция со съемом-сдачей квартир была уже не нужна. Можно было отправляться в родной дом над мостом и поутру смотреть из окна на реку, на ворон – зимой, на чаек – весной и осенью, на стрижей – летом, а вечерами гулять с Батоном по набережной. И смотреть на небо. А там… Пламенный жар померанца, льдистая зелень шартреза, пылкость испанского танца, шелковый шлейф полонеза… Там на закате безмолвном, небо, стрижами играя, жизнь мою пишет условно знаками горнего рая…
Но как-то зимним утром в моем кабинете – в коммерческом университете у меня был в те времена собственный кабинет с офисной мебелью, кабинет декана факультета, ведь деканом была я, – зазвонил телефон. Видно, наступил очередной ключевой момент моей жизни. И я почувствовала это. Как? Не знаю. Звонок был самый обычный.
– Александра Александровна? – спросил спокойный и звучный голос.
– Да, я слушаю вас.
– Это беспокоит Сергей Сергеич из ФСБ. Вы не могли бы нам помочь?
– Простите, – сказала я быстро. – У меня через пять минут пара. Это значит – лекция. Я сейчас должна сосредоточиться. Прошу вас, позвоните через полтора часа.
– Хорошо, спасибо, – ответил Сергей Сергеич из ФСБ, и в трубке раздались короткие гудки.
Никакой лекции у меня не было, и полтора часа я посвятила обдумыванию ответа. Как отказаться? В том, что нужно отказаться, сомнений у меня не было. Ни малейших. Но и в голове ничего не было. Я сидела в своем черном кожаном кресле, в функции которого, как каждого достойного кресла руководителя, входило легкое покачивание вперед-назад, и качалась. Качалась, поглаживая бороздки знаков на гладкой поверхности теплого камня у горла. Наконец мой взгляд сфокусировался на заголовке свежей «Независимой газеты». Там значилось: «Журналистика в МГУ: профессионалы – практикам». Но ведь и я руководила факультетом журналистики. Потому и качалась в кресле, что была деканом журналистики в коммерческом университете. Я взяла газету и всмотрелась пристальней. Это было точно то, что требовалось.
С легким сердцем я подняла трубку.
– Сергей Сергеич? – уточнила я, и голос зазвенел серебром. – Я ведь только преподаватель, а не ученый. Так что вопросы атрибуции текстов мне практически мало знакомы.
– Значит, вы не хотите нам помочь? – Реплика была настолько традиционной, что сам Сергей Сергеич не удержался и весело хмыкнул.
– Хотела бы, но не могу.
– Значит, не хотите. – Интонация на этот раз была утвердительной, и хмыканья я не услышала. Как и веселья.
– Отчего же? Я могу рекомендовать вам тех, кто может. И захочет.
– Да уж сделайте милость.
– Запишите телефон. Это специалисты с факультета журналистики МГУ. Лучше не бывает. – И я продиктовала то, что нашла в «Независимой», будто от себя.
– Значит, все-таки не хотите. – И он снова хмыкнул, чем ситуация и разрешилась. Как показало время, навсегда.
После я набралась однажды храбрости и спросила у своего ректора – Мефистофеля – в том, что это был именно Мефисто, сомневаться уже не приходилось:
– Простите мне, но хотелось бы знать… Если найдете нужным ответить, конечно… Вы ведь хорошо знакомы… с работой служб безопасности…
Наступила пауза.
– Поверь мне, девочка, – сказал он бархатным голосом, будто перед ним сидела Маргарита, а сам он был Фауст. – Поверь мне: за деньги я для них никогда ничего не делал.
Слова «за деньги» выделены были курсивом.
– Конечно, конечно, – сказала я поспешно. – Я так и думала. За деньги, конечно, ничего… Но зато все – за власть. За образ жизни. Деньги? Какая чепуха.
И еще один был звонок, которому не суждено было изменить мою жизнь. Звонок с Джомолунгмы. Или, по крайней мере, с Казбека.
– Александра Александровна, дорогая, можно я к вам приеду? Сегодня? Сейчас? Я прочитала все, что вы написали!
– Очень сомнительно. Зачем это вам? Кто вы такая?
– Я доверенное лицо и помощник депутата N. Его нужно научить говорить.
– А зачем? Он ведь и так депутат.
– Ну, Александра Александровна, ну, милая, ну, зачем вы так? Он очень, очень, очень хороший человек. Поверьте мне.
Голос другой, а фраза та же: поверь мне, девочка, поверь… Мефистофель устами Фауста перед невинной Маргаритой… Несчастной – но невинной ли?
– Да я верю, верю. Но, извините, не совсем понимаю…
– Ну, он у нас заикается немножко… И, знаете, такой стеснительный, такой стеснительный…
– Это депутат-то? N? Не верю.
– Нет, вы поверите, когда поближе с ним познакомитесь. Это золотой человек, поверьте, поверьте. У него сейчас такой трудный период… Ну, можно я к вам приеду?
– Будьте добры, постарайтесь все же сказать, что вам конкретно нужно.
– Хорошо. Мы – я от его лица – предлагаем вести его предвыборную кампанию – ну, в части всего, что связано с публичными текстами. Писать, готовить, сопровождать…
И снова мне пришлось прибегнуть к уже отработанной тактике.
– К сожалению, мне придется отказаться. Я не практик, а преподаватель. Хуже – даже профессор. Теоретик. И я не выполняю работу по частным заказам. Иначе мне придется бросить любимую работу, бросить студентов, аспирантов… Ну, вы понимаете? Сломать всю жизнь.
Мое хныканье про любимую работу возымело успех. В обществе до сих пор распространено поверье, что учителя и преподаватели любят свою работу. Иначе зачем же делают ее за такие деньги?
Почему я снова предпочла горным хребтам долины – нет, ущелья этой псевдоуниверситетской жизни? Не знаю. Каким-то страшным холодом веяло на меня с высот власти, и я, подобно горьковскому пингвину (с ударением на первом слоге, что всегда меня поражало: громадный Горький – и рядом маленький пингвин в черном атласном фраке и белоснежной манишке), – я вновь спрятала тело в своем ущелье. Глупо? Робко? Возможно. Но тело было вовсе не жирное.
Так и текла обеспеченная, размеренная, безрадостная жизнь. Безрадостная для меня. Ники и Алексей не скучали. Особенно Ники. Или особенно – Алексей?
Продолжение биографа
Мой родной дом – это дача. Там я всегда был в безопасности. Там под прозрачным стеклом весенней лужи я впервые увидел тритона. Там не было учителей, школы, неволи. Но дача – это отец. Точнее, дача – это прадед, его дом. Гнездо, им свитое, – нет, скорее нора, им выкопанная у корней гигантской ели и двух старых сосен. Коренастый, низкорослый, упрямый, это мой прадед, декан биофака, предводитель зоологических ратей, глава хищных и травоядных, крылатых и ползучих, насупив кустистые черные брови, рыл нору для своей семьи – и вырыл. Вот уж седьмой десяток пошел, как обитают в ней отцовские родичи.
А у моего профессора дом был только в Москве. На берегу реки, у моста. Над мостом. Под крышей каменной громады – высоко, как гнездо стрижа. Но мать всегда хотела на волю. Из города. Гонораров хватило только на деревенский дом в глухой деревне отдаленной северо-восточной губернии. Там, где загнездились уже другие профессора, получившие за свои книги кое-какие деньги, чтобы передать их в дрожащие от водки руки потомков умерших бабушек – единственных обитательниц черных падающих изб в опустевших селениях родины.
Она выбрала дом высоко над рекой – прежде судоходной, широкой, не чета Москве-реке, а ныне дикой, непроходимым лесом заросшей по берегам. И дом был высокий, светлый, и венцы его из десятиметровых сосен, посеревшие снаружи от дождей и северного ветра, внутри розовели и все еще способны были заплакать душистой янтарной слезой. Это был дом для нее. Без сомненья. На гонорар за «Русского Сократа» – так она назвала курс лекций, прочитанных на истфаке педа, – назвала в честь своего арбатского мудреца, дом поставили на новый фундамент: помню, как выкатывали из-под сруба старые венцы, лиственничные, в два моих обхвата, черные, как тело водяного или лешего, век продержавшие дом, но уже ненадежные, косо осевшие… Как подвозили на стареньком тракторе белый кирпич и ставили сруб на столбы… Как радовалась мать этому гнезду – первому собственному, своему… Как чинили баню, очищали чердак и бревенчатый двор, а под ним – хлев, овчарню, свинарник и стойло…
У дома мы посадили три сосенки. Двадцать лет я там не был. И мать не была. Собирается каждый год – да некому с ней поехать. А одной, без машины – куда? Одна она и дом не отопрет. Сосенки были тогда чуть выше моего колена.
Мы ходили в гости – километров за шесть-семь, в соседние деревни, к знакомым. К коллегам отца – у матери там никого не было. В окрестностях селились биологи: в унженских комариных лесах, напротив бывшего Унжлага, основали стационар академического института, где работал отец, и возник новый лагерь. Ну, не лагерь, конечно, – скорее выселки. Поселение профессоров, доцентов, младших и старших научных сотрудников. Тех, у кого денег не хватало на подмосковную жизнь.
Они появлялись на берегах Унжи весной, с перелетными птицами, профессора – из Москвы, пернатые – с юга. Летели на север, к гнездовьям. Птицы выводили и к осени поднимали на крыло птенцов, ученые растили детей – выпаивали молоком, выкармливали лесной ягодой и грибами – и к осени поднимали на крыло новые статьи, а кто и книги.
Дорога от нашего дома спускалась вниз, к Унже, и вела сначала по берегу, через ручей и овраг. В сумерках от оврага доносился взлай лисы – звонкий и тоскливый, как случайный выстрел. Через дорогу, уже внизу, у реки, в это же время перелетала ястребиная сова. Сирин. Ее некрупное серое тело веретеном пронизывало тонкую, сперва еле заметную, кисею тумана над заливным лугом. И мне удавалось разглядеть длинный полосатый хвост.
По другую сторону оврага дорога уходила вверх, через луга соседней деревни Никитино, и взбиралась на пологие холмы, к бывшей барской усадьбе, от которой осталась лишь лиственничная аллея. Там, наверху, появлялись избы. Дорога между ними становилась песчаной и ровной. Идти было легко, и я знал, что в ряду заколоченных домов скоро будут попадаться обитаемые. Обитатели – отцовы друзья и знакомые – позовут, напоят: меня – чаем, родителей – водкой. Словом, угостят. Или, как принято было говорить, подадут.
Не все дома одинаково меня привлекали. Во многих крылась опасность: родители заговорятся, а мне хозяин или хозяйка будут тыкать в нос выпотрошенными мышами, набитыми пожелтевшей серой ватой, или дадут рассматривать безжизненные тела убитых птиц с погасшим оперением и дырочками на голове, из которых вместо черных живых глаз смотрела все та же страшная серая вата.
Больше всего мне нравилось заходить к профессору Баринову. Его Коля и Соня – мои сверстники, красивые, умные, здоровые. Румянец во всю круглую щеку, брови соболиные, и глаза блестят. Веселые. Добрые. Пока родители разговаривали за водкой, можно было, напившись чаю с оладьями или пряниками, болтать и играть во дворе, под столетними липами, или на сеновале.
Но на сеновал сразу могли и не пустить. Приходилось подождать, пока профессор Баринов закончит работу. Урок, заданный себе на день. Допишет дневную норму.
Дверь на сеновал, завешенная марлей, до тех пор была наглухо затворена, а на дворе кричать было не велено. Но однажды я заглянул украдкой в окно, затянутое противокомариной сеткой.
Профессор Баринов за компьютером восседал в старинном возке. Дисплей возвышался на козлах, вместо кучера, а Баринов с клавиатурой занимал в глубине возка место седока. Круглая лысая голова его была опущена, и некоторое время он сидел неподвижно.
Возок был предметом особой гордости профессора. Найденный после покупки дома в углу бревенчатого двора, заваленный сеном и заставленный шестами, рогатинами, вилами и деревянными граблями, он был столь совершенен, что мог бы стать экспонатом Исторического музея. Мать водила меня туда однажды на выставку карет и саней, так вот бариновский возок был не хуже. Черный лаковый, расписанный розами, гирляндами роз – нежнейше кремовых, насыщенно сливочных и тускло-золотых, с тонкими золотыми каемками на крутых боках, возок, верно, скользил когда-то по белому снегу, как черный лебедь. Гордая и в забвении, нетленная и в небытии красота русской деревенской жизни, мечта о несбывшемся прошлом – возок, будто ладья Харона, увлекал тень профессора Баринова по темным водам времени.
Профессор поднял голову, и глаза наши встретились, разделенные противокомариной кисеей, словно туманом над холодной свинцовой рекой. Глаза его сияли мне с того берега.
Баринов тяжело поднялся, неловко вылез из возка и, пригласив меня за собой жестом, направился к двери. Все снова приняло обычный вид.
– Ну это, – обратился он ко мне и к родителям, распахивая дверь, путаясь в марлевой завесе и улыбаясь счастливой улыбкой человека, уставшего за день от любимой работы.
– Ну это? А? Родители кивнули.
– Ну вы это? Понимаете? А?
Родители снова кивнули. Все это означало: а не выпить ли нам, друзья мои, после рабочего дня по рюмочке? Выпить, конечно.
Баринов, разминая затекшие в возке ноги, подошел к срубу колодца, опустил в него руку и что-то нащупал.
Потянул, и скоро на свет явилась привязанная за горлышко бутылка «Пшеничной», охлажденная в темных глубинах колодезной воды.
За столом, под малосольные огурчики и окорочка Буша, взрослые говорили тосты. Баринов, которому блистательная письменная речь дана была от Бога, устно выражался в основном с помощью междометий, кряхтения и покашливания. Но я все-таки понял, что он хотел сказать. Или мне кажется, что понял.
– Люблю я все это, – говорил он. – Люблю, несмотря ни на что. Вот пишу наконец монографию о социальном поведении. Общую такую работу. Люблю и счастлив. И денег никаких мне за это не надо. Была бы возможность работать, больше ничего. Да что там! За это мы сами платить должны. А не нам. Я вот готов и сам платить.
Интересно, чем? – подумал я и посмотрел на родителей. Они были задумчивы. По-моему, в глазах у матери был вопрос. Именно этот. А может быть, это был вовсе не вопрос. А горечь. Но она молчала, и рюмка ее была пуста. Баринов снова налил, и она выпила. И не сказала ни слова.
Она-то платит, – понял я. И платит не за себя. За нас с отцом. Платит сполна. Давно. И молча.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































