Читать книгу "Лев Толстой"
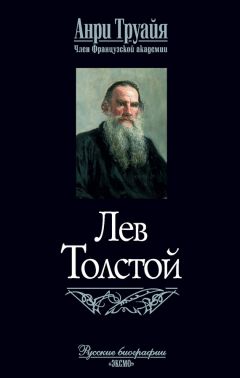
Автор книги: Анри Труайя
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Крымская война, которая казалось Толстому уже столь далекой, закончилась подписанием Парижского мирного договора, Россия могла с облегчением вздохнуть. Манифест царя Александра II от 19 марта 1856 года провозгласил намерение улучшить положение подданных, добиваться их равенства перед законом. Этот столь знаменательный для страны день для Льва оказался вовсе не радостным: случайно прочитав оскорбительную для себя оценку в письме одного из сотрудников «Современника», Лонгинова, Некрасову, отправил обидчику вызов. «Что будет, Бог знает, – записывает он в дневнике 21 марта, – но я буду тверд и решителен. Вообще это имело для меня благое влияние. Я решаюсь ехать в деревню, поскорей жениться и не писать более под своим именем». Последние два из этих трех намерений были тут же забыты, что до первого – он собирался осуществить его только после дуэли. Но Лонгинов на вызов не ответил – вмешались друзья. Толстой успокоился, решив, что этот писателишка не заслуживает даже того, чтобы быть задетым пулей. А через несколько дней его самолюбие оказалось польщенным чудесной новостью: 26 марта 1856 года за отвагу и решительность, проявленные в сражении у Черной речки 4 августа 1855 года, он был произведен в поручики. Немедленно испросив отпуск на одиннадцать месяцев, чтобы отправиться лечиться за границу, в чем особенно и не нуждался, Лев вместо того, чтобы ехать в дальние края, стал собираться в Ясную Поляну – весна там должна быть восхитительной! По дороге намеревался сделать крюк и навестить в Спасском Тургенева. Ему не хватало этого изнеженного гиганта, как мишени для стрел. В поезде, который увозил Толстого в Москву, он думал о нем, перечитывая «Дневник лишнего человека», а 17 мая со свойственной ему резкостью записал свои впечатления: «Ужасно приторно, кокетливо, умно и игриво». Получился портрет самого Тургенева, которого Лев так спешил увидеть.
В Москве так понравилось, что он решил задержаться здесь. Поклявшись перед отъездом не переступать больше порога кабаков и борделей, переключился на парки и достопримечательности. Однажды, прогуливаясь по саду Эрмитаж и скучая, столкнулся с Лонгиновым, который не ответил на его вывоз. Вспыхнула былая ярость, и, не зная, следует напасть на этого труса или притвориться, что не видит его, стал прохаживаться перед ним, испепеляя взглядом. Тот оставался холоден, и, смущенный, Толстой вынужден был удалиться. В один из дней он навестил в Троице-Сергиевом монастыре тетушку Пелагею Юшкову, которая была там на службе. «Она все та же, – записано в дневнике 17 мая. – Тщеславие, маленькая, красивая, чувствительность и доброта». На следующий день побывал в ризнице: «Точно раек показывают и тут же прикладываются, а старушка-зрительница так и воет от радости». Но скоро насмешки сменяются нежностью, и, анализируя состояние своей души, он находит там «любовь, тоску раскаяния (однако приятную), желание жениться (чтобы выйти из этой тоски) и – природы».[194]194
Дневники, 25 мая 1856 года.
[Закрыть]
В таком поэтическом расположении духа Толстой встречает своего старинного друга Дьякова, в сестру которого Александру был когда-то влюблен, но давно не видел, сейчас она замужем за князем Андреем Оболенским. Двадцать второго мая Лев пишет в дневнике: «Да и теперь мне ужасно больно вспомнить о том счастии, которое могло быть мое и которое досталось отличному человеку Андрею Оболенскому», затем, 24-го: «Раза два она была вся вниманье, когда я говорил. Нет, я не увлекаюсь, говоря, что это самая милая женщина, которую я когда-либо знал. Самая тонкая, художественная и вместе нравственная натура». Чтобы успокоить чувство, для которого, он понимает, не может быть выхода, Толстой как-то вечером отправляется на Воробьевы горы, купается в Москве-реке и ночует в саду, а рядом «монахи пили с девками, ели молоко и плясали польку». Назавтра у него состоялся разговор с Дьяковой. «Вдруг она взяла меня за руку. Глаза ее были полны слез… Я был вне себя от радости… И хотя чувство мое безнадежно, прекрасно, что оно проснулось…» Но после воспоминаний, прозрачных намеков и нескольких прикосновений руки Александра объявила, что должна следовать за мужем в Петербург. Толстой решил, что ничто больше не удерживает его в Москве.
Он жаждал оказаться в деревне. Накануне отъезда обедал в Покровском, в двенадцати верстах от Москвы, у своей детской подруги Любови Берс (урожденной Иславиной), которую когда-то столкнул с балкона. Она встретила его очень просто, и поскольку прислуга ушла в церковь, за столом прислуживали три ее дочери, Лиза, двенадцати лет, одиннадцатилетняя Соня и младшая Татьяна, десяти лет. Очаровательное соревнование разыгралось между этими розовощекими детьми с горящими глазами, в пышных платьицах с накрахмаленными юбками – они пожирали глазами знаменитого писателя, чье «Детство» и «Отрочество» уже читали, героя, который говорил с отцом о войне, с трудом шевеля губами под большими усами. После обеда его уговаривали спеть «Севастопольскую песню», гость с удовольствием подчинился. Потом была прогулка, играли в чехарду. «Что за милые, веселые девочки», – записал он в дневнике. Через шесть лет одна из них, Соня, станет его женой.
Толстой возвращался в Ясную не только затем, чтобы насладиться картинами детства, уже некоторое время он мечтал об освобождении крестьян. Идея эта витала в воздухе, в марте на встрече с представителями московского дворянства царь объявил, что следует отменить рабство свыше, а не ждать, когда это произойдет снизу. Был создан комитет по делам крестьян, которому поручили подготовить проект реформы. Комитет, в попытке выиграть время, передал дело комиссии под председательством генерала Ростовцева. Об этих проволочках сожалели и западники, и славянофилы. Толстой отмечал в дневнике 22 апреля 1856 года: «Мое отношение к крепостным начинает сильно тревожить меня». И, слыша постоянно разговоры о грядущей реформе, потерял всякое терпение: то, на что у правительства уйдут годы из-за неповоротливости бюрократической машины, он может осуществить сам и немедленно. Желание это было вызвано не только его хорошим отношением к крестьянам, но и немного гордостью за свое благородство. Вместо того чтобы, как другие землевладельцы, подчиниться решению царя, хотел выделиться, уйти в лидеры и первым реализовать социальное равенство. Лев развернул свою кампанию: нанес визит историку Кавелину, члену императорской комиссии Милютину, составил проект личной реформы, передал его на рассмотрение и одобрение министрам Левшину и Блудову. Ответ был уклончив. Толстой негодовал: «За что ни возьмешься теперь в России, все переделывают, а для переделки люди старые и потому неспособные».[195]195
Дневники, 11 мая 1856 года.
[Закрыть] В конце концов, хотя и не дав официального разрешения начать действовать, ему это и не запретили. Он решает больше ни о чем не просить. В действительности в его намерения не входило безвозмездно отказаться от всей своей собственности, тем более что имение было заложено в ипотеку за две тысячи рублей, которые следовало вернуть прежде всего. Он не собирался из евангельского самоотречения сделать подарок крепостным, но заключить соглашение, в котором были бы учтены интересы не только рабов, но и помещика. Самое разумное – освободить крестьян и дать им в аренду землю, которую они до сих пор возделывали, работая в пользу своего хозяина, и брать за нее плату в течение последующих тридцати лет. По истечении этого срока земля отошла бы в их собственность.
С необходимыми бумагами Толстой поспешил в Ясную Поляну. Ему казалось, он везет бесценный подарок. Перед отъездом сочинил речь, с которой обратится к крестьянам: «Бог заронил в мою душу мысль о вашем освобождении», начиналась она, затем мужикам предлагалось обсудить проект со старейшими из них, самыми мудрыми, и, если что-нибудь покажется несправедливым или незаконным, изменить. Он заранее наслаждался удивлением и благодарностью толпы и от этого проникался теплым чувством к самому себе.
Приехав 28 мая в Ясную, Лев едва обнял тетушку Toinette и приказал немедленно созвать мужиков. В ожидании, нетерпеливо заносил в дневник: «В Ясном грустно, приятно, но несообразно как-то с моим духом. Впрочем, примеривая себя к прежним своим ясненским воспоминаниям, я чувствую, как много я переменился в либеральном смысле… Нынче делаю сходку и говорю. Что Бог даст».
Он вышел к мужикам, робея, как актер перед выходом на сцену, и вместо приготовленного текста громко сказал: «Здравствуйте!», а потом просто пересказал свои идеи. Через несколько часов, полный оптимизма, вернулся к дневнику: «Дело идет хорошо. Мужики радостно понимают. И видят во мне афериста, потому верят». На следующий день новая сходка и первая заминка. Живя вдали от своих крепостных, хозяин забыл все их недостатки, но они были все те же – недоверчивость, упрямство, неискренность, глупость. Вместо того чтобы сразу ухватиться за столь выгодное для них предложение, колебались, улыбались, почесывали головы, благодарили, давая всем своим видом понять, что им это не нужно, просили время на размышление и расходились, шаркая ногами. Плохо сдерживая гнев, граф приглашал их по одному, чтобы еще раз объяснить условия договора, снова собирал всех вместе и снова со всем своим красноречием пытался убедить. После пяти таких сходок проект стал еще более либеральным, срок перехода земли в полную собственность крестьян стал двадцать четыре года вместо тридцати. Но убедить мужиков не удалось, от слуг Толстой узнал, почему: по деревням прошел слух, будто в августе, по случаю коронационных торжеств, царь отпустит на волю всех крестьян и отдаст им землю, в том числе помещичью, безо всякой компенсации, а решив отдать им поля в аренду, барин хочет обворовать их, связать контрактом – он, конечно, хороший, но себе на уме, знает законы и хочет обвести бедных людей вокруг пальца… Раздосадованный, он решается на последний, решительный и откровенный разговор с мужиками, после которого записывает в дневник: «…их упорство доводило меня до злобы, которую я с трудом мог сдерживать».[196]196
Дневники, 7 июня 1856 года.
[Закрыть] Чрез три дня опять переговоры и новое поражение, «окончательно отказались от подписки» – барин был таким же их рабом, как они – его. «Два сильных человека связаны острой цепью, обоим больно, как кто зашевелится, и как один зашевелится, невольно режет другого, и обоим простора нет работать».[197]197
Дневники, 9 июня 1856 года.
[Закрыть] И рикошетом, от его плохого расположения духа досталось той части русской интеллигенции, которая видела в мужике лишь кладезь мудрости предков. Пусть не говорят ему больше о доброте народа и его природном уме!
«Уж поговорю я с славянофилами о величии и святости сходки, мира, – пишет он Некрасову 12 июня 1856 года. – Ерунда самая нелепая. Я Вам покажу когда-нибудь протоколы сходок, которые я записывал». Теперь досаду его вызывают не крестьяне, а помещики, потому что, если не будет положен конец их абсурдным мечтам, когда-нибудь крепостные сами поднимутся против хозяев и потребуют с оружием в руках землю, которую, как говорят, царь обещал им вместе со свободой. Это станет началом жуткой крестьянской войны, а от народа столь ограниченного и жестокого, как русский, есть чего опасаться. Реформаторов, которые хотят опередить его, накроет волной мятежей. Толстой же вовсе не хотел становиться мучеником и, охваченный беспокойством, как-то вечером сочиняет письмо министру Блудову, чтобы поставить того в известность о настроениях народных масс:
«Все это я пишу для того только, чтобы сообщить Вам два факта, чрезвычайно важные и опасные: 1) что убеждение в том, что в коронацию последует общее освобождение, твердо вкоренилось во всем народе, даже в самых глухих местах, и 2) главное, что вопрос о том, чья собственность – помещичья земля, населенная крестьянами, чрезвычайно запутан в народе и большей частью решается в пользу крестьян, и даже со всей землею помещичьею. Мы ваши, а земля наша… когда мне говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я говорил, что тогда останусь без рубашки, они посмеивались, и нельзя обвинять их: так должно было быть. Виновато правительство, обходя везде вопрос, первый стоящий на очереди… Я не говорю, чтобы непременно должно было признать эту собственность за помещиком (хотя этого требует историческая справедливость), пускай признают ее часть за крестьянами или всю даже. Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать все здание от пожара, который с минуту на минуту обнимет [его]… Почему невозможно определение собственности земли за помещиком и освобождение крестьянина без земли?.. Кто ответит на эти вопросы, необходимые для решения общего вопроса: по скольку земли? Или какую часть земли помещичьей? Чем вознаградить помещика? В какое время? Кто вознаградит его?.. А время не терпит… Ежели в шесть месяцев крепостные не будут свободны – пожар. Все уже готово к нему, недостает изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде».
Предупредив о катастрофе, почувствовал облегчение вдвойне: он в согласии со своей совестью, потому что предложил свободу крестьянам, и с властями, потому что предупредил о настроениях в народе. В этом деле его продолжал раздражать лишь молчаливый триумф тетушки, которая с самого начала приняла его проект враждебно. Она тоже была упряма, как крестьяне, держась за предписанные традицией отеческие отношения между помещиком и крепостными. Была уверена, что Бог дал мужиков в руки хозяину, чтобы тот заботился о них, воспитывал, оберегал, направлял. «Ей в 100 лет не вобьешь в голову несправедливость крепости», – отмечал Лев в дневнике 28 мая 1856 года и продолжал 12 июня: «Скверно, что я начинаю испытывать тихую ненависть к тетиньке, несмотря на ее любовь».
Ясная нравилась ему меньше, чем когда-либо: старый деревянный дом, в котором он родился, был продан, чтобы уплатить его карточные долги; покупатель, сосед Горохов, разобрал и восстановил строение в семнадцати верстах отсюда, в селе Долгое,[198]198
Дом был продан за 5000 р. ассигнациями помещику Горохову, который поставил его в своем имении Долгое в семнадцати верстах от Ясной Поляны. В 1911 г. дом был продан местным крестьянам, а в 1913 г. по постановлению сельского схода разобран на дрова и кирпич и разделен по дворам. Четвертого декабря 1897 г. Толстой ездил в Долгое, взглянуть на дом, в котором родился, провел детство и раннюю молодость. Седьмого декабря он записал в дневнике: «4-го ездил в Долгое. Очень умиленное впечатление от разваливающегося дома. Рой воспоминаний».
[Закрыть] и Николай был не прав – это нарушило ансамбль. Высокая трава и кусты росли на месте дома, Толстой с тетушкой жил в одном из оставшихся каменных флигелей, стены которого лишены были воспоминаний, а потому чувствовал себя в нем как на чужбине. Братья и сестра были далеко, он проводил время, работая над «Казаками», корректируя «Юность», читая Пушкина и Гоголя, купаясь в Воронке, тайком встречаясь с крестьянкой («Похоть ужасная, доходящая до физической болезни»[199]199
Дневники, 6 июня 1856 года.
[Закрыть]), вечерами, позевывая, раскладывал пасьянс.
Вскоре после прибытия Лев навестил в Покровском сестру, которая, увы, видом своим так огорчила его, что он записал в дневнике: «У Маши пахнет изо рта. Это несчастие серьезное».[200]200
Дневники, 30 мая 1856 года.
[Закрыть] На другой день, в пять утра верхом отправился в имение Тургенева Спасское, в двадцати верстах от Покровского. Через два часа был там, сердце его наполняло дружеское чувство к хозяину, который отсутствовал. В ожидании ходил по дому и «дом его показал мне его корни и много объяснил, поэтому примирил с ним».[201]201
Дневники, 31 мая 1856 года.
[Закрыть] Наконец вернулся Тургенев. Объятия, слезы радости, как будто все недоразумения остались в Петербурге, «…позавтракал, погулял, поболтал с ним очень приятно и лег спать».[202]202
Дневники, 31 мая 1856 года.
[Закрыть]
На следующий день к ним присоединились Маша и Валерьян. Иван Сергеевич был очень предупредителен с молодой женщиной, находил ее хорошенькой, с детским личиком, открытым взглядом и умением держаться просто. Он уже посвятил ей своего «Фауста», а этот дурак Валерьян не ценит своего счастья и с некоторых пор изменяет ей. «Отношения Маши с Тургеневым мне приятны», – замечает Толстой и возвращается в Ясную, уверенный, что дружба писателей возобновилась на долгие годы.
Но, встретив Тургенева через месяц, смотрит на него по-другому: без видимой причины вновь проснулась враждебность и разбушевалась, как огонь, долго тлевший в чаще. «Он решительно несообразный, холодный и тяжелый человек, и мне жалко его. Я никогда с ним не сойдусь» (5 июля 1856 года), «У него вся жизнь притворство простоты. И он мне решительно неприятен» (8 июля), «Тургенев ничем не хочет заниматься под предлогом, что художник неспособен. Нет человека, который мог бы обойти материальную сторону жизни, а у нас она – мужик, так же как англичанину – банк» («Записные книжки», 31 июля 1856 года).
В августе Тургенев уезжает во Францию. Едва узнав об этом, Лев огорчился. Было между этими людьми какое-то таинственное притяжение, которое усиливала разлука. Устроившись у Виардо, Иван Сергеевич без конца думал о своем мучителе, превосходство которого на расстоянии казалось еще более бесспорным. Конечно, он не мог не признавать собственного таланта, знал (и об этом говорили многие), что лучше в России никто не пишет, но после «Детства», «Отрочества» и «Севастопольских рассказов» ему казалось, что все им написанное – манерно и фальшиво. Его книги – произведения искусства, тогда как творения Толстого – кусочек жизни. Быть может, это начало угасания? И этот молодой грубиян с пылающими глазами отодвинет его в тень? Тургенев предчувствовал это, грустил, но не сердился. И решил поделиться с ним своими мыслями.
«Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразуменья; это случилось именно оттого, что я не хотел ограничиться с Вами одними простыми дружелюбными сношениями – я хотел пойти дальше и глубже; но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил Вас, – и, заметивши свою ошибку, отступил, может быть, слишком поспешно; вот отчего образовался этот „овраг“ между нами. Но эта неловкость – одно физическое впечатление – больше ничего; и если при встрече с Вами у меня опять будут мальчики бегать в глазах, то, право же, это произойдет не оттого, что я дурной человек. Уверяю Вас, что другого объяснения придумывать нечего. Разве прибавить к этому, что я гораздо старше Вас, шел другой дорогой… вся Ваша жизнь стремится в будущее – моя вся построена на прошедшем… Вы слишком крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем. Я могу уверить Вас, что никогда не думал, что Вы злы, никогда не подозревал в Вас литературной зависти. Я в Вас (извините за выражение) предполагал много бестолкового, но никогда ничего дурного; а Вы сами слишком проницательны, чтобы не знать, что если кому-нибудь из нас двух приходится завидовать другому – то уже наверное не мне. Словом, друзьями в руссoвском смысле мы едва ли когда-нибудь будем; но каждый из нас будет любить другого, радоваться его успехам – и когда Вы угомонитесь, когда брожение в Вас утихнет, мы, я уверен, так же весело и свободно подадим друг другу руки, как в тот день, когда я в первый раз увидал Вас в Петербурге».[203]203
Письмо от 25/13 сентября 1856 года.
[Закрыть]
Он надеялся, что письмо это смягчит его корреспондента, но тот был раздражен: по какому праву этот «европеец» дает ему урок. Сам он может осыпать себя упреками, но не потерпит, чтобы кто-то другой делал замечания о тех или иных чертах его характера. И Толстой отмечает в дневнике: «…получил вчера письмо от Ивана Тургенева, которое мне не понравилось».[204]204
Дневники, 14 октября 1856 года.
[Закрыть]
Через несколько дней ответ Тургенева на письмо Толстого:[205]205
Письмо неизвестно.
[Закрыть]
«Я чувствую, что люблю Вас как человека (об авторе и говорить нечего); но многое меня в Вас коробит; и я нашел под конец удобнее держаться от Вас подальше… в отдалении (хотя это звучит довольно странно) сердце мое к Вам лежит как к брату – и я даже чувствую нежность к Вам… Мои вещи могли Вам нравиться – и, может быть, имели некоторое влияние на Вас – только до тех пор, пока Вы сами сделались самостоятельны. Теперь Вам меня изучать нечего, Вы видите только разность манеры, видите промахи и недомолвки; Вам остается изучать человека, свое сердце – и действительно великих писателей. А я писатель переходного времени – и гожусь только для людей, находящихся в переходном состоянии».[206]206
Письмо от 28/16 ноября 1856 года.
[Закрыть]
И, как бы пытаясь предупредить определенный догматизм, который стал намечаться у Толстого, пишет ему еще раз:
«Дай Бог, чтобы Ваш кругозор с каждым днем расширялся! Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост поймать; система – точно хвост правды – но правда как ящерица; оставит хвост в руке – а сама убежит: она знает, что у ней в скором времени другой вырастет».[207]207
Письмо от 3/15 января 1857 года.
[Закрыть]
В конце концов Лев смягчился – он был тронут доброжелательностью Тургенева, вернулись и лучшие чувства к тетушке, на которую сердился за ее отсталые взгляды на крепостное право. «Тетенька Татьяна Александровна удивительная женщина. Вот любовь, которая выдержит все».[208]208
Дневники, 1 июля 1856 года.
[Закрыть] Теперь, когда ему не надо было спорить с мужиками, потому что он отказался от мысли об их освобождении, даже Ясная Поляна казалась милой сердцу. Писал, охотился, наслаждался природой. Чего не хватало в этой идиллической картине? Да женщины, черт побери! Толстой серьезно и неотступно думал о том, что настало время жениться.
В начале лета, когда в Ясную приехал Дьяков, он вдруг сообщил ему о своих матримониальных планах. Поскольку Лев последнее время казался влюбленным в его сестру, тот был удивлен, когда оказалось, что предметом страсти была теперь не Александра Оболенская, а некая Валерия Арсеньева – полная сирота, живущая в имении Судаково в восьми верстах от Ясной Поляны с двумя сестрами, Ольгой и Евгенией. Их опекали старая тетушка и компаньонка, m-lle Vergani. Они не были близко знакомы, несмотря на соседство, но из Москвы в имение Толстой ехал вместе с m-lle Vergani, и та своими рассказами пробудила в нем интерес к Валерии. Он стал бывать в Судакове, рассеянно ухаживать за двадцатилетней девушкой, которую окружающие мечтали выдать замуж, и теперь не знал, на что решиться – объясниться или бежать. Дьяков, с которым это обсуждалось, рад был его отдалению от сестры, а потому убеждал не раздумывать: «Шлялись с Дьяковым, много советовал мне дельного, о устройстве флигеля, а главное, советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать. Неужели деньги останавливают меня? Нет, случай».[209]209
Дневники, 15 июня 1856 года.
[Закрыть] Друзья расстаются у дороги, ведущей в Судаково и к будущей семейной жизни, Дьяков подталкивает друга, который не сомневается больше в том, что дорога эта ведет и к счастью. Но при виде девушки он уже не столь уверен в этом. «Беда, что она без костей и без огня, точно – лапша. А добрая, и улыбка есть, болезненно покорная».[210]210
Дневники, 15 июня 1856 года.
[Закрыть]
С этого дня он начинает видеться с Валерией чаще, испытывая то ли ее, то ли себя, полагая, что женитьба дело слишком серьезное, чтобы решиться вот так, разом, прежде надо подытожить все достоинства и недостатки избранницы. Итак, две колонки – «за» и «против», итог варьировался после каждой новой встречи, в зависимости от того, что заметил пристальный взгляд претендента. Детали туалета или прически достаточно было, чтобы все пошло вспять. Она говорила с ним о нарядах, и он начинал беспокоиться: «Фривольность есть у нее, кажется, не преходящая, но постоянная страсть».[211]211
Дневники, 18 июня 1856 года.
[Закрыть] Она надевала белое платье, и это смягчало его, как обещание ангельской чистоты: «Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго?»[212]212
Дневники, 26 июня 1856 года.
[Закрыть] В ее разговоре проскальзывало грубое слово, и уважение, которое он к ней питал, сменялось враждебностью: «Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа. Одно слово „prostituer“, которое она сказала, Бог знает, к чему, сильно огорчило и, при зубной боли, разочаровало меня».[213]213
Дневники, 28 июня 1856 года.
[Закрыть] Когда же ей вздумалось появиться перед ним в платье без рукавов, критиковал уже не душу, а тело: «Она была в белом платье с открытыми руками, которые у нее нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недоконченно. В улыбке слезы. Потом она играла. Мне было хорошо, но она уже была расстроена. Все это я узнаю».[214]214
Дневники, 1 июля 1856 года.
[Закрыть] На следующий день еще хуже – она встретила его в домашнем платье, сидя за письменным прибором с томным взором: «Валерия писала в темной комнате опять в гадком франтовском капоте».[215]215
Дневники, 2 июля 1856 года.
[Закрыть] Когда речь заходила о туалетах, которые она будет носить в августе во время коронации, Толстой начинал почему-то подозревать, что она не может стать хорошей матерью: «…фривольность и отсутствие внимания ко всему серьезному – ужасающи. Я боюсь, это такой характер, который даже детей не может любить».[216]216
Дневники, 12 июля 1856 года.
[Закрыть] Когда же свет меньше занимал ее и она причесывалась, открывая уши, как ему нравилось, он снова воспламенялся: «В первый раз застал ее без платьев, как говорит Сережа. Она в 10 раз лучше, – главное, естественна. Закладывала волосы за уши, поняв, что мне это нравится. Сердилась на меня. Кажется, она деятельно любящая натура. Провел вечер счастливо».[217]217
Дневники, 25 июля 1856 года.
[Закрыть] Через день он чувствует уже настоящее физическое волнение и, изо всех сил пытаясь отыскать в ней привлекательные черты, решает, что девушка восхитительна: «Странно, что Валерия начинает мне нравиться, как женщина, тогда как прежде, как женщина именно, она была мне отвратительна».[218]218
Дневники, 28 июля 1856 года.
[Закрыть] Быть может, желанной она стала только оттого, что скоро уезжала в Москву? Она так радостно представляла себе празднества, ужины, приемы, балы, фейерверки, что Лев заранее ревновал к каждому, кто приблизится к ней.
А вокруг два семейства плели заговор и боялись, как бы он не сорвался с крючка. Больше всех озабочена была m-lle Vergani, которая поклялась выдать малютку замуж до конца года, как только что выдала Ольгу. Она изобретала все новые поводы для встреч молодых людей, нашептывала Валерии советы, одевала ее, наставляла в зависимости от настроения Толстого. Иногда он приезжал в Судаково, иногда Валерия с компаньонкой под каким-то предлогом навещали Ясную. Прогулки по лесу, пикники, мечтания на балконе при свете луны, игра на фортепьяно в четыре руки, пока старшие, собравшись у самовара, обсуждали их будущее. Когда Лев оставался наедине с тетушкой, та осыпала его упреками: не понимала, почему он никак не решится на женитьбу; Валерия казалась ей безукоризненной во всех смыслах, а ждать, значит, в конце концов потерять ее. Не хватит ли жить как медведю в берлоге? Без сомнения, Бог не милостив к ее племянникам: Дмитрий умер на руках у проститутки, а трое других, видно, так и останутся холостяками. Тетка Пелагея Юшкова, приехавшая в Ясную, была согласна с тетушкой Toinette и настаивала на женитьбе. И только Сергей, вечный скептик, предостерегал брата от ошибки, которую тот хотел совершить.
Толстой думал о женитьбе со все большими опасениями, но и не решался разорвать отношения. Валерия должна была уехать в Москву 12 августа. Десятого он примчался в Судаково, настроенный очень решительно: «Мы с Валерией говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра». Одиннадцатого посетить Судаково помешала гроза, хотя ему очень того хотелось. Двенадцатого по размытой дороге спешит к той, кого считает уже своей невестой. Но Боже, сколько багажа, сундуки, полные платьев и шляпок. Барышня в дорожном костюме была очень мила. Трогательное прощание, обещание скорого возвращения, пожелания с обеих сторон. В тот же вечер Толстой записал в дневнике: «Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет».
Пока Валерия была рядом, она его раздражала, уехав, показалась незаменимой. Даже хорошенькие крестьянки, которых встречал и которые заставляли, по его собственным словам, терять самообладание, не могли отвлечь от мыслей о девушке. «Все эти дни больше и больше подумываю о Валериньке», – отмечает он 16 августа. И на следующий день, презрев правила хорошего тона, пишет ей чуть насмешливое, но нежное письмо: «Мне без шуток, к удивлению моему, грустно без вас… Впрочем, меня утешает в вашем отсутствии та мысль, что вы вернетесь постарше немного; а то молодость, впадающая в ребячество, есть недостаток, хоть и очень милый… Как остался вами доволен Мортье?[219]219
Мортье де Фонтен, Луи-Анри-Станислас, (1816–1883), французский композитор и пианист, который в то время жил в Москве. Валерия брала у него уроки музыки.
[Закрыть] Вижу, как вы, сделав болезненную улыбку, говорите: и тут не мог без морали. Что делать? взял дурную привычку учить других тому, в чем сам хромаю».
Толстой рассчитывал на скорый ответ, но Валерия не поддержала его и, следуя советам m-lle Vergani, чтобы вызвать в нем ревность, написала письмо тетушке Toinette. В нем она оживленно описывала увеселения во время коронации, свой успех у адъютантов Его Величества, военный парад, во время которого в толпе ей порвали платье. Прочитав отчет о ее светских похождениях, Лев пришел в ярость:
«Судаковские барышни! Сейчас получили милое письмо ваше, и я, в первом письме объяснив, почему я позволяю писать вам, – пишу, но теперь под совершенно противоположным впечатлением тому, с которым я писал первое. Тогда я всеми силами старался удерживаться от сладости, которая так и лезла из меня, а теперь от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение письма вашего тетеньке, и не тихой ненависти, а грусти разочарования в том, что: chassez le naturel par la porte, il revient par la fenêtre. Неужели какая-то смородина de tout beauté, haute voléе и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия? Ведь это жестоко. Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это подерет против шерсти». Потом продолжает, заявляя, что она должна была быть «ужасна» в парадном платье, что туалет этот не должен был украсить ее, а большинство флигель-адъютантов, которые увивались вокруг нее, «негодяи и дураки». И мстительно заключает: «…хотя мне и очень хотелось бы приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных тщеславных радостей, с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга».[220]220
Письмо В. В. Арсеньевой, 23 августа 1856 года.
[Закрыть]
Отправив письмо, Лев сразу пожалел об этом. Не зашел ли он слишком далеко? Несколько раз подряд видел «гадкие сны», записанные во всех подробностях в дневнике, и 8 сентября вновь берется за перо, чтобы извиниться перед Валерией за то, что написал без ее на то разрешения и письмо вышло неловким, глупым и грубым, просит, чтобы она ответила, не сердится ли, продолжает ли веселиться, как продвигаются уроки музыки, когда собирается вернуться.
В это время у него начинаются боли в боку, тетушка приглашает докторов, которые пытаются вылечить его пиявками, по десять штук на день. В горячке он вспоминает о кончине брата Дмитрия, боится, что у него тоже туберкулез, ему кажется, что умирает. Это, впрочем, не мешает ему, лежа в постели, вносить правку в рукопись «Юности». Лев уже совершенно выздоровел, когда 24 сентября барышни Арсеньевы вернулись в родное гнездо. В тот же день, пытаясь разведать обстановку, Ясную навестила m-lle Vergani: нужно было узнать, в каком он расположении духа после полутора месяцев разлуки. Чтобы разжечь в нем любовный пыл, она представила пребывание Валерии в Москве как триумфальное шествие из салона в салон. Это было слишком, «по ее рассказам Валерия мне противна», – появляется запись в дневнике.









































