Текст книги "Искусство и политика"
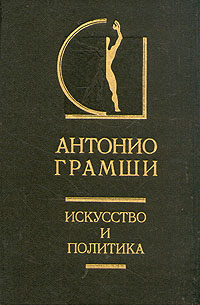
Автор книги: Антонио Грамши
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Это странное искажение понятий о нации было еще как-никак объяснимо в начале XIX века, когда требовалось любой ценой пробудить дремлющую энергию народа и вдохновить молодежь на подвиг. Но сейчас искажение это вовсе недопустимо. Идея выродилась в чисто декоративный прием, в излишество, в риторическую конструкцию. Замысел «Гробниц» был очень далек от жанра так называемой кладбищенской элегии. Стихотворение задумывалось как политическое воззвание (ср. свидетельство самого автора в письме к Гийону).
«Простые».
Выражение «простые», «простонародные» – одно из ключевых для понимания традиционного взгляда итальянских интеллектуалов на народ. Есть такое понятие, как «литература для простых». Речь отнюдь не идет об «униженных и оскорбленных» в достоевском смысле. В творчестве Достоевского властно сказывалось национальное, народное начало, то есть ответственность интеллектуала перед народом – народом, который, может быть, объективно и состоит из «простолюдинов», но он должен быть поднят до высокого культурного уровня, облагорожен, преображен. А наши интеллектуалы относятся к «простым людям» всегда с отеческой снисходительностью небожителей, с высокомерным сознанием своего превосходства. Это отношение высшей расы к другой, низшей напоминает отношение взрослого к ребенку в старорежимной педагогике, а может быть, и того хуже – заботу общества защиты животных о своих подопечных или англо-саксонской санитарной миссии о людоедах папуасских джунглей.
Мандзони и «простой люд».
В «Обрученных» выразился в полной мере своеобразный псевдодемократизм Мандзони, отчасти идущий от его религиозности, отчасти связанный со всем тем комплексом представлений об истории, которые Мандзони перенял у Тьерри. В этот комплекс входила теория «конфликта двух рас», завоевателей и завоеванных, переходящего в классовую борьбу.[535]535
Эти теории Тьерри надо рассмотреть в той мере, в какой они связаны с романтизмом и его интересом к истории средних веков и происхождению современных наций, так отношениям между германскими народами завоевателями и неолатинскими – завоеванными (По этому вопросу о «демократизме» или «народности» Мандзони см. и другие заметки).
[Закрыть] Об этом аспекте мандзониевского восприятия теорий Тьерри см. книгу Дзоттоли «Угнетенные и власть имущие в поэтике Алессандро Мандзони».
У Мандзони эти теории представляются в обогащенном виде, приобретают новые полемические аспекты, в частности по-новому решается вопрос о том, каким образом в историческом романе могут быть выведены персонажи «из низов» – из классов, лишенных «истории» в смысле исторических данных, ведь о них не существует достоверных документов.
Аристократический характер мандзониевского католицизма проявляется в добродушной снисходительности по отношению к людям из народа – к таким, как фра Гальдино (но не высокопоставленный фра Кристофоро, к нему автор относится с почтением!), а также портной, Ренцо, Аньезе, Перпетуя, и даже Лючия, и т. д. Вот чего нет у Толстого.
Теорию, противоречащую взглядам Дзоттоли, предлагает Филиппе Криспольти («Новые разыскания о Мандзони», «Пегасо», 1931 г.). Его статья – интереснейший образчик христиански-иезуитского отношения к «простым». Но должен сознаться, что, по-моему, из этих двоих прав все-таки Криспольти, хотя его упреки и «иезуитские». Криспольти пишет о Мандзони: «Народу целиком принадлежит его сердце. Но он не доходит до заискивания перед ним. Он вглядывается в народ так же пристально и сурово, как и во многих тех своих героев, которые выделяются из народа, но принадлежат к нему».
Речь идет не о том, что Мандзони должен бы был заискивать перед народом. Здесь говорится о психологии его отношения к нескольким отдельным персонажам – «представителям народа». Это отношение отдает кастовостью, пусть и в приличествующих доброму католику пределах. В глазах Мандзони люди «из народа» не обладают внутренним миром, лишены неповторимой индивидуальности. Они – что-то вроде животных. Мандзони обходится с ними гуманно: о такой гуманности ратует католическое общество защиты животных.
В этом отношении Мандзони напоминает эпиграмму на Поля Бурже, в которой говорится, что Бурже признает право иметь психологию только за теми дамами, чей доход превышает 100000 франков ренты. С этой точки зрения и Мандзони, и Бурже – истинные католики: в них нет ни капли «народного духа» Толстого, евангелического духа первохристианской общины. Отношение Мандзони к героям «из народа» то же, что отношение католической церкви к самому народу: оно исполнено снисходительной благосклонности, а не христианского смирения, отождествления себя с людьми. Тот же Криспольти в приведенном выше отрывке бессознательно подмечает эту ограниченность (она же «пристрастность») Мандзони. Он пишет, что Мандзони «сурово вглядывается в народ» (весь народ!), а что до тех, кто «не принадлежит к народу», Мандзони «суров ко многим» (но не ко всем!). Мандзони признает способность к «великодушию», «высоким мыслям» и «возвышенным чувствам» лишь за некоторыми из «благородных» героев – но ни за одним из «простонародных»! «Простой народ» в его понимании – бесформенная животная масса.
Криспольти верно заметил: хотя «простолюдины» выведены у Мандзони на первый план, это ровно ничего не означает. В романе «простонародны» и главные герои (Ренцо, Лючия, Перпетуя, фра Гальдино и другие), и второстепенные (портной), народ участвует и в массовых сценах (миланский бунт, эпизоды в деревне и проч.), но само по себе отношение Мандзони к народу не «народно-национально», а аристократично.
Прорабатывая книгу Дзоттоли, необходимо иметь в виду эту статью Криспольти. Можно доказать, что католицизм даже через посредство превосходнейших, крайне далеких от иезуитства людей, как Мандзони (который питал явные симпатии к янсенистам и антипатию к иезуитам), не способствовал формированию в Италии «национально-народного» течения даже в эпоху романтизма, а напротив, носил антинационально-антинародный и исключительно олигархический характер. Криспольти доказывает только, что в определенный период Мандзони находился под впечатлением концепций Тьерри (которые тот разрабатывал применительно к французской истории) о том, что национальная рознь в гуще народа (борьба лангобардов с римлянами, а во Франции – франков с галлами), по сути, сводится к борьбе между угнетенными и угнетателями.
Дзоттоли, автор книги, пытается ответить на критику Криспольти в «Пегасо» от сентября 1931 года.
Адольфо Фаджи в своей статье («Марцокко», 1931, 1 ноября) приводит несколько соображений о функции тезиса «Глас народа – глас Божий» в романе «Обрученные». Эта сентенция, говорится у Фаджи, звучит в романе дважды. В последней главе ее произносит дон Абондио, отвечая маркизу – наследнику дона Родриго: «И после всего этого вы не хотите, чтобы вас называли замечательным человеком? Я же так говорю и буду говорить, наперекор вам буду говорить. И даже если б я молчал, это ни к чему бы не повело, потому что все так говорят, а известно, что vox populi, vox Dei».[536]536
Глас народа – глас Божий (латин.).
[Закрыть]
Фаджи показывает, что эта торжественная латинская цитата свидетельствует лишь о приподнятом расположении духа дона Абондио по случаю смерти дона Родриго и так далее; таким образом, поговорка для автора не имела особого смысла и значения.
Второй раз отзвук этой латинской фразы встречается в XXXI главе романа, где говорится о чуме: «К тому же и многие врачи, являясь как бы эхом гласа народного (был ли он и в этом случае гласом Божиим?), высмеивали зловещие предсказания и грозные предупреждения немногих». Здесь поговорка приводится уже по-итальянски и в скобках, с иронической подоплекой. В раннем варианте текста «Обрученных» (гл. 3, т. 4, изд. Леска) у Мандзони были в этом месте пространные рассуждения о том, как идеи, некогда почитавшиеся людьми за верные, через некоторое время утрачивают свою правоту и что если сейчас кажутся смешными представления, бытовавшие среди миланцев во времена чумы, то и наши сегодняшние понятия – кто знает? – могут завтра оказаться нелепыми и смешными. Это длинное рассуждение из окончательного текста исчезло и было заменено коротким вопросом: «Был ли он и в этом случае гласом Божиим?».
Фаджи подчеркивает разницу между «этими случаями», когда глас народный равнозвучен гласу Бога, и «случаями» иного рода. Эти случаи, по Фаджи, – «когда говорится об идеях или, лучше сказать, об особых частных познаниях, которые дает людям только наука и неустанный ее прогресс; но когда речь идет об основных жизненных правилах и о чувствах, свойственных от природы всякому человеческому существу, о том, что древние именовали знаменитой формулу conscientia generis humani – (совесть рода человеческого), тогда у Мандзони глас народа и глас Бога едины». Говоря так, Фаджи затушевывает некоторые аспекты проблемы. Здесь невозможно не брать в расчет особенностей католицизма Мандзони.
Вот хотя бы часто приводимый пример: совет Перпетуи дону Абондио слово в слово совпадает с мнением кардинала Борромео.[537]537
Мандзони А. Обрученные М, 1955, гл. 1, с. 37, гл. 26, с. 358–359.
[Закрыть] Однако в данном случае речь идет не о суждении морали или религиозной совести, а о совете, подсказанном практической осмотрительностью и заурядным здравым смыслом. Кардинал Борромео действительно говорит в один голос с Перпетуей, но это совпадение не имеет высшего значения, как хотел бы показать Фаджи. Совпадение обусловлено просто тем, что в описываемую эпоху церковная верхушка имела реальное политическое влияние, реальную власть. Совершенно естественно, что Перпетуе приходит в голову, что дону Абондио надо бы обратиться к миланскому архиепископу. Что мысль эта приходит в голову именно Перпетуе, объясняется лишь тем, что дон Абондио в ту минуту напрочь теряет голову, а Перпетуя, видимо, сохраняет присутствие духа. Совершенно естественно также, что кардинал Борромео думает о том же самом. И глас Божий в данном случае ни при чем.
Есть другой пример: Ренцо инстинктивно не верит в неразрешимость обета безбрачия, данного Лючией, и падре Кристофоро с ним полностью согласен. Но и здесь речь идет не о морали, а о казуистике.
Фаджи пишет, что Мандзони собирался написать «роман о простонародье». Мысль эта сложнее, чем кажется на первый взгляд и чем хотел бы показать Фаджи. Есть какое-то отчуждение между Мандзони и его простонародными героями. Мандзони нуждается в простом народе для решения творческой «историографической» задачи, которую он и решает средствами исторического романа, и в частности с помощью специфического «правдоподобия». Поэтому его простолюдины часто выглядят карикатурами на народ – пусть беззлобными, но безусловно смехотворными.
К тому же Мандзони слишком католик, чтоб считать, что глас народный и глас Божий едины. Он знает, что между Господом и народом стоит церковь и что Господь воплощается не в народе, а в церкви. Что Господь возрождается в людях, в народе – так мог думать Толстой, но не Мандзони. И конечно же, народ ощутил это отношение Мандзони. Не случайно «Обрученные» никогда не пользовались успехом в народе. Народ инстинктивно чувствовал отчужденность Мандзони и воспринимал его роман как сочинение доброго католика, а не как подлинно народную эпопею.
Народность Толстого и народность Мандзони.
В «Марцокко» от 11 ноября 1928 года появилась статья Адольфа Фаджи «Вера и драматургия»; в нескольких ее положениях анализируется различие мировоззренческих позиций Толстого и Мандзони. Разбирая это различие, Фаджи в то же время совершенно произвольно утверждает, что «Обрученные» «полностью соответствуют его (толстовскому) пониманию религиозного искусства». Мировоззренческое различие, о котором идет речь, уже сформулировано ранее тем же Фаджи в его статье о Шекспире: «Искусство вообще и драматическое искусство в частности всегда было религиозно, то есть всегда преследовало цель прояснять в глазах людей их взаимоотношения с Богом. При этом считалось естественным, что в эти взаимоотношения вступали от имени всех лишь некоторые, особо достойные люди, избранные судьбой, чтобы руководить прочими». «Затем искусство начинало уклоняться от своей первоначальной цели… и задавалось увеселительными, развлекательными целями; это произошло в христианском искусстве…».
Фаджи выделяет среди героев «Войны и мира» двух наиболее значительных, в религиозном смысле, – это Платон Каратаев и Пьер Безухов. Первый из них говорит от имени народа, и его наивная, интуитивная картина мира существенно влияет на выработку мировоззрения Пьера Безухова. Это очень характерно для Толстого: наивная, интуитивная мудрость народа, пусть даже выраженная неумело, случайными словами, многое проясняет и во многом помогает кризисному сознанию образованного мыслящего человека. Вот она, главнейшая примета религиозности Толстого, который воспринимает Евангелие «демократично», то есть соответственно его подлинному, первичному духу.
Мандзони, в отличие от Толстого, помнит о Контрреформации. Его религиозность тяготеет то к янсенистскому аристократизму, то к псевдонародному, иезуитскому патернализму. Утверждение Фаджи, что в «Обрученных» действуют некоторые «избранные натуры, как падре Кристофоро и кардинал Борромео, которые воздействуют на натуры низшие, всегда находят для них слова утешения и указывают им путь», – это утверждение, после всего того, что сказано о религиозном искусстве Мандзони, свидетельствует о коренной чуждости взглядов Мандзони и Толстого. Толстого занимают глубины мировоззрения, а не частные способы выражения мысли. Концепции жизни разрабатываются, безусловно, достойными умами; но «истина» у Толстого воплощена прежде всего в униженных, в нищих духом.
Кроме того, примечательно, что нет в «Обрученных» ни одного простонародного героя, который не был бы высмеян, окарикатурен. Все: и дон Абондио, и фра Гальдино, и портной, и Джервазио, и Аньезе, и Перпетуя, и Ренцо, и даже сама Лючия – выведены людьми жалкими, убогими, лишенными «внутренней жизни». Право на «внутреннюю жизнь» имеют лишь господа – фра Кристофоро, кардинал Борромео, Безымянный, даже насильник дон Родриго. Как-то раз Перпетуя высказывает здравую мысль, которую впоследствии слово в слово повторит кардинал Борромео; но это возможно лишь тогда, когда речь идет о чисто практическом вопросе; первое же знакомство с Перпетуей – общеизвестный комический эпизод.[538]538
Знакомство с ней читателей: «Оставшись в девицах по причине отказа, как она уверяла, от всех сделанных ей предложений, либо, как говорили ее приятельницы, по причине того, что ни один пес не пожелал к ней посвататься» (там же, с 35).
[Закрыть] То же касается и случая, когда мнение Ренцо об обете целомудрия Лючии совпадает с суждением падре Кристофоро. Одна из фраз Лючии разбередила совесть Безымянного и приблизила его душевный кризис.[539]539
«Бог прощает все грехи за один милосердный поступок» (там же, гл. 21, с. 292, 299).
[Закрыть] Но сама по себе эта фраза не содержит того поразительно-просветляющего смысла, которого исполнены речения толстовского народа. Народ у Толстого – источник верного морального и религиозного жизнепонимания. А у Мандзони фраза Лючии «работает» механически, как элемент силлогизма.
А вообще-то у Мандзони есть что-то от брешианского иезуитства.[540]540
Отметить, что еще до Парини «патерналистски» «оценивали» народ иезуиты см. «Молодость Парини, Верри и Беккариа» К. А. Вианелло (Милан, 1933), где он указывает на иезуита падре Поцци, «который задолго до Парини поднялся, чтобы защищать и восхвалять, заручившись предварительно согласием виднейших представителей миланского патрициата – „плебеев“, или пролетариев, как они называются сегодня» (см. «Чивильта Каттолика» от 4 августа 1934, с. 272).
[Закрыть] Тот же Фаджи в своей предыдущей статье, «Толстой и Шекспир» («Марцокко», 1928, 9 сент.), разбирает очерк Толстого о Шекспире. В ту же брошюру включена статья Эрнста Кросби «Отношение Шекспира к трудящимся классам»[541]541
Статья Э. Кросби как раз и побудила Л. Н. Толстого написать свое известное эссе.
[Закрыть] и краткое письмо Бернарда Шоу о шекспировской философии. Толстой со своих идеологических христианских позиций стремится буквально уничтожить Шекспира: критика Толстого носит не художественный, а морально-религиозный характер. Статья Кросби (откуда все и пошло) вся посвящена доказательству положения, с которым не согласятся многие английские ученые, а именно: что во всем творческом наследии Шекспира нет ни одного слова симпатии к народу и к трудящимся массам. Как и полагалось в ту эпоху, Шекспир целиком на стороне высокопоставленных слоев общества. Его драматургия аристократична по самой своей сути. Всякий раз, когда он выводит на сцену представителей буржуазии либо народа, им движет презрение или отвращение, и такой персонаж всегда выводится на посмешище. У Мандзони замечена та же тенденция, хотя проявления ее не так ярки, не столь вызывающи.
Письмо Шоу целиком обращено против Шекспира-мыслителя. Шекспира-художника оно не касается. На взгляд Шоу, первое место в литературе любой эпохи должно принадлежать тем, кто сумел преодолеть мораль своего времени и увидел новые потребности, новые возможности роста. Шекспир не смог «перешагнуть» границы своей эпохи даже «мысленно» и так далее.[542]542
В этих заметках нужно избегать всякой морализаторской тенденциозности, как у Толстого, а также всякой тенденциозности «задним умом», как у Шоу. Речь идет об исследовании по истории культуры, а не о художественной критике в строгом смысле слова: хочется показать, что именно изучаемые авторы ввели внешнее, т e идущее от пропаганды, а не от искусства, моральное содержание, и что мировоззрение, заключенное в их произведениях, узко и низко, не является народно национальным, а принадлежит узкой касте. Изучение красоты произведения подчинено исследованию того, почему оно «читается», «популярно», почему его «ищут» или, напротив, почему оно не трогает народ и не интересно ему, делая очевидным отсутствие единства в культурной жизни нации.
[Закрыть]
Ирония и литературный «жаргон».
В «Марцокко» от 18 сент. 1932 года Туллия Франци пишет о споре, возникшем некогда между Мандзони и переводчиком «Обрученных» на английский англиканским пастором Чарлзом Суэном. Спор вышел из-за одной фразы в конце седьмой главы, где речь заходит о Шекспире: «Промежуток между первой мыслью о страшном предприятии и его выполнением, как сказал один не лишенный гениальности варвар, есть сон, наполненный призраками и страхами». Суэн написал Мандзони: «Не лишенный гениальности варвар – это фраза, которая навлечет на Вас проклятия и ненависть всех отечественных поклонников великого барда». А ведь Суэну были прекрасно известны письменные выпады Вольтера против Шекспира. Однако он не понял мандзониевской иронии, направленной против Вольтера, который в свое время назвал Шекспира «un sauvage avec des йtincelles de gиni».[543]543
«Дикарь с проблесками гения» (франц.).
[Закрыть] Суэн получил от Мандзони письмо, пояснявшее иронический смысл его фразы, и опубликовал его вместо предисловия к изданию своего перевода «Обрученных». Тем не менее, указывает Франци, в других английских переводах это выражение Мандзони либо опускается, либо приобретает безобидно-безличную форму («Как сказал один иностранный писатель…» и в таком роде). То же наблюдается и при переводах на другие языки.
Итак, очевидно, что ирония Мандзони нуждается в пояснении. А шутка, которую требуется пояснять и растолковывать, – такая шутка, по сути, понятна лишь узкому кружку посвященных литераторов. Вот убедительный пример невнятного литературного «жаргона», порождающего путаницу.
Мне кажется, что употребление этого жаргона встречается гораздо чаще, чем принято считать, и что он очень затрудняет перевод с итальянского на другие языки. И не только перевод: часто невозможно понять простой разговор наших соотечественников. «Изысканность», которая требуется при таком разговоре, не имеет ничего общего с нормальной живостью ума. Собеседник должен знать множество мелких фактов, анекдотов, понимать интеллектуалистские намеки этого жаргона, понятного только литераторам, скажем точнее – только малочисленным группам литераторов.[544]544
В статье Франци надо отметить неожиданно «женскую» метафору «С чувством мужчины, которого из-за вызванных ревностью подозрений упрекает и избивает жена, а он радуется проявлениям гнева и благословляет эти удары как свидетельство любви, пишет Мандзони это письмо». Мужчина, которого радуют побои жены, – это и впрямь оригинальная форма современного феминизма.
[Закрыть]
«Содержанисты» и «каллиграфы»
В «Италия леттерариа», «Тевере», «Лаворо фашиста», «Критика фашиста» развернулась полемика «содержанистов» с «каллиграфами». Некоторые намеки позволяли ожидать, что Герардо Казини, главный редактор «Лаворо фашиста» и «Критика фашиста», в скором времени четко изложит суть спора, пусть даже в полемической форме. Однако его статья в «Критика фашиста» от 1 мая 1933 года принесла лишь разочарование. Он не сумел практически определить взаимоотношения «политики» и «литературы» ни в сфере литературной критики, ни в сфере политической науки, политического искусства. Он не указывает на практике, как должна вестись и развиваться борьба, как зарождается политическое движение за новую культуру, за новое общество. Он не поясняет на практическом примере, как может случиться так, чтобы новое общество, уже утвердившись как существующее, не имело адекватной литературы и художественной культуры, да так и не может быть на практике, история всех эпох доказала обратное. Пусть даже борьба не окончена, пусть продолжается внешнее и внутреннее сопротивление, но все равно всякое новое общество, как правило, формирует свою собственную литературу еще до того, как формируется государственный аппарат, складывается общественная жизнь. Более того, литература, как правило, способствует образованию новых интеллектуальных и моральных принципов, которые находят последующее выражение в государственном законодательстве.
Поскольку ни одно художественное произведение не может обойтись без содержания, то есть не может не быть «привязано» к определенной поэтической сфере, а эта сфера в свою очередь – к соответствующей сфере интеллектуальной и моральной, становится ясно, что «содержанисты» – это просто проводники новой культуры, нового содержания, а «каллиграфы» – проводники старого или иного содержания, старой или иной культуры. Мы сейчас оставляем в стороне вопросы ценности для отдельных эпох этих содержаний, этих культур. Хотя на самом деле все определяется именно ценностью этих культур (содержаний) и превосходство одной культуры над другой обычно решает спор. Нам предстоит решить вопрос об исторической обусловленности искусства, вернее, об исторической обусловленности и вместе с тем о вневременной его сущности. Главное – исследовать факт. Поддается ли «сырой» политико-экономический факт дальнейшей обработке искусством, обретает ли он адекватное выражение в творчестве, или его чисто экономическая природа противится и при соприкосновении с искусством искажается суть факта. Ведь каждое предыдущее художественное решение таит в себе новое содержание Впрочем, ново оно лишь с чисто хронологической точки зрения.
Культура нации формируется из самых разнородных элементов. Случается и так, что интеллектуалы, космополиты по своей природе, оказываются далеки от национального содержания и заимствуют содержание своего творчества у других наций, а то и вовсе абстрагируют его от какой бы то ни было национальной культуры. Так, Леопарди называют поэтом отчаяния. Поэзия отчаяния в эпоху Леопарди была прямым следствием сенсуализма XVIII века. Однако в Италии и в помине не было того уровня развития производительных и политических сил, который в других странах послужил органической базой философии сенсуализма. Италия была отсталой страной. А политические силы отсталой страны, воспроизводя себя в культуре, конечно же, не способны породить собственную самобытную и сильную литературу. Произойти из всего этого может только «каллиграфизм», то есть модный скепсис, презрение к любому глубокому чувству, к серьезному «содержанию» искусства.
«Каллиграфизм» присущ тем нациям, которые рождаются на свет, подобно Лао Цзы, восьмидесятилетними старцами, не переживают поры непосредственной свежести чувств, не знают романтизма, да и классицизма тоже не знают. В лучшем случае – романтический маньеризм, неуклюжий гибрид, все несообразия которого – это не угловатость влюбленного юноши, а неповоротливость бессильного гальванизированного старца, излишества запоздалой страсти. Классицизм у таких наций также маньеристичен, сведен к голому «каллиграфизму». Это такая же пустейшая форма, как лакейская ливрея. Формы каллиграфизма – это и «Страпаэзе», и «Страчитта», приставка «стра», указывающая на ограниченность и несвободу, здесь как нельзя более уместна.
Примечательно, кроме того, насколько ярко в этой дискуссии проявляется удивительная неосведомленность спорящих. Никакой серьезной подготовки. Да ведь принимаешь ты или отвергаешь теории Кроче – в любом случае их надо изучить и по меньшей мере – не перевирать при цитировании. А здесь все цитаты, как принято у газетчиков, приводятся по памяти. Известно, скажем, что категория «художественного» у Кроче представлена как «формальная», но это вовсе не означает ни провозглашения «каллиграфизма», ни ниспровержения содержанизма. Здесь вообще незачем искать какую-либо новую культурную программу. Это во-первых.
Во-вторых, не следует принимать в расчет реального поведения Кроче-политика и его отношения к тому либо иному духовному течению. Как политик, Кроче отстаивает свои вполне определенные программы, а как эстет, как ценитель – приветствует лирическое в искусстве.
Из положения Кроче о единстве и повторяемости четырех духовных категорий вытекает, что нравственное начало является первоосновным и неотъемлемым началом творчества. Это так, и не имеет значения, что тот же Кроче впоследствии рассмотрит художественное произведение как эстетический, а не как этический факт; здесь он берет лишь одно звено из цепочки круговорота.
К учению Кроче необходим внимательный подход. В его рассуждениях об экономике бандитизм приравнивается к биржевой сделке. Не значит же это, что Бенедетто Кроче потворничал бандитизму. Хотя оговоримся, что отношение Кроче, лица политически представительного, конечно же, в какой-то мере сказывалось на деятельности биржи.
Столь подробный разговор о несерьезной подготовке дискуссии, терминологической неточности и неразборчивости спорящих может навести на мысль, что дискуссия эта имеет какую-либо ценность и смысл. Ничего подобного! Перед нами не родовые потуги новой литературной цивилизации, а мышиная возня заштатных писак.
Публика и итальянская литература.
В своей статье, опубликованной в «Лаворо» и воспроизведенной в выдержках во «Фьера леттерариа», Лео Ферреро пишет: «По тем или иным причинам, но ясно одно: итальянские писатели лишились читающей публики. Публика – по сути это слово обозначает группу людей, которые не только раскупают книги, но – и это гораздо важнее – восхищаются писателями. Литература может процветать исключительно в атмосфере восторгов и восхищения. Это восхищение – не компенсация художнику за труд, как принято думать, а важнейший стимул, побуждающий трудиться. Публика, которая восхищается, восхищается искренне, сердечно, радостно, публика, находящая счастье в том, чтобы восхищаться (ибо нет ничего более губительного, чем искусственное, наигранное восхищение), – вот главная движущая пружина литературного процесса. А сейчас по многим приметам чувствуется, увы! что публика собирается отвернуться от итальянских писателей».
«Восхищение» в устах Ферреро не что иное, как метафора, условный термин для обозначения сложной системы отношений и многообразных форм связи нации с ее художниками и писателями. В наши дни эти связи неудержимо ослабевают. Литература перестает быть национальной оттого, что она ненародна. Таковы парадоксы нашей эпохи. Кроме того, в литературном мире разрушилась иерархия, то есть пустует место беспрекословно признанного культурного лидера, который диктовал бы законы в искусстве.
Споры о множестве «почему» и «отчего» современной литературы. Рассуждения о «прекрасном» уже не удовлетворяют. Требуется определение интеллектуального и морального содержания искусства, а содержание в свою очередь должно включать в себя тщательно изученный комплекс глубинных потребностей определенных слоев публики, то есть нации-народа на определенном этапе его исторического развития. В литературе должны сочетаться элементы актуальности и художественности; в противном случае литературу подлинно художественную вытеснит бульварное чтиво, которое представляет собой безусловно важный элемент культуры – пусть культуры низкопробной, но жизнеспособной и ощущаемой как таковая.
Национальная культура Италии.
В письме к Умберто Фраккья о критике («Пегасо», 1930, авг.) Уго Ойетти[545]545
Ойетти отталкивается от открытого письма Умберто Фраккьи Его Превосходительству Джоакино Вольпе, опубликованного в «Италиа леттерариа» от 22 июня 1930, которое связано с речью Вольпе, произнесенной в заседании академии, где обсуждалось распределение премий Вольпе, помимо прочего, сказал: «Не видно, чтобы появлялись великие произведения живописи, великие исторические сочинения, великие романы. Но те, кто наблюдают внимательно, видят в современной литературе скрытые, жаждущие вырваться наружу силы, некоторые добрые и обещающие достижения».
[Закрыть] формулирует два важных положения. Ойетти напоминает, что Альбер Тибоде делил всю литературную критику на три вида: суд критиков-профессионалов, суд собратьев-литераторов и суд «добрых людей», то есть просвещенной публики, которая в конечном итоге являет собой основную биржу литературных ценностей. Но Тибоде имел возможность так рассуждать, поскольку во Франции существовали широкие слои читающей публики, внимательно следящей за литературной жизнью. В Италии же третий, основной род критики исключен. У нас почти нет – можно считать, что нет, – этой прослойки читающих, образованных средних слоев. У нас нет и этого представления, пусть иллюзорного, что писатели заняты делом общенациональной важности, а лучшие из них – даже историческим по своей значимости делом. Историческим, поскольку, по выражению самого Фраккья, «каждый год, каждый проходящий день рождает свою литературу. Так было всегда, и так всегда будет, и нелепо строить планы, прогнозировать и относить в завтрашний день то, что уже есть сегодня. Каждый век и каждый отрезок века превозносит порождения текущего момента; более того, зачастую современники преувеличивают их значение, достоинства и историческую ценность».
Вторая важная мысль Ойетти: «Наша классическая литература не слишком популярна. Английские и французские критики гораздо чаще проводят параллели между текущей литературой и классикой своего народа». И проч. и проч.
Это наблюдение очень важно: из него следует исходить, оценивая современную итальянскую культуру с общеисторической точки зрения. У нас опыт прошлого не отражается в настоящем, не составляет неотъемлемой его части. В истории нашей национальной культуры нет ни единства, ни непрерывности. Все рассуждения о непрерывности и единстве этой истории – не более чем риторический прием. Это пропагандистская уловка, цель которой – симулировать несуществующее единство. На самом же деле был лишь один период, применительно к которому можно говорить об относительной непрерывности, преемственности. Это литературный процесс от Рисорджименто до Кардуччи и Пасколи. Их творчество как-то связано, возможно, даже с латинской литературой. Но Д'Аннунцио и его подражатели решительно расправились со всякой преемственностью.
Прошлое в любых видах, в том числе и литература прошлого, никак не соприкасается с нашей жизнью, оно живет лишь в отражениях книжной схоластической культуры. Это свидетельствует о том, что наше национальное чувство родилось совсем недавно, а может быть, – скажем еще решительнее – о том, что оно еще только формируется. А следовательно, литература Италии никогда не представляла собой национального явления. Наша литература носила и пока что носит вненациональный, космополитичный характер.
Вот несколько весьма характерных пассажей из письма Фраккья профессору Джоаккино Вольпе. «Чуть-чуть больше смелости (!), отчаянности (!), веры (!) и Ваша процеженная сквозь зубы похвала превратится в открытую и громкую хвалу итальянской литературе. Вы могли бы отметить, что литература нашей страны кроме общеизвестных достоинств таит в себе и нераскрытые ресурсы. Их также можно увидеть – надо только хотеть видеть. Они заслуживают, чтоб их увидели и признали именно те, кто пока что не желает их замечать», и т. д. и т. п. Тут профессор Вольпе вполне серьезно перефразировал шуточные стихи Джусти: «Герои, герои, чем заняты вы? – Тужимся над будущим». Ну а Фраккья самым жалким образом плачется, что не желают оценить по заслугам эти самоцельные потуги.
Фраккья неоднократно пытался запугать книгоиздателей, публикующих слишком много переводов. Он угрожал им законодательными строгостями, охраняющими права национальных литераторов. Кстати, один из законов, изданных в тот период помощником министра внутренних дел депутатом Бьянки, был продиктован именно журналистской кампанией в защиту прав итальянских писателей, которую организовал Фраккья. Впоследствии все это «разъяснилось», и закон был отменен.









































