Текст книги "Искусство и политика"
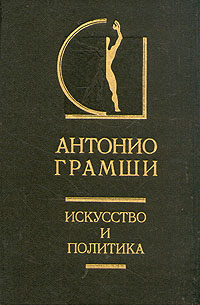
Автор книги: Антонио Грамши
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Я уже перечислял доводы Фраккья в этой кампании: каждый век, каждый период века живет своей литературой и прославляет ее. Приходится возвращать на законные места в общей истории литературы многие перехваленные произведения, которые сегодня, по общему мнению, ничего не стоят. В общем, я согласен с этими рассуждениями. Но из них следует, что литература текущего периода вообще не отображает своего времени, никак не связана с реальной жизнью нации: ведь не случайно сейчас не считаются представительными вообще никакие литературные произведения, даже те, которые могли бы на время привлечь общественное внимание своей злободневностью, а впоследствии, когда злободневность утратится, – кануть в безвестность.
Но неужели это правда и в самом деле сейчас нет особо модных и читаемых книг? Как же, есть. Но это переводные книги. Их могло бы быть и больше, если бы больше переводили таких писателей, как Ремарк, и других. Наша эпоха не создала своей особой литературы, выражающей наиболее глубинные и сущностные ее свойства, и она – за редкими исключениями – далека от национально-народной жизни. Это литература мелких групп интеллигенции – паразитов на теле нации.
Фраккья жалуется на критиков, которые интересуются только шедеврами и вязнут в бесконечных академических спорах об эстетике. Однако, если бы в моду вошла историко-культурная критика, это все равно бы не удовлетворило ни Фраккья, ни самих критиков: ведь идеологическое и культурное содержание современной литературы практически равно нулю, не говоря уж о многочисленных противоречиях и плохо скрытом лицемерии.
Второй тезис Ойетти из письма к Фраккья – что в Италии не существует литературного суда публики – мне представляется также неверным. Он существует. Но это очень своеобразный суд. Публика наша читает много и, как может, выбирает из того, что имеется в ее распоряжении. А в ее распоряжении имеются Дюма и Каролина Инверницио, а также множество желтых романов, на которые она жадно набрасывается.
Этот литературный суд целиком подчинен дирижерской палочке издателей, редакторов крупных газет, крупных журналистов. Вот кто решает, что печатать в литературных приложениях, что ставить в театрах, что переводить из иностранной литературы – и не только текущей, но и старой, в которой они вовсе не специалисты. В общем, они решают все.
Бывают исключения: не всегда публика преклоняется только перед иностранным товаром. В музыке неизменно главенствуют Верди, Пуччини, Маскарди. К сожалению, в итальянской литературе соответствующей эпохи нет ничего подобного. Да что там – и за границей публика часто предпочитает Верди, Масканьи и Пуччини собственным национальным и современным композиторам.
Все это, безусловно, свидетельствует о том, что в Италии существует громадный разрыв между пишущими интеллектуалами и читающей публикой. Так называемая национальная итальянская литература чужда публике, и публика ищет нечто близкое себе и находит – за границей. Тут таится одна из серьезных проблем национальной культурной жизни. Действительно, каждый век и отрезок века создают свою собственную национальную литературу. Но не всегда ее создает сама нация. Народ считает эту литературу своей, но не всегда он ее творец. Часто бывает так, что один народ попадает в интеллектуальную и духовную зависимость от других народов. Особенно парадоксально это выглядит, когда некая нация культивирует национальную нетерпимость, ригоризм культуры, а между тем, разрабатывая планы грандиозной культурной гегемонии, она сама подпадает под усиленное влияние другой культуры. Те, кто вынашивают империалистические планы, сами незаметно становятся жертвой империализма со стороны. Хотя кто знает: возможно, идеологические руководители нации в таких случаях прекрасно осознают опасность и стремятся спасти положение. Но ясно одно: литераторы при этом не спешат помочь политическому и идеологическому руководству. Эти пустоголовые болтуны способны только трепать языками насчет «национального культурного превосходства», лишь бы не замечать, что их нацию уже давно «культурно превзошли» и интеллектуально поработили.
Бессмысленные споры.
Все больше пишут об отрыве искусства от жизни. См. статью Папини («Нуова антолоджиа», 1933, 1 янв.), статью Луиджи Кьярини («Эдукацьоне фашиста», 1932, дек.), полемические заметки о Папини («Италия леттерариа», 1933, 1 янв.). Все это споры скучные и крайне бестолковые. Папини – католик и антикрочеанец; все противоречия его поверхностных писаний обусловлены этой двойственностью убеждений. Самые заметные выступления, наиболее «по существу» дела, – это статьи «Политический элемент в литературе» и «Смерть интеллектуала» Герардо Казини в «Критика фашиста» и напечатанный там же памфлет против интеллигенции Бруно Стампанато «Антифашизм в культуре».[546]546
Статьи Г. Казани «Политические аспекты литературы» и «Смерть интеллектуала», Б. Спампанато «Антифашизм культуры».
[Закрыть]
В любом случае размах этих споров показывает, что в обществе вновь остро ощущается разрыв между словом и делом, между громкими заявлениями и жалкой действительностью.
Сейчас, мне кажется, очень подходящий момент для того, чтобы восстановить истинное положение вещей. Есть много людей, желающих что-то понять. Сейчас меньше ханжества, и в обществе распространен некий антибуржуазный дух – пусть пока что слабый, рожденный «вне закона». По крайней мере хоть кто-то стремится к формированию реального национально-народного единства, правда, с помощью чужеродных, насильственных, схоластических средств, «волюнтаристских» методов. И по крайней мере хоть кто-то чувствует, что единства этого пока нет и что его отсутствие – залог слабости государства. Поэтому я решаюсь утверждать, что в настоящий момент мы продвинулись вперед в сравнении с эпохой Уго Ойетти, Альфредо Панцини и их компании. И это следует иметь в виду.
С другой стороны, налицо и уязвимые места нашей сегодняшней новой позиции. Во-первых, плохо, что все убеждены, будто имели место радикальные перемены в жизни нации-народа. Раз они уже произошли, есть возможность более ничего не делать, то есть не делать ничего существенного, а только «организовывать», поучать и т. д. В самом крайнем случае говорят о «перманентной революции», но и то в самом общем смысле: перманентная революция существует постольку, поскольку жизнь диалектична и жизнь есть борьба. Все это не имеет никакого отношения к настоящей борьбе.
Есть и другие уязвимые места. Но их не так просто указать: потребовался бы детальный разбор всей социальной структуры Италии. Дело в том, что большинство наших интеллектуалов происходит из семей крупных землевладельцев, которым жизненно необходимо, чтобы крестьянские массы оставались до крайней степени забитыми и подавленными. Когда настанет время переходить от слов к делу, это будет означать полное разрушение той экономической базы, которая держит на себе эти группы интеллектуалов.
Об «интересном» в искусстве.
Надо точно определить, что должно почитаться «интересным» в искусстве вообще и конкретно – в художественной литературе и в драматургии.
«Интересность», занимательность одних и тех же произведений различна для разных людей, разных социальных групп или публики в целом. Таким образом, «интересность» относится к сфере информации, а не к сфере творчества. Значит ли это, что «интересность» не имеет к искусству никакого отношения, что это чуждая искусству категория? Ведь искусство вызывает интерес и само по себе как насущная жизненная потребность. Или изменим вопрос так: коренное свойство искусства – вызывать непосредственный интерес; какие же конкретные элементы «интересности» содержит в себе каждое конкретное литературное произведение, будь то роман, поэма или драма?
Теоретически этих элементов бесчисленное множество. Но на самом деле их не так уж много. Как правило, это именно те элементы, которые прямо и немедленно влияют на непосредственную судьбу произведения, предопределяют его успех у различной публики. Конечно, специалист по грамматике, может быть, интересуется пьесой Пиранделло лишь потому, что хочет выяснить, каким образом Пиранделло вводит сицилийскую лексику, морфологию и синтаксис в итальянский литературный язык; но этот частный элемент «интересности» не обеспечивает пьесе Пиранделло существенного успеха у широкой публики.
«Варварские ритмы» Кардуччи вызвали интерес у значительного круга публики – у членов корпорации профессиональных литераторов и у всех, кто жаждал сделаться таковыми. Эта «интересность» имела уже больше значения для судьбы произведения: благодаря ей было распродано несколько тысяч экземпляров «Варварских стихов». Такие преходящие элементы «интересности» меняются в зависимости от исторической эпохи, культурной обстановки и конкретных личных пристрастий и антипатий.
Самый устойчивый элемент «интересности», это, конечно, неравнодушие нравственное: согласие либо несогласие. Устойчиво это нравственное отношение лишь как категория: его характер исторически в каждом конкретном случае меняется от позитивного к негативному, и наоборот. От нравственной позиции читателя зависит и другой элемент «интересности» – интерес к механике повествования, к тем способам, которые применяются, чтобы наиболее остро и драматично поставить нравственные вопросы. Интересно смотреть, как построен, с технической точки зрения, нравственный конфликт романа, поэмы, драмы: в драме будут наиболее интересны мизансцены, в романе – интрига и т. д. Эти элементы нельзя отнести исключительно к сфере «художественности», но нельзя и полностью оторвать от этой сферы. Все это часть истории культуры, и следует оценивать «интересность» именно с этих позиций.
Правоту всех этих утверждений доказывает опыт так называемой коммерческой литературы – немаловажной отрасли народно-национальной культуры. Ее «коммерческий» характер именно и приобретается благодаря тому, что элемент «интересности» по природе своей не связан с непосредственностью, спонтанностью, со спецификой художественного творчества, а вводится извне, механически и может быть искусственно дозирован. Тогда возможно заранее предопределить читательский успех произведения. В любом случае это означает, что, занимаясь историей культуры, не следует пренебрегать коммерческой литературой. Более того, именно с этой точки зрения она представляется наиболее значительным явлением, потому что успех коммерческой книги есть существенный документ «философии эпохи», зачастую – важнейшее и единственное свидетельство того, какой комплекс чувств и вкусовых установок определяет мировоззрение «молчаливого большинства».
Коммерческая литература – наркотик для народа, вроде опиума. Можно было бы разобрать с этой точки зрения такое произведение, как «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Это, пожалуй, самый наркотический из всех народных романов: какой простой человек не отождествляет себя с героем, вспоминая о несправедливых обидах от сильных мира и рисуя в своем воображении фантастические картины возмездия? Эдмон Дантес предлагает людям планы такого возмездия, опьяняет, возбуждает, создает альтернативу угасающей вере в почти не существующее теперь правосудие.
Ср. статью «Об интересном» Карло Линати («Либри дель джорно», 1929, февр.). Линати ставит вопрос: что же делает одни книги более интересными, чем другие? Ответа он не находит. И неудивительно: прямолинейный ответ на этот вопрос невозможен, по крайней мере такой ответ, какого ждет Линати. Он хотел бы найти это нечто, которое делает книги интересными, и писать (или помогать другим писать) эти самые интересные книги. Линами пишет, что в последнее время проблема интересного стоит «крайне остро», и так оно и есть, и это естественно. Ведь наблюдается довольно значительный всплеск националистических чувств; а значит, неудивительно, что с особой остротой встал вопрос, почему итальянские книги никто не хочет читать, почему они считаются «нудными», а «интересными» публика называет, наоборот, иностранные книги и т. д. и т. п.
Националистический всплеск продемонстрировал с особой силой, до чего итальянская литература лишена национальных черт, до чего она ненародна и до чего сильны в ней иностранные влияния. Испугавшись, мы спорим, разрабатываем программы, пытаемся помочь делу, но безуспешно. То, что нам было бы нужно, – это безжалостная критика нашей литературной традиции и полный ее пересмотр, нравственно-культурный переворот, который послужил бы рождению новой литературы. Но именно это-то и невозможно, так как националистический взрыв принял форму восхищения национальным прошлым. Поэтому Маринетти заделался академиком и в данный момент борется против макаронной традиции. Ср. статью Пьеро Ребора «Итальянские книги и их английские издатели» («Италия ке скриве», 1932).
Почему современная итальянская литература почти не имеет сбыта в Англии?* «Вот причины: неумение спокойно рассказывать, делиться наблюдениями, болезненный эгоцентризм, старческое помешательство на эротике, вдобавок – лексическая и стилистическая какофония. Многие наши книги написаны в духе такого мутного лирического импрессионизма, который бесит итальянца и приводит в замешательство иностранного читателя. Сотни тех слов, которые употребляют современные итальянские литераторы, нельзя найти ни в каких словарях, и никто точно не знает, что они должны означать».
«Хуже всего – дикое, с точки зрения англосакса, представление о женщине и о любви. Провинциальный полудиалектальный веризм, отсутствие лексического и стилистического единства». «Мы ждем книг европейского типа, а не избитого провинциального веризма». «По опыту я знаю, что иностранцы (а порой и соотечественники) воспринимают наши книги как хаос, как что-то резкое, почти отталкивающее, и вдруг среди этого попадаются восхитительные страницы, выказывающие глубокий и основательный ум». «Есть романы, книги, пьесы, пользующиеся значительным успехом, а между тем они безнадежно испорчены всегонавсего двумя, тремя страницами, или одной сценой, или даже одной репликой, вульгарной, плоской, омерзительной и непоправимой». «Факт есть факт зарубежным преподавателям итальянского языка, как бы они ни старались, не удается подобрать и дюжины хороших современных итальянских книг, в которых не было бы отталкивающе вульгарных страниц, оскорбительных для нашего достоинства, до невыносимости пошлых – в общем, таких, которые лучше не подсовывать умным зарубежным читателям. Наше отвращение к подобным пошлостям иногда уничижительно именуют „пуризмом“, хотя правильнее было бы называть это „хорошим вкусом“.
По мнению Реборы, иностранные издатели должны были бы глубже вникать в текущий литературный процесс и выступать не только как коммерсанты-промышленники, заниматься не только „критикой“, но вникать и в „социологию“ литературного труда, и т. д.
Статья Джузеппе Антонио Боргезе.
Ср. очерк Дж Антонио Боргезе „Смысл итальянской литературы“ („Нуова антолоджиа“, 1930, 1 янв). Какой-либо один эпитет или девиз не может передать весь дух эпохи либо народа, он послужит, скорее, напоминанием, мнемонической „подпоркой“. Так, говоря о французской литературе, достаточно сказать изящество, или ясность, логичность. Можно сказать и так благородная отвага анализа. Об английской литературе достаточно сказать лиризм подлинной проникновенности. О немецкой – дерзость свободы. О русской – отвага истины. И слова, которые мы употребим для характеристики итальянской литературы, того же ряда – величие, великолепие, роскошь». В общем, Боргезе приходит к выводу, что характер итальянской литературы – «теологически-абсолютистски-метафизически-антиромантический». Если же перевести все эти шаманские заклинания на обычный язык и разобраться, получится, что итальянская литература оторвана от реальной жизни итальянского народа, носит кастовый характер, не отражает исторического процесса – в общем, не является национальной, народной литературой.
Боргезе говорит о книге Руджеро Бонги «Почему итальянская литература в Италии ненародна» (Милан, 1873): «Автор и его друзья очень скоро обратили внимание на неправильность названия, но было уже поздно, потому что название этой книги в короткий срок превратилось в пословицу. А между тем ее следовало бы назвать иначе: „Почему в Италии не популярна итальянская проза“. Вот оно, уязвимое место итальянской литературы: проза, или даже лучше сказать (оставляя в стороне прозу как жанр с ее повествовательными ритмами) – чувство прозаического, идеал прозы. Вот чего нам не хватает: простого интереса, занимательности и наблюдательности, спокойно-любовного внимания к истории и к текущей жизни народа, к будущему мира, к неотвратимым, постоянным знакам Провидения».
Любопытен уморительный комментарий к приведенному чуть выше высказыванию Де Санктиса: «Он проследил, как итальянская литература развивалась в течение шести веков, а потом стал ждать, когда же она родится». На самом же деле Де Санктис ждал не рождения, а перерождения, обновления литературы, обновления итальянской нации, уничтожения разрыва между литературой и жизнью и т. д. Любопытно и поучительно видеть, что работы Де Санктиса остаются прогрессивными и по сей день, не в пример всяческим Боргезе современной критики. Боргезе пишет: «Малая ее (итальянской литературы) популярность, аристократический характер ее развития в отрыве от народа в течение стольких веков – все это объясняется не только ее приниженностью (!), еще лучше (!) это объясняется ее возвышенностью (как это – возвышенность в сочетании с приниженностью? – А Г), разреженным воздухом горных высот, в которых она парила. Нет популярности, но нет и вульгаризации, так исполняется девиз „Odi profanum vulgus et arceo“.[547]547
Презираю и прочь гоню невежественную толпу (латин.).
[Закрыть] Далекая от невежественной толпы, да и вообще от народа, эта литература родилась благословенной, и ее первым шедевром была поэма, которую сам автор назвал священной». Так говорит Боргезе. А между тем поэма названа священной – божественной, поскольку посвящена Господу, а какая тема по сути своей может по народности сравниться с темой Господа? Кроме того, в «Божественной комедии» говорится еще и о дьяволах, и об их «новой волынке».
Боргезе пишет также, что «политическая судьба, лишив Италию свободы и реального земного могущества, создала то, что на библейском языке должно бы быть названо „избранной нацией“».
Очерк этот заканчивается, с грехом пополам, рассуждениями о том, что характер итальянской литературы может измениться, должен измениться и так далее в подобном духе. Все это ужасно дисгармонирует с тезисами основного текста.
Взаимоотношения писателя со средой.
Паоло Милане пишет в «Италия леттерариа» от 27 декабря 1931 года: «Роль содержания в художественном произведении невозможно переоценить – так сказал Гете. Подобный афоризм мог бы прийти в голову всякому, кто размышляет об усилиях многих поколений (?), многого достигших (sic!) и до сих пор трудящихся во имя создания современной итальянской романной традиции. Какую среду, какой общественный слой им следовало описывать? Разве наиболее современные попытки не продиктованы стремлением выйти наконец из круга народных персонажей Мандзони и Верги? А неудачи и полуудачи – разве это не свидетельства поиска, разве не объясняются эти неудачи трудностями обращения с определенной повествовательной средой – с мирком бездельной буржуазии, ничтожных, пустых людей, никому не нужной богемы?».
В приведенной цитате прежде всего достойна внимания удивительно механистичная, неглубокая постановка важных вопросов. Да полно, могло ли так быть, чтобы поколения (!) писателей холодно и равнодушно прикидывали, какую бы им выбрать повествовательную среду, – и не выявили бы при этом во всей полноте антиисторичный характер своего творчества, эмоциональную и духовную бедность? А кроме того, нечего смешивать поиски повествовательной среды с поисками «содержания»: содержание зависит в первую очередь от отношения писателя, да и всего его поколения, к описываемой социальной среде. Это отношение, и только оно, определяет и формирует культурный мир поколения, характер эпохи, ее особый стиль. И у Мандзони, и у Верги главное не «народность» персонажей, а отношение авторов к ним, и это отношение, кстати, у двух названных писателей диаметрально противоположное. У Мандзони мы находим католическую снисходительность и полускрытую иронию – признаки отчуждения. Здесь нет глубокой, истинной любви к народу; отношение автора диктуется, скорее, внешними принципами, абстрактным понятием о долге правоверного католика: оживляется это отношение, как уже говорилось, иронией. Верга же относится к своим героям с холодной невозмутимостью анатома или фотографа – так предписывали каноны веризма, впоследствии рационализированные, усовершенствованные Эмилем Золя.
(Отношение Мандзони к народным персонажам крайне типично для подобной литературы: вспомним хотя бы Ренато Фучини. Чувства Мандзони возвышенны, но в своем творчестве он балансирует между снисходительностью и издевкой, а писатели второго ряда превратили такой подход в откровенное «брешианство» – иезуитство, дошли до глупейших издевательств над народом.
Итальянцы и роман.
Надо посмотреть выступление Анджело Гатти «Итальянцы и роман», частично перепечатанное в «Италия леттерариа» от 9 апреля 1933 года. Меня заинтересовало рассуждение о взаимоотношениях моралистов и романистов во Франции и в Италии. Французский тип моралиста сильно отличается от итальянского, который по природе своей политик. «Итальянец ищет приемы, позволяющие верховодить, казаться сильнее, ловче, хитрее; француз же стремится управлять. то есть постигать ситуацию, влиять на нее и добиваться от окружающих быстрого и охотного согласия». Пример – «Заметки о делах политических и гражданских» Гвиччардини.
И вот в Италии существует великое множество книг вроде «Галатео», в которых культивируется равнодушно-высокомерный тон «аристократического класса». Ничего похожего на сочинения великих французских моралистов (они оставили след лишь в литературе второго ряда, пример – Гаспаро Гоцци). Нет французского детального, тонкого анализа. Та же разница наблюдается и при сравнении французского романа с итальянским – убогим, поверхностным, начисто лишенным национально-народного содержания.
«Активная» национальная гордость итальянских писателей.
Отрывок из письма Уго Ойетти к Пьеро Парини о «кабинетных» писателях («Пегасо», 1930, сент.): «Почему же именно мы, итальянцы, распространившие по всему земному шару достижения нашего труда – и не только ремесленного труда! – расселившие по всему свету, от Мельбурна до Рио-де-Жанейро, от Сан-Франциско до Марселя, от Лимы до Туниса, наши многочисленные колонии, – почему именно мы не смогли создать литературу, которая отобразила бы наш быт и наши привычки на фоне быта и привычек тех разнообразных народов, среди которых мы волею судьбы живем, боремся, страдаем и которые часто во многом превосходим? По миру рассеяны представители самых разных сословий нашей нации – чернорабочие и банкиры, шахтеры, врачи, камердинеры и инженеры, каменщики и торговцы. А наша цветущая литература забыла о них – да она никогда их и не замечала. Известно, что не выстроишь ни драмы, ни романа без развивающегося психологического конфликта. А если так – где найти более глубокий, более жизненный конфликт, чем это столкновение наций, древнейшая из которых, обладающая более старинной традицией, более богатой культурой, оторвана от родной земли и не имеет другой опоры, кроме энергии и выносливости?»
К этому отрывку можно многое добавить и со многим поспорить. Начнем с того, что в Италии существует довольно обильная литература по вопросам эмиграции как экономически-социального феномена. Художественная литература в этом смысле не поспевает за научной. Но будущий эмигрант задолго до расставания с родиной, как правило, переживает какую-либо психологическую драму. Ладно, пусть писатели не интересуются своими эмигрировавшими соотечественниками; но не менее печально, что они не интересовались ими и раньше, пока они еще не уехали, не выясняли причин, вынуждающих людей покидать родину. Значит, этим писателям безразлична кровь и боль родной Италии, то социальное зло, которое в самой стране (а вовсе не за рубежом!) представляет собой массовая эмиграция. Впрочем, надо сказать, что скудна, суха и риторична не только литература об итальянцах за границей; настолько же малоубедительна и скудна вся литература о самих зарубежных странах. А для того, чтобы получилось так, как хочет Бетти, чтобы была должным образом освещена коллизия столкновения психологии итальянца-эмигранта и национальной психологии той страны, куда он попал, нужно, во-первых, обратить внимание на эти чужие страны, а во-вторых… на самих итальянцев!
Энрико Товез.
Размышляя о не-национальном, не-народном характере итальянской литературы, надо проследить всю историю особого направления в нашей литературной критике – направления, представители которого знали и обличали всю фальшь существующей традиции и традиционной напыщенной риторики, безмерно далеких от реальной исторической правды. В этой истории видное место займет Энрико Товез, автор книги «Пастух, его стадо и его волынка». Может быть, Товез и не во всем справедлив, но заслуживает внимания сам данный им сигнал тревоги, предупреждение о том, что не все так гладко, как кажется.
Проводимое им разграничение поэзии формальной и «поэзии содержания» не выдерживает теоретической критики. По его представлению, основная черта так называемой формальной поэзии – это пренебрежение к содержанию, то есть нравственная индифферентность. Но ведь эта индифферентность и есть своего рода содержание, выказывающее «духовную и нравственную опустошенность автора». Большей частью Товез нападал на Де Санктиса, не соглашаясь признавать его «преобразователем итальянской культуры». Голос Товеза, так же как голос журнала «Воче», имел большое значение для культурного климата предвоенных лет. Можно сказать, что эти две силы активнейшим образом (пусть не всегда последовательно) способствовали проведению культурной и духовной реформы.
Занимаясь Товезом, надо разобраться также в критических спорах, которые вызвала его книга. Некоторые важные замечания содержатся в статье Альфонсо Рикольфи «Поэт Энрико Товез и проблема воспитания художника» («Нуова антолоджиа», 1929, 16 авг.). Но этих замечаний слишком мало. Надо еще посмотреть статью Преццолини «Товез, или Провозвестник».
Джованни Чена.
Личность Джованни Чены заслуживает интереса с двух точек зрения. Можно воспринимать его как литератора, народного поэта и писателя (при этом сравнить с Адой Негри), а можно – как человека практического действия, борца за крестьянское образование и просвещение народа, много сделавшего в этой области (например, школы в Агро Романо и Понтинских долинах, основанные им вместе с Анджело и Анной Челли).
Чена родился в Монтанаро Канавезе 12 янв. 1870 г. Умер в Риме 7 декабря 1917 г. В 1900–1901 гг. был корреспондентом журнала «Нуова антолоджиа» в Париже и Лондоне. С 1902 г. до самой смерти – главный редактор этого журнала. Ученик Артуро Графа. В сборнике Джулио Де Френци «Кандидаты в бессмертие» приводится автобиографическая записка Джованни Чены.
Очень любопытна статья о Джованни Чене, написанная Арриго Кайюми, – «Загадочный случай Джованни Чены» («Италия леттерария», 1929, 24 ноября).
Вот несколько отрывков из статьи о Чене: «Чена родился в 1870-м, умер в 1917 году. Он представляется одним из основных участников того духовного процесса, который охватывал значительную часть нашей буржуазии и представлял собой некую запоздалую вариацию определенных процессов и определенных идей, имевших место ранее во Франции и в России. Отчаянная и искренняя преданность Чены „народной идее“ во многом объясняется его пролетарским происхождением (а разве не крестьянским? – А. Г.) и годами молодости, проведенными в нищете. Самоучка, чудом вырвавшийся из тупой затхлой жизни провинциального городка, чудом освободившийся от отупляющего ежедневного физического труда, Джованни Чена, сам того не зная, действовал в русле крупной общественной традиции, основоположником которой были Прудон (?), а затем – Жюль Валлес и парижские коммунары. Эта традиция включает в себя и „Четыре Евангелия“ Золя, и дело Дрейфуса, и народные университеты, и деятельность Даниеля Голеви, а в наше время она развивается в трудах Жана Геэнно (!) (а я бы сказал – Пьера Доминика и прочих! – А. Г.) Эту традицию определяли как „хождение в народ“». (Здесь Кайюми использует для объяснения истории терминологию сегодняшнего дня, девиз популистов народников. Это не правомерно, так как во Франции со времен революции и вплоть до Золя не было никакого разрыва между интеллигенцией и народом. Вопрос о «сближении с народом», таким образом, просто не вставал. Пропасть между народом и литературой, между литературой и жизнью разверзлась единственно по вине символистской реакции. Законченный образчик кастового, «книжного» писателя – это Анатоль Франс).
«Чена влился в традицию „народников“, но он и сам происходил из народа, и в этом его уникальность (!). Однако он действовалвсе на том же старом „поле битвы“, на котором успешно утверждался социализм промполиниевского типа. Это было второе со времен объединения Италии поколение мелкобуржуазной интеллигенции. Исчерпывающую хронику жизни первой генерации дал Аугусто Монти в своем „Сан-Суси“. Это поколение чуждалось политической линии консервативных господствующих классов, его литературные ориентиры – Де Амичис, Стеккетти, Кардуччи, но никак не Д'Аннунцио, образцом для подражания был Толстой, но не Толстой-художник, а Толстой-философ. Это поколение открыло Вагнера, питало неопределенные симпатии к символистам и к социальной поэзии (как? к символистам и к социальной поэзии одновременно? – А. Г.), стремилось к вечному миру, упрекало правительство за недостаток идеализма и очнулось от своих грез, только когда громыхнули бомбежки 1914 года». Все это рассуждение мне кажется ужасно растянутым и манерным.
Выросший среди жутких лишений, Чена, сознавая двойственность своего положения, не причислял себя ни к буржуазии, ни к народу. Он писал: «Когда я вспоминаю, чего мне стоили, как мне давались образование и ученые степени, мне становится страшно и я стараюсь все забыть. Но если я чувствую, что способен простить все это, значит, я настоящий победитель». «Я в глубине души сознаю, что только литература, вера в ее очищающую, освобождающую власть спасла меня, не позволила сделаться вторым Равашелем».
В первом наброске «Предостерегающих» у Чены самоубийца бросался под королевский автомобиль, но из окончательного варианта Чена этот эпизод убрал. Вот что пишет Кайюми: «Чена подходил к социальным проблемам как ученый. Ему, в отличие от Кроче, Миссироли, Жореса, Ориани, были чужды глубинные чаяния пролетариата итальянского Севера, он, как крестьянин, не мог понять жизнь рабочего класса. В Турине он вел себя враждебно по отношению к журналу, выражавшему настроения либеральной буржуазии социал-демократического толка. Профсоюзная проблема тоже его не коснулась, он ни разу не упоминает имя Сореля. Его не интересовал и модернизм». Эти фразы наглядно демонстрируют, до чего же поверхностной была политическая подготовка Кайюми. Ведь Чена до мозга костей пролетарий, крестьянин, представитель народа. Кайюми говорит о «Стампе» как о газете социал-демократов, более того, он утверждает, что туринская буржуазия исповедовала социал-демократические убеждения, в этом он напоминает некоторых сицилийских так называемых политиков, которые то и дело основывали демократически-социалистические или даже лейбористские (трудовые) партии. Кайми ловится на приманку смехотворных публицистов, которые охотно сервируют публике слово «социал-демократизм» под тысячью всевозможных соусов. Надо бы напомнить Кайюми, что туринская «Стампа» в довоенные годы была еще правее, чем «Гадзетта дель Пополо», орган умеренных демократов. А кроме того, конечно, прелестно и сближение Кроче, Миссироли, Жореса и Ориани как видных исследователей социальных проблем.









































