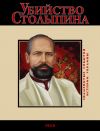Текст книги "Столыпин"

Автор книги: Аркадий Савеличев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
VII
Что-то Петербург стал слишком пристально присматриваться к губернатору Столыпину. Плеве прислал краткую, но внушительную телеграмму: «БЛАГОДАРЮ МНОГИЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИНЯТЫ». Всесильный фаворит, министр финансов Витте, сделавший карьеру еще при Александре III, уже без обиняков правительственной депешей сообщал:
«Под моим непосредственным руководством и с одобрения Его Императорского Величества, начинает работу «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». Честь имею предложить: 1) возглавить губернский комитет этого Особого совещания; 2) войти полноправным членом-консультантом в руководящее Бюро вышеназванного совещания.
Ваши познания о нуждах крестьянской России не оставляют сомнения, что Вы будете весьма полезны при реформировании главной хозяйственной отрасли нашей.
Надеюсь, уважаемый Петр Аркадьевич, на полное Ваше взаимопонимание и поддержку всех добрых начинаний».
Это было посерьезнее, чем предложения министра внутренних дел…
Разговаривать с Витте доводилось, но Столыпин прекрасно знал постулаты этого удивительного человека. Он железной рукой поддерживал закон от 14 декабря 1893 года, запрещавший, с некоторыми неисполнимыми оговорками, выход из крестьянской общины, в то время как нынешний губернатор и в Ковно, и здесь всячески подчеркивал будущее хуторского, по сути прусского земледелия…
Как совместить несовместимое?
Сергей Юльевич Витте попал на глаза царю, когда был простым чиновником Юго-Западной железной дороги, но настырным и дерзко бесстрашным. Как раз в разгар Балканской войны. Железную дорогу до границы выстилали шпалами как обычную мостовую; некогда было, по примеру немцев, готовить металлические шпалы. Да и зачем? Эк лесу-то в России! Сосновые, несмоленые чурбаки пластали прямо по зыбкому песку, в то время как Германия использовала крепчайший гравий. Когда было возиться с гравием российским генералам?! Быстрее, быстрее перебросить войска в Болгарию… Отец-генерал рассказывал, что эшелоны с его корпусом ехали истинно под молитву: «Сохрани и помилуй, Господи!» Опаснее, чем на турок в штыки идти: там хоть твердая земля, а здесь вагоны мотало, как телеги какие. Ржавые колеса скрежетали на ржавых, кое-как набросанных рельсах. Езда была смерти подобна!
Молодой инженер Витте, только что назначенный на эту дорогу, убавил скорости «до говновозного лошадиного шага», как ругались защитники Балкан, не получая вовремя подкреплений. Более того, он высадил на одном полустанке кавалерийский полк, как раз из корпуса генерала Столыпина, и принудил уже настоящим лошадиным шагом скакать на войну. Что, новый военный министр объявился?! Главнокомандующий?! Покойный отец смеялся: «Как его только саблями не изрубили!» Кроме драгун и гусар, дело-то приходилось иметь с великими князьями да и с самим императором, который той же дорогой добирался до Балкан. Над шумливым железнодорожником навис военно-полевой суд… но как всегда в России – пока суд да дело, Александру III вздумалось разогнаться на хлипкой дороге «на всю катушку»; тихо ездить он не любил. И тут, под Харьковом, какой-то железнодорожник задерживает царский поезд и предписывает дальше следовать «согласно установленным скоростям». А кто и что может «установить» императору?! Заслушав неподобающий шум на одной остановке, Александр III самолично вышел из своего вагона и мощным плечом растолкал свиту, окружившую настырного железнодорожника.
– Кто таков? Почему стоим? Почему держат мой поезд?!
Вместо того чтобы пасть ниц, плюгавый железнодорожник ответил:
– Потому, ваше императорское величество, что при таких скоростях я не могу гарантировать вашу безопасность. Крушение неминуемо. Поезд слишком тяжел, два паровоза к тому ж…
С императором следовали и министр путей сообщения, и министр двора, и генералы. Оплеуха была убийственна:
– Никаких ограничений! А с этим… – указал на глупого железнодорожника, – разберитесь достохвально!
И разобрались бы, припомнив кавалерийский полк…
Да недалеко ушел поезд – два мощнейших немецких паровоза на беспредельной скорости вдребезги разворотили наскоро уложенный путь…
Император со всей свитой как раз изволил кушать знаменитую гурьевскую кашу, как…
…вагон вздрогнул…
…встал на дыбы…
…гурьевская каша вместе со сливками полилась на роскошные прически дам…
…кому щепки в «причинное место»…
…кому ножка стула в лицо…
…визги…
…стоны…
…крыша вагона осела на весь золотоносный муравейник…
Император, при своем богатырском росте, держал на плечах эту погибельную крышу.
Мертвых убрали, раненых перегрузили в спешке присланные из Харькова другие вагоны. Речь государя была на удивление спокойна и покаянна:
– Предупреждал же меня этот железнодорожник! Нет, не послушался.
И в добавление:
– Найти и доставить ко мне!
Так начался немыслимый взлет Сергея Юльевича Витте – вначале начальником Петербургско-Московской железной дороги, потом министром путей сообщения, а теперь и министром финансов.
Как было не знать Столыпину столь примечательного фаворита! Сменился царь-государь, поменялся двор, а фавор, кажется, остался и при сыне Николае…
Это был уже не тот железнодорожник, что, к ужасу придворных, перечил богатырю-государю. Да и государь оказался другим; ему дела не было ни до крестьянских общин, ни до крестьянских хуторов. Всеобщее «успокоение» требовалось; тишь да благодать!
Но кому «благо дарить»?!
VIII
Гуляя вокруг дворца по островному парку, связанному с городом лишь узким виадуком, – истинно запоздалая мысль о рыцарских замках! – Столыпин пытался и на придорожном песке некий новый замок возвести. Нога часто останавливалась и чертила носком лакированного, легкого полусапожка странные чертежи. Дома. Изгороди. Сараи. Погреба и амбары. Коровьи стойла и курятники. Бани и рыбацкие тони… Чушь какая-то… И самому непонятная. Тем не менее в походном блокноте рука, сегодня совершенно здоровая, чертила карандашом вполне понятный ответ царскому любимцу:
– Извольте знать, Сергей Юльевич? Первое: расселение крестьян на пустующие земли, стало быть, на хутора…
– Второе: ликвидация нынешней чересполосицы, при коей Юрасю приходится прыгать через Петра, а Петру через Миколу…
– Третье: болота, кочки, чертомыжник! Стало быть, нужны кредиты для мелиоративных работ по всей губернии…
– Четвертое: не полагаясь на общину, которая здесь в самом скверном состоянии, следует обратить всемерное внимание на земледельческую кооперацию, каковая уже доказала мне свои привилегии в Ковенской губернии…
– Пятое… и далее: улучшение сельхозорудий и закупка, с последующим собственным производством, новейших сельскохозяйственных машин…
…внедрение многопольных севооборотов, чтоб картошку десятки лет не сажали по картошке, а жито не сеяли бы веками по житу…
…стало быть, я говорю о сельскохозяйственном образовании крестьян, без чего ни один пункт моей программы не будет исполним. Гродненская сельскохозяйственная школа моими заботами может быть прообразом и для всей остальной России…
Эта школа возникла еще до него, но вела нищенское существование. Он, побывав там, назвал ее «крестьянским университетом».
Увлекшись, обещал и деньги сыскать в нищем губернском бюджете. Но самому с горькой усмешкой виделось: грошики для этого «университета» достанет из собственного кошеля… Как подтверждал опыт всех его прошлых начинаний.
Что? Кто-то хочет возразить?..
Недреманное око, наделенный правом беспокоить губернатора в любой час и в любом месте, бежал от канцелярского флигеля.
– Петр Аркадьевич! Из Новогрудка телеграфируют! Там холопы захватили две шляхетские усадьбы и грозят сжечь, если паны не вернут якобы захваченные некогда земли!..
– И что?
– Я послал вестового к полицейместеру. Десяток конных, наверно, соберет, тут недалеко, к утру успокоят.
При объезде губернии Столыпин был и в этом маленьком, но древнем городке. Прекрасное место. Прекрасно угощала местная шляхта.
– Кто?
– Жечь хочет?..
– Землю кто захватил?
– Так из богатых там только двое и есть, сами видели: пан Скорняковский да пан Столповский…
– Телеграфируй от моего имени обоим: землю вернуть… пообещать по крайней мере … до судебного выяснения и для ихней же собственной пользы…
– Но, Петр Аркадьевич, инцидент очень…
– Очень нехорош! Телеграфируй.
Какая теперь вечерняя прогулка? Какие возражения сидящему где-то в Петербурге Витте?..
Но сердиться в роскошном парке, при таком тихом принеманском окружии не хотелось. Хорошую жизнь здесь пытался устроить себе Станислав Понятовский. Мыс, вдававшийся в Неман, с тылов был огражден глубоким оврагом с проточной, чистой водой, только каменный мост-виадук и связывал короля с городом. А губернатора?..
Губернатор – все-таки не король. Ходи да гадай на кленовом листе – сожгут или нет пана Скорняковского купно с паном Столповским! Он которую уж ветку ободрал, отмахиваясь от комаров. От них ли только?..
– Пан-злыдень. Зачем же раслины ганьбить?..
Вот ее только и не хватало!
Он оглянулся:
– Милая Алеся, я не в духе.
– Что, пани Вольга нехорошую письмову прислала? – не обратив на слова внимания, подошла учителка.
Он вынужден был остановиться. При его широком шаге учителке пришлось бы бежать за ним вприпрыжку.
Что-то новое, видимо, в его лице отразилось. Вечер еще был светел и ясен. Или у молодых учительниц слишком зоркое зрение?..
– Ах, Алеся, Алеся… – совсем не то сказал, что следовало. – И пани Ольга, и дочки – все в порядке. Беспорядок у меня-старика, вот тут… – постучал по груди, прикрытой белым летним сюртуком.
Алеся залилась смехом:
– А наша «Гродненская газета» сёння отписала, что вы самый малодший губернатор во всей империи!
– Да? – неприкрыто заинтересовался губернатор, который газеты еще не читал, обычно перед сном этим занимался.
– Да, Петр Аркадьевич. Чым же вы не здаволены?
– Тем, что мне именно сорок лет! Что гулять в обществе молоденькой дивчинки вроде бы уже и стыдно… Тебе-то есть ли хоть двадцать, Алеся?
– В будучем годе буде, Петр Аркадьевич, вы не сумуйтесь…
Трудно сказать, что бы он ей ответил… но все тот же Недреманное око!
– Пани Алеся, что-то не идут у нас уроки! – на нее, как на себя, великорослый ученик воззрился с укором.
– Не идут, пан губернатор, – и она себя, как в зеркале, отразила. – Боже даст, завтра. Да спаткания!
Алеся отошла.
– Что еще, капитан?.. Впрочем, я давно уже полковнику Лопухину отписал, чтоб он там ушами не лопушил. Негоже главному губернаторскому охранителю быть в капитанах! Что еще, майор?
Капитан-майор замялся, но говорить-то надо:
– Скверная должность у меня – портить вам настроение!
– Ничего, порти. Что?..
– Телеграмма из Колноберже. – Он протянул телеграфный бланк. – Не стоило бы столь открыто извещать, бунтарям в угоду, но ваш управляющий… Не темно? – обрывая разговор, покосился на вечернюю зарю.
Столыпин выхватил бланк. Верно, слишком уж открыто: СОЖЖЕНО ПОМЕСТЬЕ ПШЕБЫШЕВСКОГО ОН ПОДОЗРЕВАЕТ НАШИХ ОХРАННИКОВ ТОЖЕ ГРОЗИТ ОГНЕМ Я ОХРАНУ УСИЛИЛ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ КАКИЕ БУДУТ УКАЗАНИЯ?
– Давай, майор, посидим, – указал он на беседку. – Самое лучшее указание. Кликни, чтоб принесли сюда чего…
Долго ли кликнуть, когда там и сям виднелись темные силуэты помощников охранителя. Как ни противился Столыпин, тот отвечал: иначе нельзя, вам по штату положено двадцать моих молодцов, единственное, что можно сделать, – одеть их в цивильные кунтуши.
Верно, жандармские мундиры не портили вечерний пейзаж. Просто городские шляхтичи собирались на городскую вечерку, важным панам не докучая.
Беседка стояла на крутом мысу, где проточный овраг соединялся с Неманом. Заря еще играла бликами на легкой волне. Из-за неманских лугов легкий туманец наплывал. И беседа, как прибежали слуги с подносами, поначалу была легкая. Хозяин замковой горы словно позабыл о телеграмме, новоиспеченный майор не напоминал. Но что-то надо решать?
– Надо бы мне самому, да как сейчас уедешь? Вся шляхта собралась на совещание. Увеселиловка! В неделю не успокоятся. Как там моя учителка сказывала?..
Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудець?
Мой сынок в колысце
Як бычок равець…
– Не поется что-то. Может ты, майор?
– Куда мне, Петр Аркадьевич! Говорите, ехать в Колноберже?..
– Да я еще ничего и не говорил.
– Само собой разумеется. Здесь оставлю заместителя, а туда остолопа какого не пошлешь.
– Остолопа не надо. Я за своего управителя опасаюсь. Горяч больно…
– Ну, Петр Аркадьевич, маленько остужу.
– В таком случае не будем засиживаться. До ночного поезда не больше часа.
– Ничего, успею.
– Давай на посошок, как говорят. – Он сам подлил в бокалы. – С Богом, майор!
Не хлипок телом, а тихо уходил охранитель. Через минуту и шагов его не слышалось.
Хозяину дворца, для пущей важности названного замком, оставалось убираться восвояси да слушать шорохи старого паркета…
Шорохи были странные в эту ночь, под какой-то утомительный, вещий сон. Бог не часто баловал Петра Аркадьевича сновидениями, а тут – нате! Наслаждайтесь и услаждайтесь! Право, ведь и сны бывают ироничными.
Шорохи в некий голос обернулись. Не то мужской, не то женский… может, кошачий?.. Много тут кошек в старом дворце приют нашло; иногда веселыми концертами слух услаждали. Хотя не март же…
Он не страдал галлюцинациями. Вся жизнь проходила в счастливом и зримом естестве. Стыдно, но немного посмеивался над матерью, которой под старость все больше и больше снились Балканские горы, красные фески, обезглавленные русские офицеры, молодые болгарки с распоротыми животами… В последние годы мать постоянно слышала какие-то шаги, шаги…
Здесь выходило даже явственнее. Старый паркет обижался на свою долю. Но кому что предназначено. Петр Аркадьевич умудренно посмеивался. Даже будучи беззащитным на своей кровати, страха он не испытывал. Перед кем, перед Понятовским? Пусть и на том свете молит Бога, что генеральс-адъютант Александр Столыпин доставил его в Гродно со всеми королевскими почестями и поместил отнюдь не в тюрьме – во дворце, построенном на денежки юной пассии Фике, ставшей потом Екатериной, да еще и Великой. Сама она ни раньше, ни позже здесь не бывала, следовательно, не бывало в этих стенах и ее шагов. Да и не могла же гордая самодержица доверять паркету босые ноги. А что были они босы – не оставляло сомнения. Пальчики щебетали, что птички небесные. Пугливы и осторожны! А если не птичка, так балерина на этих пальчиках ступала! Хотя какой балет!.. В Гродно не было балета, а заезжие артистки топали, как кобылицы. Право, не спал же Петр Аркадьевич, если рассуждал столь здраво. Но шаги, которые приближались к его постели, перебивали всякие рассуждения, затирали мягкими стопами. Бархатными, что ли? Невесомость, ночная песнь под ногами… ножками их следовало назвать! Петр Аркадьевич понимал: стоит самому встать на ноги, как все и разъяснится. И незачем ломать сонную голову. Здесь не было губернатора, лежал на мягком, превосходно взбитом пуховике усталый барин, да что там – голос, голос, обратившийся в игривую песенку. Слов он не мог разобрать – одна звенящая верхняя нота. Упоительная, как восходящее солнце. Долго ли ему восстать из вод Немана при такой-то короткой летней ночи? Как и ему самому – встать наконец с пуховика. Ведь песнь ночная уже здесь, у самого левого уха, – спал он на правом боку, все верно. Неуж слух притупился иль заспался? В самом деле, можно бы и понять, о чем ему напевают. Да и узреть нечто знакомое, в горячей плоти. Он приказывал с вечера приоткрывать огромные, трехъярусные окна, чтоб прохлада неманской рекой текла в огромную спальню. Здесь рота солдат уместилась бы, а ему приходилось коротать ночь одному… Где-то Ольга, где-то дочки? Хотя не может быть, чтоб он пожаловался на одиночество – в ответ на тихую, печальную песнь. Она объяла его всей своей усладой, она обнимала, как невеста. Как же, он не забыл эти, первые, объятия! От них рождаются детки… Стыдно подумать… но не было стыда, не было. Он видел все, он во все глаза смотрел, как песнь обретала ясные женские черты. Белоснежные, никогда не видавшие солнца. «Боже правый!.. Пой, пой!» – кажется, шептал он, вовсе не рожденный для таких песнопений. Дело его было – кого-нибудь ругать или улыбкой величественной награждать – не смеяться же оглашенно! Радость распирала все его большое, раздобревшее тело. Теперь, в легкой ночной рубашке, он понимал, как нелеп бывает в губернаторском сюртуке, с Анной на шее, тем более в золотом камергерском мундире. Вот чего стыдиться нужно – мундира, любого мундира. Чего же стыдного в том, что песнь мягкими волнами плещется по его неприкрытой, волосатой груди?
Под песенку обоюдную
Чаму ж мне не пець,
Чаму ж не гудець?..
Что? Он сам уже поет? Да не может того быть! Никогда не певал. Разве что накануне вечером что-то пробурчал ускакавшему на пожарища майору. Пожарников впору и сюда присылать, потому что постельные пуховики слишком горячи для губернаторских телес. Он ведь уже кричит что-то, о чем-то просит? Ну, конечно, заливайте, заливайте водицей!.. Но почему пожарники принимают вроде бы женское обличье? Он руки, как крылья, распахнул, силясь затушить, замять, затоптать непотребный пожар. Могут гореть помещичьи дома, но не губернаторские же спальни!
Право, не слушают. Раздувают и без того нестерпимый пожар. Так толстобокая кухарка фукает в самовар, чтоб барин поскорее чаю напился. Ему же чаю не хотелось – воды холоднющей, неманской. Да и какие в этом доме кухарки? И на кухне, и в столовой одни мужики, разве что постель дочкина нянюшка, вызванная сюда из Колноберже, стелет со всем своим усердием. А тут этой песенке, принявшей девичье обличье… да ей самой нянюшка нужна! Или такой вот грубовато-волосатый нянь?..
Никогда Петр Аркадьевич не плакал, тем более в ночи, но кто-то же ласково осушал ему глаза? Пожалуй, нюни, как у несмышленыша какого. Это было смешно. Он, наверно, смехом захрюкал… розовобрюхий поросенок! Да, под нож идущий поросеночек. Уму непостижимо! Кто ж его может тронуть ножом?! И глаза-то утереть – с извинительным взмахом ресниц. С припевом каким-то, который был тише заснувшей внизу под обрывом неманской волны. Он гладил набегавшие волны освеженной рукой… и не мог нарадоваться наступившей тишине: вдруг улеглась волна-волнушка, да и все. Тихо трется, торкается под бочок, тоже утомясь от ночной возни. Но ведь утро и должно быть тихое?..
Обязательно тихое и счастливое.
Он оглядел сорванную с пуговиц ночную рубашку. Непорядок. Китайский шелк не любит, чтоб его драли, как холщевик. Уж не заболел ли он, чтоб в беспамятстве раздирать грудь?
Никого не было. Слуги, разумеется, без зова не входили. Лишь выкупавшееся в неманской воде солнце, прямо и бесстыдно заглядывало в приоткрытые окна. Оно с явным интересом взирало на очнувшегося после сна губернатора. Петр Аркадьевич?.. Ай-яй-яй, надо одеваться.
Он позвонил камердинеру, так и не придумав, что сказать в оправдание постельного беспорядка. Медведи здесь валялись, не иначе.
Но когда камердинер вошел, все необходимое само сказалось:
– Не здоровится, мой друг. Плохо спалось. Кошмары какие-то… В жару метался…
– Доктора прикажете?..
– Ага, прикажу… кофе в постель! Поваляюсь еще малость. А там подумаем, нужен ли доктор.
Пока камердинер занимался своими делами, он, уже совсем проснувшись, голосом вполне губернаторским себя посек:
– Дурак… ой, дурак! Доктора ему нужно! Батьку-генерала, чтоб приказал выпороть на плацу…
Кое-как, маленько оправил вокруг себя постель. А порванные пуговицы… да просто поглубже запахнуть рубашку, и вся недолга.
Так и сделал.
Мало ли какая дурь нахлынет во сне! Слугам ни к чему глазеть на беспорядки. Барин решил поваляться в кровати. Только и всего.
IX
За лето 1902 года много больших и малых событий произошло в Гродно. Главным было – возвращение семьи из Германии.
Накануне Петр Аркадьевич своим губернаторским распоряжением установил себе отпуск, – конечно, поставив в известность министерство – и с середины августа по середину сентября провел в Колноберже. Он, кажется, отвык от семейной жизни и все воспринимал заново. И беготню сильно подросших малышек, и молчаливый, замкнутый образ старшенькой, Маши, и помолодевшие ласки идущей к сорока годам Оленьки. В полную-то силу ощутил все это, когда семья перебралась в Гродно. Дочки не могли набегаться по парку, – запоздалое бабье лето разгульно забирало свои права и носило их на оперившихся крылышках. Ольга, облюбовав на втором этаже огромного дворца жилое крыло, обставляла его со всей женской роскошью, сбивалась с ног. Вечером валилась в постель с неизменной усталостью:
– Ой, Петя, ноги отваливаются! Руки прямо не мои!..
– Чьи же, Оленька? – целовал он работящие руки.
– Машкины, Глашкины да вот Алесины…
– Ну, не самой же таскать диваны и навешивать гардины!
– Не самой?.. Забудь показать, как надо, так все сикось-накось перемешают. Кровать в новой спальне – прямо к окнам задвинули. Да еще и рамы на ночь раскрыть норовят. Страх какой! Ругаюсь, если твой старый слуга говорит: барин, мол, так любит, и на первом этаже открывал… А? Что еще любит наш барин?
Петр Аркадьевич чувствовал, что Ольга подбирается к чему-то очень важному для нее. Только не мог понять, с чего и почему.
Выяснилось в самом скором времени.
Нянюшка Алеся… та, прежняя… на правах мамки пятилетней Ары влетала, конечно, без доклада. Чаще всего в погоне за своей неуемной воспитанницей, которая не понимала, что родителям и без нее побыть хочется. Не очень-то понятлива была и сама мамка – почти что ровесница Маши. Хоть и неурочное время, а прибегала в слезах:
– Арабский меня дразнит, поет…
– Так прекрасно! – приходилось нарушать вечернюю идиллию. – Что поет-то?..
– Ой, стыдно, Петр Аркадьевич! Старшенькие про меня вирши сочиняют, а моя милая набарака певунчики пускае…
– Чего же лучше! – благодаря здешней Алесе он уже понимал белорусские словеса.
Эта Алеся заливалась еще пуще:
– Да вы послухайте, Петр Аркадьевич… Ольга Борисовна!
– Слухаем! Слушаем! Давай, сказительница, – вперебой смеялись муж и жена, уже готовившиеся ко сну – она в пеньюаре, он во шлафроке.
Алеся дулась своим смазливым личиком, но под взглядом барина начинала:
Коля с Алесей
Гуляют по лесе…
– И прекрасно! Когда ж и погулять, как не в двадцать лет?
Она останавливалась, умоляя не требовать продолжения. Но взгляд барина требовал того, да и барыня не заступалась, заинтересованно посмеивалась. Приходилось доканчивать:
Алеся с Колей
Все болей да болей…
Какой уж сон под такой-то смех!
– «Все болей?..»
– Ах, милая, так и бывает – волей-неволей…
Алеся бросалась в оправдание:
– Я ж не виновата, что они подсматривают. Стоит за сорочкой или салфеткой для мурзаки Ары отлучиться, так…
– В лес за салфеткой-то? – заходился благодушный барин, а барыня уже материнский гнев поднимала:
– Ну, я им посмотрю! Я им трусишки-то задеру да постебаю как след быть!..
– Это Лену-то? Наталью?.. Им уже за десять перевалило. Побойся Бога, мать, тоже в невесты идут!
Верно, в детской оставались только две последние: Ольга да Арабский-Александра. У старших предшественниц был уже свой девичий будуар, а семнадцатилетняя Маша вообще жила на положении невесты, с собственной прислугой. Ей было не до дразнилок – этим занимались Ленка да Наталка. Ох, стихосказательницы!..
Но в душе отец радовался: мало что взрослеют, так еще и умнеют. Эк стишатки какие!.. Прямо хоть сейчас в девичий альбом.
– Ладно, Алеся, ты сама-то хоть слезы утри.
– Утру, Петр Аркадьевич. Вот те крест!..
Забавно она по сущему пустяку крестилась. Его самого в детскую наивность бросало…
После одной такой неурочной жалобы бросило уже и в похвалу Алесям – одной и незаметно другой:
– Белорусы любят сочинять да что-нибудь выдумывать. Наверняка сама же Алеся и напевает им разные словечки. Меня и то, мать, заразила здешняя «мова». Даже вздумал «размовлять» по-гродненски…
– …и тоже с Алесей? С учителкой-то? – как насквозь прошила взглядом Ольга.
– Ну да, без учителей «немагчыма», как здесь говорят… – с чего-то заволновался Петр Аркадьевич.
– И всех учителей почему-то Алесями зовут? – смеялась, но с колючим подвохом, Ольга. – Хоть познакомил бы. Может, и я чему-нибудь научусь.
Нет. Тут женской шуткой уже не пахло.
– Оленька, что-то я тебя не понимаю?.. С удовольствием познакомил бы, да та учителка, говорят, в Минск уехала…
– Ай-яй-яй! Что, минского губернатора теперь учить? Поди, неплохо учит? Как тут у нас: «Петя с Алесей гуляют по лесе…» Тоже ведь в рифму. Тебе не кажется, Петечка?..
– Кажется, Олечка! Продолжению такого разговора свечка мешает! – смахнул он канделябр с тихого вечернего столика.
Грохот, наверно, подтолкнул к дверям дежурного слугу:
– Ваше сиятельство, Петр Аркадьевич, темно?..
– Ничего, Петрович, неловко затушил… Да ведь все равно спать. Ступай.
Слуга бесшумно ретировался, а Ольга пришла в ужас:
– С девяти часов заваливаться в постель?!
– Вот именно, заваливаться! – подхватил он ее на руки. – За такие разговоры завалю-ка я…
Никогда он так не бросал Ольгу на кровать, да еще в полной темноте. Она даже вскрикнула:
– Ой, Петр!.. Что ты делаешь?!
– Сына! – рванул с милых, ревнивых плеч совершенно ненужный вечерний шелк.
Попавший под ногу стул отлетел с неменьшим грохотом, чем подсвечник. Но слуга больше не совал носа в дверь. Поди, думал: «Господа шалят, а нам какое дело?..»
– Сына, Олюшка… – уже мягче уминал ее в прежние, холостяцкие пуховики. – Забыла свой долг? Мой долг забыла?..
– Не забыла, Петечка… только ради бога не ломай меня, старую…
– Старость? Какая старость! На младость ее поменяем. Будешь еще поминать Алесю?
– Не буду, Петечка, Бог с тобой…
– И я немецкого принца поминать не буду… Бог наш!..
– Принца!.. Какие принцы… при пяти-то дочках? Побойся Бога, он все знает, все видит…
– Вот именно: Бог с нами… с дураками! Отсчитывай девять месяцев и молчи. Не то развод.
– Развод? Петечка? Очнись!
– Не могу, Оленька. Соскучился.
– А уж я-то, глупая…
– Молчи. Молчи, говорю!
А что делать ночью, как не молчать, когда и в полной темноте все ясным-ясно?
Но в таком счастливом единении Бог недолго пробыл вместе с ними. В декабре, когда вся семья прекрасно устроилась не хуже польского короля Станислава Понятовского, – занявшего его дворец губернатора опять вызвали в Петербург. Цель командировки была ясно указана: совещание в Министерстве внутренних дел. Дело обычное. Разве что совещание-то проводили не император, не Сенат, а жандармерия вкупе с сыскной полицией. То есть Плеве и Лопухин. По России пылали уже помещьи усадьбы, бастовали рабочие, с жиру ли, нет ли – бесились студенты, копошились в черте оседлости евреи, а служивых людей опять отстреливали, как зайцев.
Уезжая домой, он сказал Алешке Лопухину:
– Как хорошо, что на моей Гродненщине тишь да благодать. Я даже евреев успокоил, а уж шляхту – и делать нечего! Живут как за пазухой. Так разве, изредка где полыхнет. Рабочие?.. Какие у нас рабочие?! Люди да людишки, ксендзы да евреи. Знаешь, на каждого православного приходятся два иудея. Вот те и белая Русь!
– Черта оседлости. Скученность, безделье. Лишних своих людишек они и отрыгивают во внутренние губернии. За тебя расхлебываем.
– Ну, до тех горящих губерний мне нет никакого дела!
– Как знать, Петро, как знать… – дьяволом-искусителем посмотрел на него полицейски заматерелый друг.
Столыпин на этот раз с удовольствием с ним распрощался. Что-то надоел…
Тем более что брат по газетным делам как раз был в горящих поволжских губерниях. Прямо пожарники – хозяин Суворин да братец Александр Столыпин!
Тройственных посиделок на этот раз не получилось.
А, гори все огнем ясным!
На Гродненщину, на тихую Гродненщину… До дому, «до ридной хаты». Вот и все, что он вынес с того совещания.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?