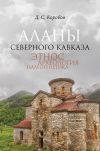Текст книги "Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867)"

Автор книги: Арнольд Зиссерман
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
На другой день вечером Потоцкий сообщил мне, что князю докладывали письменное показание горцев и ходатайство генерала Вольфа об их награждении, и он приказал мне явиться с ними к В. П. Александровскому для выбора им из экстраординарных вещей сукна на кафтаны. Дикари на другой день были мной приведены в казначейство наместника, где без всякого колебания остановили свой выбор на красном сукне и, счастливые подарками, пребыванием в городе чудес, зрелищем вольтижеров, которое им тоже было показано, уехали домой, где их рассказам будут и удивляться, и завидовать, и, пожалуй, не верить.
Я остался в городе, в ближайший понедельник был на вечере у князя и тут же узнал от Потоцкого под секретом, что обо мне было нечто вроде особого совещания с начальником гражданского управления князем Бебутовым и начальником главного штаба, на котором князь высказал, во-первых, что, не ограничиваясь отзывом генерала Шварца, нужно на месте проверить основательность моих предположений, для чего он желает командировать Генерального штаба полковника В.; во-вторых, что ему особенно желательно мое дальнейшее служение в округе, но вместе с тем он находит всякое нарушение дисциплинарных отношений подчиненного к начальнику делом опасным и недопускаемым, поэтому полагает поручить В. устроить и соглашение между мной и Леваном Челокаевым; если же и это не удастся, то я как младший должен быть устранен. И начальник главного штаба, и начальник гражданского управления совершенно согласились с мнением князя. Эти столь важные для меня сведения произвели, сколько мне теперь помнится, какое-то тревожное на меня впечатление. Полковника В. я видел только один раз в 1846 году, во время проезда князя Воронцова через Тионеты, и заметил, что он оказывал большое внимание бутылкам, но что он за человек и чего можно мне ожидать от его участия, я себе представить не мог.
На другой день в девять часов я уже был у Потоцкого и просил его совета, как мне дальше быть: ожидать ли приказания уезжать или идти откланиваться без приказания? Он советовал ждать и притом высказал надежду, что поездка В. будет иметь хороший результат и для дела, и для меня лично.
Не успел я уйти от Потоцкого, как за мной пришел вестовой казак с приказанием явиться к главнокомандующему. Через час я был там и после доклада вошел в кабинет. Князь, сдвинув очки на лоб, обратился ко мне по обыкновению со своей ласковой улыбкой и после нескольких приветливых слов объявил, что он командирует полковника В. проверить на самом месте основательность моих предположений и дополнить всеми нужными сведениями, что я могу теперь уезжать в Тионеты и ожидать там приезда В., коему должен буду везде сопутствовать. «С нетерпением буду ожидать его возвращения и донесения», – прибавил князь. Я раскланялся и пошел явиться еще к князю Василию Осиповичу Бебутову и губернатору Ермолову (кажется, его звали Николай Сергеевич). Этот простер свою любезность до того, что сам предложил мне получить казенные прогоны за поездку в Тифлис и обратно, совершенную по приказанию наместника, и тут же приказал своей канцелярии сделать относящиеся до этого распоряжения.
XVI.
Было начало марта 1848 года. Я оставил Тифлис, погруженный в расцветавшую зелень садов, пестревших бледно-розовыми цветками на миндальных и персиковых деревьях; на столиках зеленщиков стали появляться пучки молодых трав, составляющих любимейшую закуску грузин и армян. Воздух был мягкий, влажно-теплый, дышалось легко, и вроде не жгучие лучи солнца придавали всему особенно радостный колорит. Туземцы толпами встречали весну под открытым небом: на плоских кровлях домов, на лужайках, по окраинам города перед духанами или в садах раздавались песни, звуки тоскливой зурны и бубен, заглушаемые нередко добродушно-буйными возгласами веселой компании, одушевленной каким-нибудь новым остроумным тостом. Группы модных львов и дам разгуливали по Головинскому проспекту, устраивались кавалькады и пикники в высших слоях чиновной и туземной аристократии. Одним словом, начинались весенние удовольствия, и все кинулись после двух-трехмесячных холодов, грязи и слякоти пользоваться наступившими прекрасными днями, имея в виду их непродолжительность, ибо март – сумасшедший месяц (гижи по-грузински) и вдруг после самой великолепной погоды разразится холодом, снегом, бурей, всякой климатической гадостью, продолжающейся нередко и далеко в апреле.
Приехав на другой день в Тионеты, я нашел там не тифлисскую весну, а нечто вроде поздней суровой осени: холод, резкий ветер, кое-где снег лежал, грязь, серые тучи – все, наводящее уныние.
Следователь Шпанов чрезвычайно обрадовался моему возвращению, расспрашивал о Тифлисе, глотал слюнки при рассказе о тамошней погоде, пикниках и прочем, решил на другой же день уехать под предлогом неполучения от вдовы Челокаева ответа и невозможности без этого делать что-нибудь дальше. И действительно уехал.
Дня через три-четыре приехал В. и остановился в башне, занимаемой окружным начальником, который поспешил ее совсем очистить для такого важного гостя. Узнал я о его приезде только через несколько часов, когда он успел уже набеседоваться с Челокаевым и, нагрузившись за обедом добрым кахетинским, вздумал потребовать меня к себе. Прихожу – тут же и Леван Челокаев. «Это вы г-н З.?» – «Я-с». – «Вот видите, главнокомандующий какое снисхождение оказал вам, что по вашей записке послал меня удостовериться, правда ли, что вы там понаписали; хотя, конечно, это мог бы сделать и ваш начальник, но князь Михаил Семенович, именно потому что князь Леван еще новый здесь человек, не поручил ему этого дела. Так вот-с, – продолжал не совсем твердым языком развалившийся на тахте[4]4
Тахта – нары, род дивана, покрытого ковром.
[Закрыть] полковник, – дня через два, когда все будет готово, мы с вами и поедем, посмотрим, в чем дело; а между тем я вот слышу от вашего начальника, что вы до сих пор не сдали ему, как следует, по закону, казенных денег и всяких дел и бумаг и что вообще вы не соблюдаете должной подчиненности и почтительности в бумагах. Это нехорошо, вы, молодой человек, должны дорожить вниманием начальства, и князь Михаил Семенович поручил мне сказать вам, что хотя он и желает, чтобы вы продолжали служить здесь, но само собой только при условии, чтобы ваш ближайший начальник на это согласился». – «Я ничего против этого не имею, – вставил камбечи Леван, уткнув глаза в пол. – Только нужно как следует служить» и еще что-то в этом роде.
В каком положении я находился после этих речей, легко себе представить. Так вот каким образом г-н В. принялся за «дипломатическое» поручение устроить соглашение между окружным начальником и мной. Нечего сказать, и очень тонко, и очень деликатно. Что я отвечал ему тогда или даже отвечал ли вообще, не помню; вернее, что ничего не отвечал: сильно возмущенный чем-нибудь, я терял хладнокровие и способность к препирательствам. Я вышел просто придавленный всей горечью только что выдержанного поражения; грубый начальнический тон В., торжествующие взгляды Челокаева произвели на меня такое действие, что я почувствовал давление в горле и готов был заплакать. В первую минуту я думал отказаться от поездки и написать подробно в Тифлис. То казалось мне лучшим дождаться утра, когда В. будет, вероятно, в более нормальном состоянии, и пойти с ним объясниться, то благоразумие диктовало мне опять перенести пока неприятность, не давать какой-нибудь резкой выходкой этим господам в руки лишнего оружия против меня. Чем больше я ломал голову, тем менее решимости было остановиться на чем-нибудь. И не мудрено, дело шло не только обо всей служебной будущности, но в крайнем случае, о хлебе насущном; лишенный всякой опоры в борьбе, я невольно трусил. Между тем и раздражение стало слабеть; я весь следующий день никуда не выходил из своей сакли, думал, передумывал и кончил тем, что через день выехал с В. в Хевсурию. Челокаев, желая выказать свою угодливость важному в его глазах лицу, приближенному к наместнику, пустился тоже с нами.
Полковник В. слыл в военных сферах за очень способного, отлично пишущего военные реляции офицера; высшие власти считали его только кутилой, но товарищи знали его несчастную слабость и звали его пьяным В. Глаза у него были светло-стеклянного цвета, с совершенно бессмысленным выражением, телячьи, как говорится. Он был не глуп и даже талантлив, но характера вздорного, грубого, вообще человек неприятный. Впоследствии назначенный командиром Тенгинского пехотного полка, он допился до чертиков, которых щелчками сгонял со своих ног и ловил в карманах, на смех ординарцам и прислуге. Должны были взять у него полк, произведя в генералы… Он умер в конце 1853 или начале 1854 года от белой горячки…
Такой отзыв о человеке, которым я имел повод быть недовольным, может вызвать подозрение в пристрастии или даже клевете. Но в предвидении этого я раз и навсегда должен оговориться: давно отказавшись от службы, от всяких честолюбивых видов, доживая свой век в самой скромной, никем не замечаемой сфере частного человека, я не волнуюсь ни завистью, ни мстительностью и стараюсь в своем рассказе держаться лишь строгой истины, даже уменьшая по возможности дурное, которое приходится о ком-нибудь вспоминать. Не говоря о бесчестной стороне такого поступка, как клевета, особенно на мертвых, какой в настоящем случае практический смысл имело бы это? Я не историческое лицо, не представитель какой-нибудь партии, преследующей всякими путями свои цели, да и какой-нибудь полковник В. не настолько важное и историческое лицо, чтобы такой или другой отзыв о нем мог иметь какое бы то ни было значение для потомства. Что именно мне приходится отзываться о дурных сторонах людей, бывших тридцать лет назад причиной неприятностей для меня, – это чистая случайность; не хороши были эти господа сами по себе, а не исключительно по отношению ко мне. Впрочем, и причиненные ими мне неудовольствия никаких особых последствий не имели и «моей судьбы» не изменили. Я тем больше теперь могу вспоминать о них и об их несправедливых выходках не только не озлобленно, а даже с некоторой добродушной улыбкой.
Зима 1847–1848 годов была особенно сильная, даже в Тифлисе, в январе недели три на санях ездили; можно себе представить, что происходило в ущельях Главного хребта, да еще в марте, самом скверном месяце в горах и за Кавказом. Из Тионет мы сначала поехали в село Жинвали Душетского уезда, где соединяются две Арагвы, Гудомакарская с Пшавской; от этого пункта я в своей записке и предлагал начать разработку дороги. Сначала все шло хорошо, день был ясный, дорога верховая порядочная, В. был в хорошем расположении духа, много говорил и, между прочим, рассказал нам новость – февральскую революцию в Париже и бегство Луи Филиппа. Леван Челокаев не совсем ясно понимал, в чем дело, и очень затруднялся, как ему скрыть, что он не знает, кто это Луи Филипп и вообще что тут интересного?
Дальше дорога все становилась хуже, каменистее, с крутыми спусками и подъемами, узенькими карнизообразными тропками, с частыми переправами через бурливые потоки и т. п. принадлежностями кавказских горных дорог. Мы, привычные, не обращали на это никакого внимания, но В., боявшийся спусков и тропинок, вынужденный поминутно слезать с коня и опять садиться, начинал сердиться, ругаться и чаще требовать у бывшего с ним донского урядника Астахова рюмку рому или стакан портеру. С каждым шагом дальше трудность движения увеличивалась, и началась борьба со всеми ужасами грозной природы. Кто сам не совершал подобных переходов, тому никакое описание не даст достаточно рельефного изображения. По ущелью Хевсурской Арагвы от села Барисахо до Хахмат трудности были действительно едва одолимы, даже для привычных людей. В некоторых местах снега образовали по обеим сторонам ущелья отвесные стены, и не было другого пути, как по заваленному огромными камнями руслу реки, катившей с грохотом пенистые волны, через которую, поддерживая друг друга, мы кое-как пробирались. Местами снежные завалы, обрушившиеся с противоположных сторон в одно время, сталкивались над рекой, образовывали своды, обледенялись и заставляли спертый поток просасываться под этими снежными мостами; нам приходилось карабкаться на них, проходить, слыша на каждом шагу треск снежного свода… Обрушиться было бы почти верной гибелью.
Мы делали средним числом полторы-две версты в час. Нетерпеливое раздражение В. росло. Горцы в полголоса спрашивали меня, на кого г-н «упроси» (старшо́й) сердится, и когда я им сказал, что на дурную дорогу, то они чрезвычайно удивились: во-первых, в марте в горах лучшей дороги и быть не может, во-вторых, тут никто не виноват, а не следовало-де в это время ехать. Однако до урочища Орцхали, где мы завтракали, В., хотя уже, быть может, в десятый раз требовавший рому, все еще сохранял достаточно приличия, чтобы ругательства свои относить к дороге. Я, впрочем, поначалу уже видел, что ничего хорошего из всей этой поездки не выйдет. Не говоря о том, что с человеком, большей частью нетрезвым, трудно было бы дело сладить, В. своим грубым начальническим тоном оттолкнул меня, не обращался ко мне ни с какими вопросами, не требовал никаких разъяснений, а следовательно, и командировка его становилась совсем бесцельной. Когда мы тронулись дальше, В., почти на руках передвигаемый проводниками горцами, окончательно вышел из себя, страх и хмель боролись в нем: он стал уже прямо обращаться ко мне: «Куда вы завели меня? Как вы, милостивый государь, осмелились подавать главнокомандующему такие записки? Я возвращусь и доложу князю, что значит оказывать внимание всяким самозваным авторитетам!». Сначала я ему очень хладнокровно отвечал, что я его никуда не веду, а едет он, исполняя приказание главнокомандующего; что я удивляюсь, как он мог в горах в марте месяце ожидать лучшей дороги, что если бы дорога была хороша, то незачем было бы ее разрабатывать, а ведь это и есть главный предмет моей записки; наконец, один раз я не выдержал и прибавил, что если он будет продолжать таким тоном обращаться ко мне, то я прежде его уеду назад. Однако стихнувший на несколько минут В. при каком-то скверном обледенелом спуске опять расшумелся и обратился с дерзостью ко мне; я, не говоря больше ни слова, повернул со своим Давыдом назад, успел до ночи пробраться за Орцхали, где и остановился в ближайшей пшавской деревне ночевать. Окончательно возмущенный всем происшедшим, я решился из Тионет написать обо всем подробно Потоцкому, а вместе с тем официально просить об увольнении от службы в округе.
На заре меня разбудили и подали записку от окружного начальника: он от имени В. просил меня возвратиться, ибо в противном случае он своей поездки продолжать не может и главнокомандующий останется всем этим весьма недоволен, что, конечно, для меня отзовется самыми вредными последствиями. Челокаев извинял горячность В. непривычкой к таким переездам и надеялся, что нечто подобное уже не повторится, тем более что успели добраться до Хахмат и прошли самую скверную часть пути. Полуграмотно составленная переводчиком записка с нацарапанной подписью Челокаева вызвала меня на раздумье. По первому увлечению я уже написал было резкий ответ, что я подобного обращения с собой никому не позволю, что если бы г-н В. был в трезвом виде, то я еще иначе бы с ним поговорил, что, наконец, я раньше его буду в Тифлисе и расскажу все, как было. Доставивший записку хевсур из Хахмат словесно передал мне, что при отправлении и окружной начальник, и полковник приказали ему просить меня непременно возвратиться, что без меня они дальше не поедут. Давыд мой счел обязанностью также вмешаться в дело, убеждал меня не обращать внимания на пьяного человека и из-за этого не портить служебное дело, интересующее сардаря; что теперь, вероятно, В. уже будет осторожнее и постарается загладить свое грубое обращение одним словом, просил и уговаривал не доводить дела до крайности и возвратиться. Кончилось тем, что я порвал приготовленный ответ и, когда совсем рассвело, пустился опять по вчерашней дорожке. Проехать этаких 15–20 верст три раза в два дня было возможно только такому привычному юноше, каким я был тогда. Прибыл я в Хахматы часу в двенадцатом и застал все приготовленным к перевалу через хребет; ожидали только меня. В. пробормотал невнятно что-то вроде извинения, упрекнул в излишней горячности (меня?!) и т. п.; я ему ничего не ответил, и мы пустились дальше.
На перевале, покрытом сплошными массами снега, жестоко резавшего глаза, трудности движения были уже далеко не те, что в ущелье, тем более что старый, осевший снег, одетый леденистой корой, выдерживал тяжесть людей, и нам редко приходилось вытаскивать проваливающиеся ноги. Для меня, в сравнении с попыткой перевалиться за хребет в ноябре месяце 1847 года, о чем рассказано выше, настоящее движение было игрушкой. В. кряхтел, пыхтел, прикладывался к бутылочному горлышку, но, вероятно, по отсутствию опасности гораздо меньше ругался, старался быть любезнее и при остановках заговаривал со мной о деле, но все самыми отрывистыми фразами и очевидно избегая подробных объяснений.
Часу в пятом мы достигли вершины: нам открылась поразительная картина громадного снежного пространства, подобного океану, застывшему в минуту сильного волнения; вдали друг друга пересекающие, друг на друга нагроможденные цепи скал и лесистых гор, сплошь занесенных снегом, одетых в какую-то не то синюю, не то фиолетовую дымку. Ни единого признака жизни кругом, мертвенно-торжественная тишина, вдруг нарушенная кучкой людей, дерзко проникших в заповедные места.
Первую половину спуска мы совершили очень удобно и весело, съезжая на бурках, как на салазках; на северном склоне, понятно, снег был еще крепче; вторую половину, где из-под снега уже торчали камни, мы прошли довольно скоро и без особых приключений достигли ущелья Аргуна. Стало смеркаться, оставалось пройти еще несколько самых трудных верст, с переправой по тем чертовым мостикам, о которых я уже рассказывал. В., закрывавшего глаза, почти переносили на руках; он опять побледнел, безжизненные глаза не двигались, и брани его не было слышно только благодаря реву бешеного Аргуна; он как-то машинально подвигался, отдавшись на волю приставленных к нему двух здоровенных хевсур… Наконец, уже совсем поздно достигли мы Шатиля и остановились на ночлег в той самой башне, в которой провел целую зиму 1812 года грузинский царевич Александр Ираклиевич, бежавший сюда после усмирения нами кахетинского восстания, имевшего целью возвратить ему престол Грузии.
XVII.
На другое утро полковник В. первый заговорил о деле, и благодаря тому обстоятельству, что это было тотчас после чаю, до закуски, разговор принял благообразный вид.
Вопрос заключался главное в том, что теперь делать дальше? Мои предположения на этот счет, невзирая на сильное утомление, формулировались еще ночью, и потому я их высказал теперь в законченном виде, предоставляя В. принять их или отвергнуть.
Я напомнил прежде всего главную суть моей записки, вследствие которой он и командирован, то есть что с проложением удобного пути через Хевсурию мы получаем возможность удобнее управлять ею и открыть с этой стороны действия вниз по реке Аргуну навстречу войскам, двигающимся из Чечни вверх и занявшим, очевидно, с этой целью еще в 1844 году аул Чах-Кари, где и выстроена крепость Воздвиженская (штаб-квартира Куринского егерского полка). Ближайшим результатом движения от Шатиля, прибавлял я, было бы покорение соседних кистинских обществ и избавление Тушинского округа и Верхней Кахетии от их хищничеств; отсюда (посредством кордона) можно войти в связь с Владикавказским военным округом, отрезав все лежащее на этом пространстве население от подчиненности Шамилю и значительно обеспечив таким образом спокойствие на Военно-Грузинской дороге, этой важнейшей артерии, связывающей нас с Россией. Наконец, кроме всего этого, лишний удобный путь сообщения, особенно в горах, – вещь весьма полезная и для правительства, и для народонаселения, тем более если сооружение его может обойтись дешево. Затем я повторил уже не раз сказанное, что мы прошли теперь главную часть пути в самое ужасное в горах время, что летом она вовсе не до такой степени скверна, и разработка может доставить возможность значительную часть проходить даже с повозками. Но чтобы В. мог лично и вполне уяснить себе пользу и доступность связи отсюда с Военно-Грузинской дорогой и определить, какие для этого потребовались бы средства, я считал необходимым совершить и другую половину пути, от Шатиля до Владикавказа, невзирая на то что тут придется вступить в борьбу не только с природой, но и с опасностью другого рода, именно: с возможностью попасть в руки непокорных горцев, через некоторые аулы коих придется проходить… Сначала и В., и Челокаев посмотрели на меня, как бы сомневаясь в нормальности моего состояния… Но я не смутился и продолжал доказывать необходимость такого путешествия, без которого перенесенные до сих пор труды окажутся напрасными. Я утверждал, что предприятие имеет все шансы благополучного исхода благодаря именно глубоким снегам и отвратительному времени, в которое горцы сидят по своим саклям, как сурки, да тем мерам предосторожности, которые будут приняты, и наконец, эффект, какой произведет в целом крае и даже в Петербурге известие о таком рискованном путешествии полковника Генерального штаба, приближенного к главнокомандующему лица. Последний аргумент, казалось, возымел хорошее действие, и В. стал уже добиваться подробностей, как я думаю устроить этот переход, без явной опасности быть взятыми горцами первого же непокорного аула и отправленными на веревке к Шамилю.
Мой план путешествия был очень прост: во-первых, до выступления следовало не только никому не говорить об этом, а напротив, показывать вид, что мы собираемся обратно тем же путем, каким пришли в Шатиль; во-вторых, выбрать из шатильцев двух молодцов, бывалых в тех местах, по коим предстоит проходить, чтобы не нужно было ни к кому обращаться за расспросами о дороге, и под их прикрытием пуститься в путь, взяв с собой одного мула для вещей, на которого В. мог бы по временам садиться. Я рассчитывал, что в это время (март) там едва ли придется и встречать кого-нибудь, а если бы и встретились одинокие горцы, то нам, пятерым, бояться их нечего; аулы же мы постараемся обходить или ночью, или как можно дальше. Шатильцы все говорят по-кистински (почти то же, что по-чеченски), следовательно, могут на вопросы встречных отвечать весьма правдоподобно, что мы разыскиваем для выкупа пленных и т. п., а в этих случаях все горцы весьма снисходительны. Понятно, что В. и его урядник должны были нарядиться по возможности так, чтобы не быть похожими на русских. Первую ночь придется, вероятно, провести где-нибудь в скрытом лесистом месте, а к вечеру другого дня я рассчитывал быть уже в Цори – общество, считавшееся тогда якобы покорным, то есть не явно с нами враждовавшим. Там, пожалуй, можно будет, уже не скрываясь, попросить у старшины ночлега и нанять оттуда даже верховых лошадей с проводниками до самого Владикавказа, конечно, все за щедрую плату. Я был почти совершенно убежден, что мы непременно благополучно проберемся, если только шатильцы согласятся нам сопутствовать, на что они, знакомые вполне со всеми местными обстоятельствами, если бы была явная опасность, конечно, не решились бы – при всей своей известной храбрости они больше нас дорожат жизнью и играть ею не станут. Наконец, нужна же некоторая решимость, да и «храбрость города берет».
После долгих «за» и «против» В. стал склоняться на мое предложение, а Челокаев и не умел, и не хотел оспаривать, он только весьма заботился о драгоценной жизни полковника и просил быть осторожными… Кончилось тем, что решили идти через два дня, в течение которых я должен был все приготовить; В. же напишет между тем донесение в Тифлис о первой половине похода и предположении идти дальше. Челокаев проводит нас до высоты за Шатилем (где я, как выше рассказывал, был летом 1846 года с Гродским и Колянковским) и вернется в Тионеты, а оттуда приедет в Тифлис, чтобы встретиться с нами и быть у главнокомандующего при докладе В. своего отчета об исполнении поручения.
Шатиль, хевсурский аул, тогда крайний предел покорной нам страны, имеет около пятидесяти домов и может выставить не более двух сотен человек, способных носить оружие. Но эта горсть людей, жившая постоянно в тревоге и опасности, привязанная к своему родному гнезду, отличалась замечательной отвагой. Шатильцы не только защищались от всех неприятельских покушений, но сторожили вход в остальную Хевсурию, составляли нечто вроде Хевсурского Гибралтара и пользовались за то общим уважением, играя роль национальной аристократии. В 1843 году известный наездник помощник Шамиля Ахверды-Магома с несколькими тысячами горцев окружил Шатиль, требуя покорности. Шатильцы, запершись в своих труднодоступных башнях, три дня держались против этой в пять – десять раз превосходившей их толпы, убили ружейным выстрелом самого Ахверды-Магому и до сотни его людей; неприятель, опасаясь быть отрезанным могущими подоспеть подкреплениями, должен был уйти ни с чем. Из двух попавшихся при этом в плен шатильцев один был зарезан на могиле Ахверды-Магомы, а другой успел бежать. За этот подвиг шатильцы по высочайшему повелению получили, кроме нескольких Георгиевских крестов и медалей, триста четвертей хлеба, пять пудов пороху, десять пудов свинцу, и приказано было обнести аул каменной стеной, вделав в нее приличную надпись.
Я часто бывал в Шатиле, производившем на меня особого рода поэтически-воинственное впечатление. Это дикое ущелье, сдавленное громадными навесными скалами, этот неистовый рев Аргуна с какими-то по временам отголосками будто дальних пушечных выстрелов (вероятно, от катящихся больших камней); эти почти дикие обитатели, в своих странных костюмах и оружии, со щитами и шлемами напоминающие средневековых рыцарей-крестоносцев, как-то особенно гордо на все взирающие; закоптелые стенки башен, унизанные кровавыми трофеями (кистями правых рук) да множеством огромных турьих рогов, за коими шатильцы взбирались на вершины недоступных скал и снежных вершин, – все это, повторяю, производило впечатление трудно передаваемое. С шатильцами я был в наилучших отношениях и оказывал им при всяком случае предпочтение перед другими жителями; у них, впрочем, было менее всех споров, тяжб и вообще наклонностей к сутяжничеству, чем отличались другие хевсуры и особенно пшавы. Некоторые из шатильцев, чаще пускавшиеся в Грузию для закупок, посещали меня всегда в Тионетах, чтобы взять билеты для свободного прохода, сообщали мне всякие слухи из соседних горских обществ, при этом никогда не уходили от меня без угощения и подарков. Особенно один, звали его, кажется, Важика (уменьшительное от важи – храбрый), чаще у меня бывал, выказывая искреннюю преданность. Я решился обратиться к нему насчет предстоявшего перехода во Владикавказ.
Вызвав Важику из сакли, я прошел с ним подальше на берег реки и, взяв с него слово не передавать никому содержания нашего разговора, рассказал о моем предположении, с тем что если он разделяет мои надежды на благополучный исход, то не согласится ли быть нашим проводником, выбрав себе сам товарища.
Важика недолго думал и согласился; он не только разделял мои надежды, но почти ручался за благополучный исход, тем более что имел в соседнем кистинском обществе Митхо много знакомых и дзмобили. У хевсур и соседних горцев существует обычай удзмобилоба – братание. Два человека, оказавшие взаимную услугу или близко знакомые и желающие теснее сдружиться, совершают обряд, заключающийся в том, что наполняют ковшик водкой или пивом, старший или более зажиточный опускает туда серебряную монету, и оба по три раза пьют, целуясь за каждым разом, затем желают друг другу победы над врагом, клянутся быть братьями и не жалеть взаимно крови своей. Освященный временем, обычай этот, как и вообще всякие другие обычаи, соблюдается так строго, что примеры, где названные братья друг за друга делались кровоместниками или и совсем погибали, вовсе не редкость. Важика не скрывал, что летом такой переход был бы чересчур рискованным предприятием, потому что легко можно было наткнуться на хищническую партию, состоящую из людей дальних обществ, для которых ни митхойские знакомые, ни дзмобили никакого значения не имеют, но теперь встречи могут ограничиться одним-двумя человеками, и то из ближайших аулов, да если бы и из более враждебных, то с двумя-тремя можно справиться. Затем Важика назвал мне товарища, которого он намерен был пригласить, и кроме того, указал мне на одного из числа наших провожатых хахматского хевсура как на человека, известного своей храбростью, ловкостью и тоже знающего кистинский язык, советуя взять его с собой, ибо на всякий случай лишний де человек не помешает. Условившись еще насчет различных подробностей, мы разошлись.
День прошел в приготовлениях, отчасти в препирательствах с В., который, особенно после обеда, то заговаривал о нежелании идти, то требовал от меня прочных ручательств, что он не будет взят в плен и прочее. Однако все, наконец, уладилось, и на следующий день к восьми часам утра мы собрались на площадку (В. и его урядник в папахах и старых черкесках сверх форменных кафтанов, так что только вблизи можно было бы заметить несовершенство горского костюма), где все и узнали, куда мы решились направиться. Впечатление было различное: тионетские наши спутники, мирные грузины, считали дело чуть не сумасшествием, а старшина их (нацвли) Давид Годжия Швили, мой кум и родственно преданный мне человек, просто схватился за мою руку, грозя не пустить. Шатильцы смотрели равнодушнее, советовали, однако, быть осторожными и не совсем доверять полупокорным аулам, «а впрочем, таких шесть молодцов могут-де постоять за себя и против двадцати», прибавили горские дипломаты. Я, со своей стороны, чувствовал только некоторое усиленное сердцебиение, но вообще был уверен, что все кончится благополучно; да я не только в этот раз, а постоянно, в течение двадцати пяти лет кавказской службы, как будто верил в счастливую звезду свою и пускался зачастую безо всякой особой надобности, так сказать, очертя голову, в рискованные путешествия, почти убежденный, что беда меня непременно минует.
Наконец, попрощавшись со всеми и отклонив предположенные проводы Челокаева, мы тронулись в путь по левому берегу Аргуна, едва заметной, полузанесенной снегом тропинкой. Порядок марша установили мы следующий: впереди шатилец (авангард), затем Важика и я (главная колонна), далее урядник Астахов, ведущий катера (обоз), и г-н В. с хахматским хевсуром (арьергард). У последнего за спиной была гуда (кожаный мешок) с драгоценными остатками тифлисских запасов: бутылки три рому и две портеру, немного сардинок, сыру и прочего.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?