Текст книги "Кавалеристы"
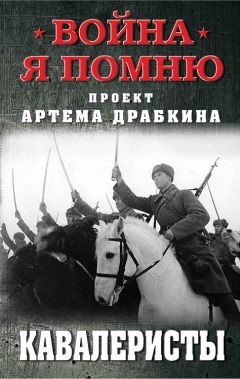
Автор книги: Артем Драбкин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Был у меня солдат. Медалью награжден «За боевые заслуги», и покончил, как говорится, самоубийством. В смысле… Отвели нас на отдых, а лошадей-то не было, и мы пешком шпарили на отдых. А идут машины ночью туда-сюда, и он решил на машине подъехать. Прыгнул и сорвался, и чека из гранаты… Мог бы он выбросить. Это теоретически, конечно… А он опять прыгнул, и что… прикрыл… тоже героически получилось, что он своим телом прикрыл других. Его хоронили мы с честью, полком. Что родителям напишешь? Так же и написали: «Ваш сын, проявив мужество и героизм, погиб в бою». Не напишешь же, что было. Открыли когда карманы – сколько молитв у него было. Каких только не было. А он полный такой, малоразворотливый, но силой-то обладал.
– Лошади часто гибли? Что делали, когда без лошади оставались?
– Ели (смеется). Если меня ранили, лошадь убита, с меня: «А где лошадь?»
– Убита.
– А где мясо?
Когда лошадь убита – это просто пир был. Дохлых ели, зимой если. Мясо-то не так прокисает. Был у нас первый командир эскадрона, который божился, крестился, что он конину никогда есть не будет. А Иванов Лешка, повар, заходит.
– Иван Иваныч, скажите, пожалуйста, а чем вы нас кормите?
– Как чем… Кониной.
Командир эскадрона вскочил:
– Я тебе покажу конину!
– А я не знал, что вы не едите. (Смеется.)
– Какой породы были лошади?
– Какой… Всякой. Вот я Буденному-то показывал монгольских, маленьких. Надо мной же в запасном полку… У меня дезертир был один, мнимый дезертир. Я пока за ним ездил, набили холку моему коню, и начальник штаба майор Дарпович решил меня проучить. Другие же лошади были нормальные, а он, чтобы я был на монголке. Все, значит, на больших, на крупных лошадях, а я на монголке в хвосте ты-ты-ты. А физрук был, Шульга, озорник. Он все пытался перепрыгнуть на своем коне через меня. Раза два по хвосту проскальзывало. Я получил от сына замкомандира полка письмо. Полковник, доцент химической службы, где-то в Подмосковье служил… Пишет мне, что я помню, как какой-то лейтенант на маленькой лошаденке, а физрук пытался через него перепрыгнуть. Я ему написал: «Это я был».
А он и дезертиром-то не был бы. Получил телеграмму – жена умерла, и он тут же ночью уехал. Приезжаю, смотрю в окно, летом дело было. Смотрю – гроб, он над гробом. Я зашел, он повернулся, видит, что это я.
– Ну, что, товарищ лейтенант, судить будут?
Я говорю:
– Подожди ты. Давай похороним, потом…
Пришлось могилу рыть. Детей нет, родственников нет. Приехал, рапорт стал писать, говорю: то-то случилось.
– Ладно, все равно через две недели на фронт. Пусть едет.
– Чего ты так задержался?
– Хоронили жену-то. Куда ее девать? Некому…
Я говорю:
– Зашел бы, нашел бы меня.
– Какое отношение было к политрукам?
– К политрукам у нас нормальное отношение было. Все зависит от него. Они же у нас только в первой половине войны были, потом уж их не стало. Вот под Москвой у нас был толстяк политрук. Татарин из пехоты. Он предпочитал ходить пешком, чем на коне, потому что был из пехоты взят-то. Идет и песенки поет, на русском языке… У нас только неприятность была, вызывал меня замполит. Я одному сержанту грозил, что я его застрелю. Достал пистолет, в чем моя вина-то была. И тут же вышли на отдых. Сержант доложил командиру. Он меня вызвал:
– Слушай! Если уж достал, так стреляй! Жалобы не было бы.
– А что, жаловался?
– Жаловался! – говорит. Я ему говорю, что без причины не может быть. – А что они сделали?
Я говорю:
– Он и с ним два солдата… Мы ушли метров 500 вперед, а они в окопе лежат.
– Ты доставал пистолет?
– Доставал.
– Ладно, иди. Ничего не было.
Он говорит:
– Это хорошо – я понимаю тебя. Ты уже давно воюешь. А так что? Оружием угрожал. Сержанту.
А так… Мы все равно с ним нормально… нормальные взаимоотношения были.
– Как относились к особистам? К штрафным частям?
– СМЕРШ у нас был. Разные были, разные… Вот меня, например, сопровождал… Каждый эшелон сопровождает представитель СМЕРШа. Он только следит, нет ли шпионов, не подсели ли. А там что было… Просят какие-нибудь дамочки: «Посадите, подвезите». Некоторые не выдерживали, подсаживали. Они это засекали: «Почему?» А так все зависит от человека. Ну, не было у нас инцидентов между собой, между командирами взводов, между командирами эскадронов. Все было нормально.
Только я нормально не отпросился на увольнение из армии. Сколько я ни просился. Пять лет просился. Потом уж отслужил 10 лет, думаю: «Куда деваться? Потеряны 10 лет». То ли я плохой был? Я же ни одного воинского звания вовремя не получил. У меня были все дела да случаи. Или кулаческое происхождение мое, или невоспитанный я был. Я-то считал, что из-за кулака.
– Как относились к мародерству на фронте? Наказывали?
– Мародерство… Там иногда за мародерство-то не всегда считали. Человек три дня голодный, поймал курицу. Другие махнут, и все. А так, чтобы что-то отбирали, ничего не было. Потом, солдат во время боя – ему ничего не нужно. Возьму я, допустим, костюм какой-нибудь хозяйский, а что дальше со мной случится? Что дальше со мной случится? И поэтому… Ведь мародерничали – это в тылу, которые не воевали на передовой, и из этих, среди которых бывшие зэки, а сегодня законные солдаты Советской армии.
Вот эти.
Ну что, лошадей отбирали у венгров. Мы раза три отбирали. Раз попались – отобрали не у тех. Чехи оказались-то, и из той деревни, где прокурор нашей дивизии расположился. Они тут же, деревня-то рядом, пришли и сказали, что лошадей у них отобрали. Ему кто-то сказал: «Это у них ищите». Пришли – мы кушаем.
– Где лошади?!
– Какие лошади?
Командир эскадрона – старший лейтенант, а этот капитан, прокурор-то.
– Какие лошади? Ты что, ошалел?! Не мешай мне кушать!
Сел и уехал. Тут же является следователь. Этот у нас уже был раз.
– У вас, что ли?
– Да, у нас.
– А где они сейчас?
– Да мы их подстригли. Сейчас их не узнает никто.
– Какие? У них нету лошадей. Они своих отдают.
Раненых лошадей… Чего она, таскаем ее за собой.
– Пожалуйста! Сколько у вас взяли? Четыре? А мы шесть дадим.
Отмотались. Прокурор говорит следователю:
– У них были?
– Нет, нет. У них не было.
Хороший был мужик.
– Как вас встречали в Европе? Как относились к вам в Чехословакии, в Венгрии?
– Встречали хорошо. Чехи особенно хорошо встречали, потому что мы с ними союзниками были. А эти вот, мадьяры… Это… Им в 56-м году законно попало. Они же там вели себя так. Потом ведь, во время боя не до встречи. Если передышка есть, то пять-шесть человек выйдет.
Здесь не было забот. Заботы были, как бы не убили и как бы мне не умереть после ранения. Вот гады.
– Расскажите про свои ранения? Как лечили?
– В первый раз, я во время подготовки… В ночь мы должны перейти, и я проверял, можно ли в конном строю пройти речушку. Проверил все, стали… и вдруг самолеты на Москву летят. Обычно они пролетали, а тут увидели, что здесь можно переправу… и сбросили бомбы. И я попал под одну бомбу. Коня у меня убило, а я был ранен. Вот ведь был порядок дурной! Из чужой дивизии тебя санитар не перевяжет. Прошу перевязать девчонок, и одна только согласилась перевязать моим бинтом мне рану. И уже обработку-то раны сделали в медсанбате. Я пришел, доложил то-то и то-то. «Ну, ладно, – говорит. – Давай езжай, лечись». И что я задержался… У меня было ранение в правую руку, одно и не насквозь, а с маленькой пленочкой, кожа осталась. Все-все, заживает. Все, готовлюсь выписываться. Вдруг вскрывается рана. Потом я врачам говорю: «Слушайте, нет там какой-нибудь тряпки?» А рентгенов же тогда не было, это сейчас везде. Я говорю: «Вы разрежьте на сквозную, посмотрите, промойте».
– Это, кажется, не положено.
– Ну что, я столько месяцев лежу и…
А задел-то меня один раненый. Врач говорит: «Слушай, ты ходишь, у тебя ноги целы (на ногах зажили ранения, которые были). А мы сестру гоняем по палатам. Ей надо работать, а она: того позови, того позови». Захожу в палату: «Петров, на перевязку!» Лежит один, уже лет 45: «Ха! Мы воюем, старики, а молодежь посыльными служит». Я возвращаюсь: «Вера Ивановна, больше не пойду. Пошли ваш…» Халат сбрасываю.
– Чего, Коль?
– Да вон…
– Хе, сейчас он будет перед тобой извинения просить. Сходи-ка за ним… Где?
– Вон там, в углу.
Пригласил на перевязку. Он пришел, я еще в халате стою.
– Коль, а ты что халат не снимаешь? У тебя когда перевязка-то была?
– Три дня назад.
– Дак, тебе пора! Ну-ка, раздевайся!
Я разделся, стали перевязку мне делать. Он:
– Прости! Я ж думал, что ты нераненый.
Я говорю:
– Неужели не видишь? Неужели будут здоровых парней держать посыльными?
– Ну, я подумал чего-то… Подумал, вон старики воюют, а… Прости, прости…
– Ну, ладно.
Врач:
– Вот, простил?
– Простил.
– Слава богу!
Потом я говорю:
– Ты задел.
– Я никак не мог догадаться, что ты раненый, просто ходишь.
– Где был этот госпиталь?
– В Лукояново в Горьковской области. В школе там был.
– Как были ранены во второй раз?
– Второй – во время боя. Они пошли в атаку, мы стали отбиваться. И в этот момент по мне дали очередь. Вот я до сих пор не понимаю. Мне кажется, что, гад, не русский ли дал очередь. Может быть, и… Я сразу к своим, и тут командира эскадрона убили. Я к нему подошел – он уже мертвый. Тут перевязку мне сделал один лейтенант, и самого ранили, лейтенанта Барсукова. Командиров-то, офицеров-то никого нет – я решил подвиг совершить, остался. Не знал, кто будет. И заявляется майор Мыслин. Он был зам, а потом командир полка. Он меня и награждал. Вернее, представлял. И только после войны, после девятого! А ранен я был 2 апреля. Откуда он запомнил, что я сделал?! Вот, говорят, в царской армии фамилию дали, и все, без всякой писанины. А у нас: кричал я «За Сталина!» или не кричал?
– А вы кричали «За Сталина!»?
– Кричали. Это, оказывается, традиция. Вернее, в царской-то армии тоже кричали. Только слова: там «За царя!», а тут «За Сталина!» Когда я как-то… Показали… Я говорю: «Дак мы орали то же самое». Только одно слово измененное было. Как там… «За веру…» В общем, последнее слово «царя» мы стали кричать «За Сталина!» А больше, конечно, матом… И везде, во всех наградных листах: «С криком…»
– Что было дальше, после ранения?
– Дальше… Пока ранило, пока пришел заместитель командира полка, я пошел в госпиталь. Так как ранение-то у меня было легкое, числилось (кости не нарушены – считалось легким), меня расположили в госпитале для легкораненых.
– Где это было?
– Это было в Чехословакии. Деревню не помню. И сестра… Я говорю:
– У меня кровотечение.
– Выдумал! Кровотечение!
И стоит с кем-то болтает через окно. Весной, в апреле-то уже тепло.
– Сестра, у меня кровотечение!
Потом думаю: «Ах, гад!» Наметил мероприятие. Взял, подвинул к себе костыль: она проходить будет, я ей врежу костылем. Это ж было раньше: если больной, раненый сестру ударит, она бежит жаловаться. Я помню практику-то! Я ее ударил, и она побежала. Тут же прибегает врач, мужчина. И последнее, что помню, он сказал: «Мало он тебе голову, черепок-то не разбил! Он же потерял… Скорей…» И пошло… И я уже больше в этом госпитале не оказался. Я уже попал в госпиталь для тяжелораненых. Опять неудачно: он эвакуировался, вернее, переезжал на новое место, а больных всех вывозили. И мы, двое, оказались нетранспортабельными из-за потери крови-то. Потом за нами прилетел самолет. Его положили, меня посадили, потому что я еще мог сидеть. Спрашивают:
– Ты можешь сидеть?
– Могу.
Я, значит, сел, и нас в Дебрецен привезли. В Дебрецене нас сразу в этот госпиталь, в котором я вылечился. А тот умер по дороге, его уже выгрузили из самолета.
Тут уже внимание было проявлено. Очень… Врач оказалась землячкой. Я, правда, вначале не понимал, о чем она беспокоится. Мне надо было влить кровь, и она говорит: «Коля, землячок, а ты как к евреям относишься?» Я говорю: «Я ко всем одинаково отношусь. А чего?»
– Кровь-то у нас только еврейская.
– Ну и что? Она поможет?
– Да, поможет.
Потом сестра, уже операционная, свою долю отдала: они перекачали мне вторую порцию. И пошло, пошло… И девятого-то мая я еле дышал, и ко мне американский летчик подошел, обнял меня, кричит: «Победа! Победа!» И больше ни хрена не понимаю. А недели через полторы мы с ним расстались: его в другой… А я думаю, что, наверно, куда-нибудь посадили. После войны написал: сообщите данные об этом летчике в таком-то госпитале. Отвечают: «У нас на иностранных военнослужащих нет данных».
– Можно подробней, что за американец?
– Летчик. Молодой. Красивый. Что еще?
– Долго он в том госпитале лежал?
– Со мной недели две он лежал. Потом его перевели в другой госпиталь, там еще американцы были.
– Какое было отношение к союзникам?
– У кого?
– У вас. Встречали когда-нибудь еще?
– Я только с этим летчиком повстречался, и больше это… Он летчик, сбитый над Будапештом. Когда брали Будапешт, он был сбит. Нам переводить-то некому было. Все улыбались друг другу. Ему, конечно, тут скучно было: с кем побеседуешь?
– Поставки американские.
– Кормили, кормили…
– Тушенка? Было это у вас?
– Было, было. Вот сейчас они нас не кормят. Плохо ли, хорошо? Вот колбаса была американская. Тем более когда мы были за границей, там, если нас не кормить, мы мародерничать будем.
– Вообще знали о том, что происходит?
– А как же! Политрукам надо отдать справедливость, потому что, чтоб солдата чем-то поднять, дух-то, приходишь, сразу рассказываешь, что там-то под Сталинградом то-то, то-то.
И мы с одним кончили-то училище вместе, и его под Сталинград, а меня в Подмосковье, в Москву. И на фронте встретились. Он уже не кавалерист, а артиллерист. И он сбил самолет, который должен был бомбить мой эшелон. Мы смеялись, где-то бутылку самогона достали, выпили. Я поехал дальше, повез…
Слава богу, что не было у меня… Семь раз я ездил, не было ни одного дезертира по пути. Могли бы они и быть, но неслучайные дезертиры. Вот, мы везем кавалериста, а он танкист! Встречается полк. О! Да это танковый полк-то!
– Я же танкист. Чего ты меня везешь в кавалерию? Нашли мы путь.
– Танкист? Ладно.
Идем в танковый полк, в медсанчасть: «Давайте нам расписку, что мы вам сдали больного вот такого-то на лечение». Пишут.
– Печать ставьте.
Мы везем эту бумажку, что мы его сдали.
Спрашивает нас однажды начальник штаба:
– Чего, у вас ни одного дезертира нет?
– Мы очень хорошо воспитывали! Мы три раза в сутки проверяем.
– Ну, ведь врете. Врете.
– Товарищ майор, как это мы врем? Мы правду говорим.
– Вот я посылаю майоров, подполковников. У них то дезертир, то какое-нибудь ЧП, а у вас нету.
– Ладно. А нам будет чего-нибудь?
– Нет, ничего не будет.
– Мы встречаемся с другим полком или с другим эшелоном. Куда везете? Туда. Он просится: отпустите меня, иначе я убегу. Его и дезертиром-то не будешь считать – он в другом полку служит, а тут же будут искать его.
– Ну и чего?
– А вот мы и справки вам привозим, что такого-то сдали в медпункт на лечение – это отдали в другую часть.
– Только и всего?
– Только и всего.
Не было подсадок… подсаживают там… ЧП какие-нибудь. Мы просим этих бабочек: «Бабочки, хрен с вами! Хорошо, если они просто по вашей воле используют и один-два, а то весь вагон использует, что вы живой-то еле выйдете. Не садись, не садись! Хочешь, вон на заднюю площадку примащивайся. Мы попросим охрану, чтобы вас…» Только и всего. А если нас сопровождает который, СМЕРШ-то… Эти: «Нет ли кто-то чего-то сказал?» Ну откуда мы знаем, кто чего сказал?
И самое плохое – это когда бомбят в эшелоне, в конском. В Старой Русе нас бомбили раз. Люди-то выбежали, а лошади куда? И сам не отпустишь: если она убита будет, то хоть мясо, а если она убежит, и этим не отчитаешься – мяса-то нет. Как они, ой, ржут! Плачут прям! Просят выпустить их из вагона. И вот мы там 25 лошадей потеряли убитыми, а может быть, и убежали куда. И вот тоже, выпустить, но она жива, и где я ее потом искать-то буду!
Самое паршивое было, когда эшелон сразу вступает в бой. Вот привозишь, выгружаешься, тут же вооружают, и тут же в бой. Они друг друга не знают, офицеры их не знают. И мы просто радовались, когда мы сдаем там хотя бы за два-три дня до боя: они до боя хоть друг друга-то узнают.
А в зависимости… Вот мы в последний раз полтора месяца ехали. И все зависит, в каком положении… Вот я говорю, когда мы худых лошадей везли, нас медленно везли. Потому что, во-первых, нам дали корма больше, овса дали, Буденный распорядился. Да мы еще научились жульничать с овсом. Вначале-то не знали раза два, а потом научились. Как только остается на три дня или на четыре дня овса у нас, мы сразу получаем новый овес, заявляем, что мы едем дальше. Ну, нам дают. Мы иногда даже овес воюющим отдавали, потому что они давали нам расписку, что овес забирают, и мы мешочка полтора тащили назад, приходилось на водку.
В общем, так. Воевать не надо, не надо. Вот я хоть и против Горбачева, Ельцина, но, слава богу, не было гражданской войны.
– Как относились к немцам?
– В завимости, как он ведет себя. Если он сразу руки поднял, пожалуйста, разоружайся. Вот мы в деревне Алначи человек 30 пленных взяли под Новый год. Мы их одурили: они не знали, что мы не будем справлять Новый год, а мы все же решили не справлять, а взять деревню. И мы раненых разоружали: «Давай, давай…» Все лежат, все как будто раненые. Смотришь – перевязка: «Врешь, братец!» Сдернешь повязку – нет там никакой раны. Ну и было, когда неаккуратность была: пошлешь какого-нибудь лопушка в тыл их на сборный пункт отправить, а он откроет рот-то, и смотришь – не возвращается. Пойдешь – найдешь где-нибудь… А то что, как ее… жена Сахарова говорит, что три миллиона немок изнасиловали, не верю. По-моему, не было необходимости насиловать.
– С другими родами войск вам приходилось взаимодействовать или кавалерия все время отдельно?
– Кавалерия отдельно. Нет, но там же, выше-то… Взвод-то, какие взаимодействия? Взвод – это случайность, что, допустим, параллельно наступаем. А так, полк – единица боевая. Он может и с пехотным полком наступать, и с каким. И мы друг к другу, как говорится, в гости не ходили. Это сейчас некоторые трепачи: «Вот! Справа наступал такой-то полк!» Да мое дело – взвод! А так мы и с танкистами… У нас же группа была конно-механизированная. У нас были и механические части, и танковые. А так…
– Знали, кто против вас стоит, какие части? Доводили до вас?
– Нет. «Вот впереди в таком-то населенном пункте или там над такой-то рекой действует». В Венгрии, так венгры против нас действовали. Словаков мало, а венгров много. И в это время у них спесь-то пропала. Под Москвой мы одного пленного-то взяли. Ой, сколько у него спеси было! Он из десантников, выброшенный был с десантом. Он так себя вел! А тут уже, что ни ближе к концу войны, быстрее ручки подымают. И, как правило, как говорится, в массовом количестве, потому что одного-то могли и прибить. Чего-нибудь не понравилось – убил, да и все. А когда пять-шесть человек сдаются, то тут уже: «Вась. Вась».
Климов Александр Митрофанович

Александр Климов с матерью. Фото времен войны
Я родился в 1924 г., 24 апреля, в деревне Новоивановка, Симферопольский район. Отец у меня был донской казак, воевал у Деникина, в Крым попал вместе с Врангелем, за это его, когда все узнали, в 1932 г. исключили из колхоза. Мать моя – немка, девичья фамилия Моршель, и национальность матери мне приходилось скрывать всю войну. Только в 1983 г. я в первый раз указал в анкете, там был такой вопрос: «По какой причине родители попали за границу?» – что «По национальности». Так я всю жизнь скрывал это. В 1932–1933 гг. перенес голод, тогда весь Советский Союз голодал.
В 1933 г. отец умер от бронхита, и мы остались: мать, Оля, Тамара и я. Ходили с мамой в лес и желуди собирали. Но все пережили, мамины родственники, немцы, нам помогли. Выжили мы, живы остались. В Новоивановке я жил до 1941 г. В 1941 г. я, с неоконченными шестью классами, 16 марта поступил в школу железнодорожного отряда ФЗО (фабрично-заводское обучение) № 6 пос. Армянска. В ФЗО мы строили железную дорогу Армянск – Херсон. Там и застала меня война. Я как раз был дежурным по столовой, кто-то пришел и сказал: «Ребята, война, Севастополь бомбили!» Тут все расплакались, а я с матерью-то поругался, в отряд ФЗО по злости ушел. Что делать? Я подговариваю одного товарища, из соседней деревушки Бура, Сережу Маслякова, и мы с ним дезертировали из ФЗО, со станции Каланчак Херсонской области. Боялись железнодорожной милиции, но удачно домой пришли, пять суток побыли и вернулись в Армянск. Там видим – наши же вагоны, нашего отряда ФЗО стоят, с Каланчака притащили уже. Я говорю: «Сережа, что-то пахнет табаком», пошли мы в свой вагон, нам навстречу мастер идет: «Климов, Масляков, идите в штаб, возьмите на три дня отпуск и съездите домой». Ты понял? Берем еще на три дня, и я пообещал матери, что я вообще вернусь домой, ведь мы знали, что нас будут куда-то эвакуировать, я не хотел в эвакуацию. Но после моего возвращения в отряд наш состав ночью из Армянска был отправлен в эвакуацию. Когда в Джанкой прибыли, я решил сбежать. Вылез я из вагона на разведку, только отошел, а тут в пятнадцати метрах стоит милиционер-железнодорожник, я смотрю, у всех вагонов стоят с обеих сторон. Ведь нас было 600 человек, до Джанкоя 250 умудрились дезертировать. Я же сбежать не смог. Снова хотел сбежать в Мелитополе, но ребята меня уже отговорили, и так я попал в г. Магнитогорск 18 августа 1941 г. В этот день из Крыма были депортированы немцы, в том числе и моя семья. Так их выслали на Кавказ, потом они вернулись в Новоивановку в 1942 г., когда уже немцы Кавказ захватили.
В эвакуации из Магнитогорска нас ведут в Башкирию, больше суток шли пешком, один раз в день нас военная кухня кормила. Нас загнали в Башкирию, в какую-то деревню. Война только началась, но очень серьезно наши войска отступали. Я «розбышака» был, без отца рос, подговорил своих вернуться в Крым, в Магнитогорск возвращаться нельзя, там могут поймать нас, тогда за побег год давали. Так мы всемером, новоивановские и бутовские, пошли на юг, чтобы выйти к железной дороге. Там 80 км по степи. Мы же молодые были, не понимали. Так шли, как вдруг идут три женщины, мы обрадовались, вроде родных встретили. Спрашиваем: «Русские здесь живут? Вы откуда?» Они отвечают: «Там еще километров шесть пройдете, станица уральских казаков Сыртинская будет». Станица находилась в Кизильском районе Челябинской области. Пошли дальше. Заходим в станицу, сразу пошли в правление колхоза «Красный Урал». Заходим туда, а на стене висит карта примерно 1,5 м на 1 м, и флажками отмечены города, которые наши сдали уже. Так мы увидели, что Крым отрезан, теперь можно попасть домой только через Керчь. Вдруг заходит председатель, участник Гражданской войны, кавалерист. Спрашивает нас: «О, ребята, а вы откуда?» Мы отвечаем: «Заблудились, к вам зашли. А так в Крым идем». Председатель сразу: «Да вы что, какой Крым? В Крым уже не попадете. На фронте дела плохие, не дойдете, сейчас сентябрь месяц, у нас на Урале уже зима». Председатель предложил нам остаться в колхозе. У него трактора были, много пшеницы на полях стояло, а убирать некому. Часть станичников, кто воевал с Колчаком, еще раньше «воронок» забрал, а тех, кто партизанил или красноармейцем был, не говоря уж про молодых, всех на фронт забрали. А хлеба стоят, я же с 12 лет в колхозе. Расселили нас, я попал к тете Паше. Мы согласились в станице остаться, отвезли нас в бригаду, и я проработал 10 месяцев: с сентября 1941 г. по 10 июля 1942 г., когда меня призвали в армию. В июне, перед призывом, вступил в комсомол.
Когда нас призывали, как раз объявили, что создается 25-й уральский казачий дивизион, мы начали подбирать себе лошадей. У меня уже конь был, седло было, а потом это дело поломали, и я попадаю в г. Челябинск, в 25-й запасной лыжный полк. В августе месяце на лыжах не ходили? А я ходил, нам специальные дорожки из ржаной соломы сделали, как по снегу идешь. Гоняли там от темна до темна, готовили лыжный десант, с задачей запустить к немцам в тыл. Там я принял первую присягу, обычную, армейскую. Потом в конце сентября нескольких человек, в том числе и меня, выделили в отдельную группу и перебросили в г. Ялуторовск Омской области, в 13-й учебный минометный полк, где нас учили на младших командиров. Это был не учебный полк, а настоящий концлагерь: вокруг территории 3-метровые бетонные стены с железными штакетниками, кормили очень плохо. Меня как-то сразу назначили командиром отделения, шеврон подцепили. Я шустрый был, быстро изучил матчасть и способы стрельбы из миномета, вот меня и сделали мл. сержантом. Там такой случай произошел. Как-то попал дежурным по роте, на одну роту одна землянка была, мы сами, солдаты, строили. У меня был друг там, Коля Николаев, болел сильно, подняться не мог, но температуры не было, в медсанчасть его не брали, думали, что притворяется. У нас командиром взвода был Морозов, отличный мужик, разрешил Николаеву отлежаться, мороз 40 градусов, многие из нас во время учебы обмораживались. Вдруг заявляется в землянку командир роты, монгол по национальности. Я доложил, что все нормально, только один красноармеец больной. Тот в крик: «Какой больной? А, тот, что кантуется» – и к Коле: «Встать». Мой друг отвечает: «Я не могу встать, болею». Тогда командир за ноги его стягивает и начинает ногами бить. Я стоял-стоял – не выдержал, рядом пирамида была, винтовки со штыками. Я винтовку схватил и подбежал к ним: «Ты за что бьешь больного? Кто тебе дал такое право? В каком советском уставе сказано, что ты имеешь право избивать больного солдата?» А сам приставил штык ротному к груди, он аж белый стал, как стенка. Потом я опомнился, винтовку опустил. Он пулей вылетел из землянки. Думаю: «Ну все, военный трибунал, со штыком идти на командира роты». И что ты думаешь? Он об этом инциденте никому не сказал, меня бы судили, но и ему точно досталось бы, его бы тоже на фронт отправили, они все в этом учебном полку больше всего боялись на фронт отправиться. Я сам потом об этом случае комиссару рассказал. Вот так было.

Слева – Василий Враков, справа – Александр Климов. 1943 год
– А какие отношения у вас были с комиссаром?
– У меня с комиссаром всегда были отличные отношения. Потому что я был художником, рисовать умел, стенгазету там, лозунги. Один раз большую картину нарисовал: новый Дворец советов, который должны были строить, а над ним портрет Ленина В.И. Картину увидел полковой комиссар, она ему понравилась, он меня вызвал и спросил: «Есть ли у тебя разрешение рисовать Ленина В.И. и других вождей?», я говорю: «Какое разрешение? Нет, конечно», – комиссар ответил: «Жаль, конечно, но картину придется снять, а то вдруг ты что-то неправильно нарисовал». Тогда я сказал: «Товарищ комиссар! Все будет сделано, Ленин будет не мной нарисован». Я перебрал кучу газет, вырезал лицо, все закрасил, затушевал, так что получилось, что Ленин не мной нарисован. Так что отношения были у меня с комиссаром отличные. Вот я комиссару про случай с ротным и рассказал. Ротный мне трое суток гауптвахты дал, якобы за то, что я шинель потерял, а ее сержанты ротного украли. Но я на гауптвахту с легкой душой шел, значит, дальше дело не пошло. Отсидел я, когда вернулся, шинель и буденновка моя на месте висели. Так эта история и закончилась. Но с ротным мы врагами стали, пообещали, что если вместе на фронт попадем, то или я его пристрелю, или он меня. А через какое-то время нас уже готовились отправлять.
– Сколько обучение длилось?
– Положено шесть месяцев, но нас учили только четыре, после экзаменов я получил все то же звание мл. сержанта, хотя должны были сержанта присвоить. Это ротный постарался.
– Какие экзамены вы сдавали?
– Знание устава, остальные по оружию: миномет, пулемет, автоматы, винтовки. Что изучали, по тому и экзамены сдавали.
– Во время обучения чаще были практические занятия или больше теории давали?
– На полигон ходили часто, каждый день, но стреляли мало. Я учился на 50-мм миномете, мы очень мало стреляли. В основном загонят в лес, команда «К бою!», снег начинаешь раскидывать, а мороз градусов 35–40. Зарылся в снег и примерзаешь там, не дай бог. Нас взводный спасал, Морозов, он нашел баню в лесу, и когда сильные морозы были, по команде «К бою!» мы бежали в баню, и он там проводил теоретические занятия. Так нас гоняли весь день, пообедаешь, и снова в лес. Когда морозы стали поменьше, он нас тоже гонял, специальные окопы для минометов учились рыть в снегу. Когда в поле выгоняли, там окопы рыли с удовольствием. Можно было рапс найти, он длинный, как морковка, мы его отогревали и ели, кормили-то нас очень плохо.
– Всегда плохо кормили во время обучения?
– У нас считался «Ворошиловский паек», но, видно, воровали много. Так что этот учебный лагерь был для меня концлагерем.
В общем, после сдачи экзаменов нас отделили от остальных и отправили в г. Молотов, сейчас г. Пермь, в Бершицкие лагеря. Когда нас, младших командиров, привели в эти лагеря, приехал командир полка: две красивые лошади, на нем белый полушубок и розвальни у него белые. Как барон сидел. Мы таких командиров еще не видели. Он поднялся в санях: «Старшина!» Тот подбегает: «Товарищ полковник, младший комсостав построен!» Полковник как зарычит: «Слушай, старшина, ты где этих оборванцев собрал, по подвалам, что ли? Немедленно убрать, а завтра, чтобы здесь стояли младшие командиры». Мы действительно грязные стояли, не помню даже, чтобы в учебном лагере мы мылись, так нас прямо в баню. Мылись долго, после бани выдают обмундирование новое, с иголочки, теплые бушлаты, шапки-ушанки, две пары теплого белья. В лагере даже белья теплого не выдавали. Месяц потом отъедались, рядового состава не было, только командирский и младший комсостав. Офицеры каждый день пьянствовали. Затем, в январе, прибыли добровольцы, которых направляли под Сталинград. Мне в отделение достались двенадцать кавказцев из Иркутска и Магадана, они там сидели по 10 лет за убийство, но не бандитское, а по кровной мести. Кормить стали хуже, макуху, траву такую, для приварки собирали мои кавказцы. Их в Сталинград отправили, а нас никого не пустили, только четыре младших командира их сопровождали. Еще к нам прибыли моряки Тихоокеанского флота. Они уже отслужили по пять-семь лет, их почему-то без офицеров прислали, так с ними мог разговаривать только командир полка, всех остальных посылали: «Закрой дверь с той стороны!» Отличные ребята были. Что запомнилось: когда их переобмундировывали, они долго отказывались форму менять, пока им не доказали, что в черной форме на снегу немцы будут их, как куропаток, расстреливать. Матросы сдались, но оставили себе тельняшки и бескозырки. Нас, младших командиров, снова не пустили, хотя мы все на фронт рвались. Нас человек 160 было, решили опять возвратить всех в г. Ялуторовск, учиться на старшин. Ну, мы по примеру моряков бунтовать начали, перестали подчиняться командирам взводов, рот. Потом, уже в мае, в Ялуторовске, когда нас собрали, все уже были уверены, что нас бросят на фронт. Командир полка уже новый был, Герой Советского Союза, и командиры в Ялуторовске были уже новые, фронтовики. По фамилиям вызывали, спрашивали каждого: «Учиться будешь?» Я ответил: «Нет, я уже тут учился, разжалуйте в рядовые и отправьте на фронт». Из всей роты только человек 10 остались учиться дальше. Привели в расположение, построили, праздничный обед организовали. Подошел командир полка: «А вы знаете, куда мы всех вас, разгильдяев, отправляем?» Мы отвечаем хором: «Никак нет!» – «Мы решили отправить вас в воздушно-десантные войска, там такие разгильдяи нужны». А я и самолета в глаза не видел.









































