Читать книгу "Ни любви, ни роботов"
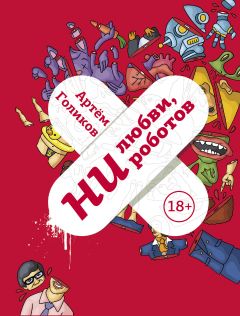
Автор книги: Артем Голиков
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Как писать идеальные каменты
назидание
Это было много лет назад.
– Учитель, позволено ли мне сказать?
– Говори.
– Учитель, я работаю в рекламном агентстве и пишу каменты. За годы я изощрил своё искусство, каменты мои ядовиты и остры, но всё же они не всегда попадают в цель. Как сделать так, чтоб мои каменты были не просто хороши, но идеальны?
Учитель посмеялся. Он взял ученика за руку и привёл на кладбище. Там он съел яблоко и бросил огрызок в траву.
Три года просидел ученик на кладбище, пытаясь понять ответ учителя.
За это время из того места, где огрызок упал на землю, выросла яблоня. Когда на яблоне распустился первый цветок, ученик понял всё.
Каждая жизнь кончается смертью, но смерть не является целью жизни.
Эфир – это кладбище рекламных роликов.
Писать каменты, приготовляющие ролик к эфиру, это всё равно что учить живого человека правильно лежать в гробу.
Весь мир прежних ценностей ученика умер и сгнил, как яблочный огрызок. Из семени истины вырос новый цветок, трепетный и прекрасный.
Ролик жив, пока он меняется. У изменений нет цели, изменения и есть цель.
Правильные каменты ведут не к чему, а от чего. Правильные каменты уводят ролик от той черты, за которой он застынет и упокоится.
Ученик познал истину и сам стал Учителем. Он вернулся в мир и написал очень много каментов. Все они были идеальны. В конце пути он оставил нам эти назидания:
Первый враг – логика. Убей в себе логику. Раздави как змею. Спросят – какой вариант выбрали? Отвечай – тот, что без звука. Спросят – но это же картинки, они все без звука? Отвечай – фиолетовый циркуль. Абсурд – твой щит. Хаос – твой меч.
Понятный камент – не камент. Это закон. Представь себе полководца. Если его действия понятны противнику – полководец проиграл.
Можно сломать гранитную колонну, но нельзя сломать облако. Любая определённость уязвима. Если говорить об идеальном каменте, то, как долго ни изучай его, всё равно нельзя сказать уверенно, это осмысленное руководство к действию или просто кот ходил по клавиатуре. До такого уровня нужно дорасти.
У хорошего камента есть одно свойство – нельзя определить, его уже внесли или ещё нет. Это сложное утверждение, приведу примеры:
«Сделайте логотип на 20 % больше», – камент не просто плохой, но жалкий. Любой крестьянин с «Макинтошем» может понять, внесли этот камент или нет.
«Сделайте логотип чуть больше», – лучше, но всё ещё плохо.
«Проверьте логотип», – хороший камент. Даже Будда не сможет понять, проверили уже логотип или нет, а если проверили – то на что.
Из этого свойства хорошего камента есть понятное следствие – хороший камент можно вносить бесчисленное число раз.
Может ли камент быть ещё лучше? Может.
«лог%?.в-е)» – вот пример идеального камента. Но до такого уровня нужно дорасти.
Каждый твой камент – это путь к тебе. Клиенты, коллеги, начальство, подрядчики – все они пытаются спровадить твой ролик в эфир. Все они читают твои каменты, и все они ищут в них твою уязвимость. Защити себя. Каждое твоё слово должно стать неразрешимой загадкой. Каждое предложение – непроходимым лабиринтом. Играй формой. Путай знаки препинания. Помни, про идеальный камент нельзя сказать уверенно, это вопрос, приказ, пожелание или крик ужаса. Про идеальный камент вообще ничего нельзя сказать. Исполнить идеальный камент не способен даже Будда.
Однако бойся впасть в формализм. Один арт-директор достиг довольно значительной степени просветления. На любой вариант дизайна он просто писал в ответ одно слово: «хуйня» – в этом состоял его путь. Метод был хорош, но всё же камент «хуйня» нельзя признать идеальным, потому что спустя пятнадцать лет начальство постигло тактику арт-директора, уволило его и возложило обязанность писать дизайнерам слово «хуйня» на местного курьера. Формализм уводит с пути.
Не вступай в прямую схватку с дизайнерами. Ты сильней любого из них, но дизайнеров слишком много. Пока ты ломаешь одного об колено своего сарказма, на перрон Ярославского вокзала выгружается ещё десяток таких же.
Будь как американский беспилотник – жаль откуда-то из-за туч, невидимый, неведомый, недосягаемый. (Когда я пишу «из-за туч», не надо понимать это буквально. Имеется в виду любая естественная преграда, подвал почтовой рассылки, например.)
Кружи, петляй, уклоняйся. Не давай припереть себя к стенке. Разговор по телефону – слитый раунд. Личная встреча – проигранная схватка. Визит в офис – потеря лица.
На всей земле нет тебе союзника верней, чем юрист. Хороший юрист может бесконечно долго не пускать ролик в эфир. Смелый юрист не юрист вообще.
Работай с постпродакшен-менеджером. Он – острие копья. Важно, против кого это острие будет направлено, против тебя или против дизайнеров. Дерзкая девочка с любовью к порядку сдаст твой ролик в эфир на день раньше срока. Аутичный мальчик, просто теряя письма и путая варианты, может сделать один работу целого агентства. Пол, разумеется, не имеет значения. Важно вот что: выбирая постпродакшен-менеджера, посмотри на его руки. Если палец, которым он жмет кнопку «форвард», хорошо развит и весь в мозолях – это твой человек.
Какие идеальные каменты ни пиши, всё равно рано или поздно придёт Дедлайн.
С Дедлайном нельзя справиться, ничто не может ему противостоять.
Каждый ролик рано или поздно попадёт в эфир. (Лишь только тот ролик не попадёт в эфир, в котором содержатся признаки статьи за оправдание гомосексуализма, но это уже другая история.)
И каждый из нас тоже рано или поздно уйдёт навек в великий эфир.
И всё забудется. Забудутся твои каменты, твои взлёты и неудачи. Все эти «проверьте логотип», «лог%?.в-е)» и «хуйня». Ролики твои забудутся даже раньше, чем кончится их ротация.
Только старая яблоня над чужой могилой каждую весну будет шелестеть новой листвой, напоминая о старой загадке, ответ на которую вы только что прочитали.
Говно
Было холодно, но не внешним, а каким-то безнадёжным внутренним холодом, какой бывает на похоронах. Дрожали собаки, дрожали собачники, дрожал Иннокентьев, дуя на пальцы и не веря беде: всю ночь шел снег, и парк, над которым трудились неделями, месяцами, за одну ночь приобрёл вид, как будто здесь вообще никто никогда не срал.
– Полгода жизни коту под хвост, – подвёл черту старик Толобоев.
Бросились было навёрстывать и очень скоро поняли – безнадёжно.
Самое страшное было, что снег не унимался, тихонько подсыпая и днём, и вечером. Уже к концу прогулки свежие плюхи едва читались, а на следующий день так и вообще пропадали из виду, и всюду царила эта злая, оглушительная чистота.
– Товарищи, положение катастрофическое. Я даже не говорю о том, чтоб вернуть прежнее покрытие, нам хотя бы бегло обозначить присутствие!..
«Вернуть прежнее покрытие», – Иннокентьев едва не заскулил – сколько сил, сколько труда, денег, наконец!
Весна вышла поздней, лето дождливым, но за короткую сухую осень успели многое.
Обоссали все скамейки, фонари и урны. В безлунную полночь идешь по парку, в самую темень, глаз выколи, а всё равно понятно – все обоссано.
Троекратно, с занесением в план обхода, под роспись, скрупулёзно обосрали все ключевые зоны парка (оба входа, главную аллею, детскую площадку и мостик). Прошлись по газону. Не забыли летнюю эстраду. Да что эстраду – в самый дальний глухой угол, в бурьян, в овраг, в репей по пояс, куда и люди-то не заглядывают, туда проберёшься – так и там – оп! на тебе! Лежит.
И тут…
– …Беру «Ролтон» просроченный. Завариваю в тазу… – (к прениям перешли, догадался Иннокентьев). – Пенопласт в него крошу. Для объёма. Битума на тёрочке туда же… Для цвета и для вязкости… «Макнагетс» ещё хорошо, если не очень свежий… Вот так зарядимся, и три-четыре ходки в день. Да толку-то?..
– …Вот вы смеялись, дескать, догу мяса надо вдесятеро, а говна всё равно как от пуделя. И где теперь ваши пуделя? Утонули? А мой вон! Видите?.. Нет, на пригорке… Подождите, была же… Ну, значит, всё уже, замело… едрить его…
– …Дамочка! Я беру пакеты целлофановые, и не то что за собой, я даже тёщино всё до крупиночки собираю и сюда ношу, да. И здесь разбрасываю. И что? И где оно? Ноль!..
– …Как вариант, крепим пуделей к догу скотчем, на манер авиабомб, по бокам. Имеем увеличение проходимости плюс говно от всех троих на поверхности. Причём, я так мозгую, пуделя от такой тряски даже бо́льшую территорию покроют, как думаешь, Петр Степаныч?..
– …Я говорю своей: Зин, я не буду в этом месяце вообще водоотведение оплачивать. Я ни разу на унитаз не присел, всё в пакет. И где оно? Ноль!..
– …Лопаточкой выкапываю и снова на поверхность кладу. Засыпает – я опять откапываю и опять на поверхность. А что? Я все свои места помню. Да у меня и в тетрадке записано…
– …А что если все силы только на детскую площадку бросить?..
Иннокентьев рассеянно курил, щурясь от проклятой белизны, машинально кивая словам товарищей. Потом набрался смелости, шагнул вперёд и приобнял за плечи Амальеву:
– А помните, как перед самым Новым годом мы во-он по той беседке проходились?
– Ночь, звёзды, – Амальева не обернулась, только мечтательно покачала головой, – и то ваша, то мой, то ваша, то мой…
– Плюшка к плюшке…
– Плюшка к плюшке.
– А теперь там один снег.
– Да. Теперь один снег…
– Жизнь разделилась на до и после, – подвёл черту старик Толобоев.
Срали месяц.
Многие взяли отпуска.
Тяжело, трудно и абсолютно бесполезно.
Собаки тряслись на тощих лапах, щурясь на снег мутными от диеты глазами…
И тут пришла оттепель. Сутки стоял туман, густой, как овсянка, а потом вышло солнце, и собачники ахнули. Снег, их неумолимый враг, холодный стерильный снег, неделями сковывавший парк, сошёл почти полностью, задержавшись только на тыльных сторонах пригорков и у корней старых лип, и всё пространство, насколько хватало глаз, теперь сверкало живым коричневым блеском.
Иннокентьев снял ботинки, носки, зажмурился и сделал шаг.
– Куда ты, оглашенный? Простудишься! – Но Амальева, смеясь, и сама не удержалась, стащила сапоги и, как в воду головой, припустила под горку.
Господи, сколько же вокруг было говна!
Снег вернул свою добычу сторицей, сверкало солнце, плясали собаки, и весь мир вокруг был одно блестящее жирное месиво.
– Черпанёшь!.. Черпанёшь же!.. – Злая нянька бранилась, пытаясь найти для своего карапуза незасранный снежный пятачок. Куда там!..
Иннокентьев и Амальева бежали, взявшись за руки, скользя и чавкая, слепые от счастья и слякоти, размазывая брызги по лицам и стёклам очков.
– Жизнь – это говно, а говно – это жизнь, – подвёл черту старик Толобоев. – Теперь парк до самого Покрова наш.
– А я, пожалуй, так пуделей и не буду отцеплять! – веселился владелец дога.
– Твоё право, папаша! – смеялся в ответ Петр Степаныч…
Вечером, когда подморозило и захрустело, собаки носились вокруг ещё заваленной снегом беседки, Амальева подставляла Иннокентьеву белую, пахнущую собакой шею и шептала:
– Только никогда не ври мне… – шептала Амальева. – Что угодно, любое говно, только не снег… Только не этот мёртвый, укрывающий душу, снег…
Живой труп
– Ого! Метра полтора тут, если не больше. – Продюсер Кирилл опасливо перегнулся через перила и побледнел.
– Шестьдесят пять сантиметров. Вот рулетка.
– А внизу плитка битая!
– Плитку уберём, мат подложим.
– Очень важно, чтоб всё натурально было.
– И будет.
– Нет, это пипец. Макс ни за что отсюда не прыгнет.
– Слушай, тут ребёнок прыгнет.
– Ребёнок прыгнет, а Макс говном изойдётся.
– Ну, Каскадёр Вадик прыгнет…
Каскадёр Вадик утвердительно затряс башкой – я прыгну. Я откуда хочешь прыгну.
Каскадёр Вадик был невероятно покладистым. Если в начале карьеры у него ещё путались под ногами и мешали в работе жалкие остатки инстинкта самосохранения, то после удачного падения с баржи головой в сваю он полностью с ними распрощался и с тех пор безропотно выполнял абсолютно всё, о чем бы его ни попросили.
К сожалению, в смысле характера Звезда Макс был прямой противоположностью Каскадёра Вадика.
Шпага тяжёлая. Кираса немодная. Шляпа с перьями полнит. Маленькие ботфорты опасные, а большие трут в паху.
Делали специальную шпагу из финского поролона, меняли кирасу на камзол, камзол на рубаху, рубаху на другой камзол, более креативный. Несчастная костюмерша выхаживала всю ночь по детской площадке, разнашивая ботфорты, – Макс скрипел и капризничал, всё ему не нравилось, во всём чувствовался подвох и желание сэкономить на жизненно необходимом актеру уровне лакшери.
– Выкинь кадр с прыжком из раскадровки. Вообще. Нет такого кадра! Начнём с фехтования, Каскадёр Вадик покажет Максу пару простеньких движений, у того получится. Макс раздухарится, помашет шпагой на свежем воздухе, хорошо пообедает, а потом ты его как бы невзначай подведёшь к перилам и перед лицом всей киногруппы ему уже будет неловко давать задний ход. Как идея?
Продюсер Кирилл ощутил легкую дурноту от предстоящей авантюры, и ноги его привычно подкосились от страха:
– А вдруг он всё равно откажется?..
– Нагони народу. Посади агентство прямо напротив этих злосчастных перил. Перед всеми не откажется, ему стыдно будет.
– А ему вообще бывает стыдно?
Макс не танцует. Макс не поёт. Макс не скачет на лошади.
Не занимается никаким спортом, тем более боевыми искусствами, тем более фехтованием, не водит машину, не играет на инструменте, не говорит ни на одном языке, кроме ставропольского.
– Пусть клиент с ним разбирается. Он Макса хотел – пусть сам его и уговаривает.
– Да. Пусть клиент… – Но тут Продюсер Кирилл так живо представил себе клиента, что едва успел отскочить в сторонку и приспустить штаны.
За неимением лучшего был принят план взять Макса на слабо.
Наступил страшный день съёмок.
Встали в пять утра, постояли под душем, помолились кому попало, долго тряслись в нетопленом «мерседесе».
К рассвету приехали на натуру, под градом капризов и упреков запихали Макса в средневековую амуницию, сунули в руку шпагу из финского поролона, напомнили текст, поставили в кадр, мужчины скрестили клинки, в первом же выпаде поролоновая шпага спасовала перед железной, и Каскадёр Вадик заколол Макса наповал.
Утратив речь, съёмочная группа склонилась над двумя бездыханными телами.
Справа, всё реже и реже подрагивая носком заботливо разношенной для него ботфорты, в расползающейся луже цвета гранатного сока отходил Звезда Макс.
Слева, с несвойственным ему выражением мира и спокойствия на лице, тоже в луже, но иной природы, в глубоком обмороке замер Продюсер Кирилл.
– Просили ж всё натурально!.. – непонятно к кому обращаясь, разводил руками Каскадёр Вадик. – Вот я и вот…
Киношники молчали.
Одни потрясены были неожиданно спорой, особенно по контрасту со съёмочными департаментами, работой старухи с косой.
Другие раздумывали о тонкой грани, разделяющей живую звезду и исходящий реквизит.
Третьи жалели продюсера, обеда, который вряд ли теперь объявят, а ещё больше своего гонорара за переработку.
Были и те, кто ничего не думал, а просто пялился на выставленный перед ними на гравии диковинный пэкшот.
Старый мудрый Камерамен, седой как лунь, протиснулся сквозь толпу, замер и некоторое время внимательно смотрел на покойного.
– А ведь теперь он, пожалуй, и прыгнет, – негромко, но чётко произнес он.
Все снова посмотрели на Звезду Макса, но уже другими глазами.
Продюсер Кирилл судорожно вздохнул и приподнялся, ему помогли сесть.
Да. Всем. Даже Каскадёру Вадику стало понятно, что да. Теперь ничего не мешает. Теперь он прыгнет.
– Ну, что встали? – Продюсер Кирилл, шатаясь, поднялся с земли и хлопнул в наливающиеся оптимизмом ладошки. – За работу!
– Раз, два, взяли!
– Ребята, вас видно было. Можете кидать Максимку чуть подальше?
– Принято!
– Будет дубль!
– Раз, два, взяли!..
Распластав в полете руки с грацией и бесстрашием тряпичной куклы, Макс снова и снова перелетал через перила и снова и снова рушился с высоты полутора метров в битую плитку двора.
– Ребят, умоляю, берегите лицо! Нам ещё крупный план снимать…
– Принято!
– Будет дубль!
– Раз, два, взяли!..
– Слушайте, я вот что подумал. Таким макаром Макс же теперь и плавать может?
– А ведь верно!.. Эх, жаль, что мы водный ролик не снимаем…
– Так, может, снимем? Тут неподалёку пруд есть?
– Прямо сейчас?
– А когда? Другого шанса не будет.
– А переработка?.. – И оба легко и весело засмеялись – нет у Макса теперь переработок.
За всю свою карьеру не испытал Макс столько съёмочного экстрима, сколько в первые семь дней после смерти.
Он плавал в ледяном и грязном пруду.
Скакал на бешеном коне.
Прыгал с парашютом и боролся с тигром.
Снимали Макса в две смены, дневную и ночную, пытаясь обогнать безжалостный процесс разложения.
Между дублями Макса подновляли гримёры и клали отдыхать в специально привезённый из города холодильник.
Не всё шло гладко.
Макс выпал из лодки, его затянуло под какую-то корягу, пока в темноте, чертыхаясь, шарили по дну баграми, Макса сильно поел сом.
Дурной конь испугался покойника, сбросил Макса в гравий и наступил ему копытом на лицо.
На долгой перестановке Макса забыли под деревом в лесу, и, пока хватились, Макс оттаял и потёк, бродячий пёс сделал с телом непристойность.
– Всё равно, такой Макс лучше, чем живой.
– Даже сравнения нет!
За неделю сняли семнадцать роликов.
Продюсеру Кириллу затянули разводным ключом митральный клапан, он всё ещё очень боялся, но уже чаще бывал в сознании и в пятницу даже прошелестел со слабой улыбкой что-то про некро-каннских львов и «настоящее творческое бессмертие».
Понимал ли клиент, что Макс мёртв?
Возможно.
Хотел ли он посреди кампании менять лошадей на переправе?
Едва ли.
Действительно ли ему был так важен последний ролик, в котором Макс танцует на лужайке с дружелюбными собаками и маленькими детьми?
Мы никогда этого не узнаем.
В первом же дубле по команде «начали!» разнонаправленные рукава хоровода рекламных детей дёрнули каждый в свою сторону и разорвали уже сильно потраченного Макса на куски. Пока останавливали камеру да ловили рекламных детей, что осталось от Макса доели рекламные собаки.
Налево пойдёшь – знаешь, что можешь.
Направо пойдёшь – знаешь, что можешь.
Здесь ждать будешь – знаешь, что можешь.
Просто, удобно, для тебя.
Мой маленький харви
Мне позвонила продюсер и сразу очень напористо перешла к делу.
Я не очень хорошо её знал. Я сказал, что не могу говорить, но она настаивала.
Она сразу спросила – ты хочешь проект?
Я не хотел проект, но я не знал, как она отнесётся к этому.
Возможно, ей будет неприятно слышать, что кто-то не хочет её проект.
Я сказал «пришли мне на почту». Она рассердилась. Она спросила – что-то не так с моим проектом? Она давила на меня. «Ты же хочешь мой проект?»
Каюсь, я не сказал твёрдого «нет», но «да» я тоже не говорил. Я хорошо это помню. Она поняла мои колебания в том смысле, что я очень хочу проект, но мне нужно соблюсти приличия.
Когда ты сидишь где-нибудь на даче, и смотришь на небо сквозь яблоневые ветки, и думаешь – ну да, я бы взял какой-нибудь проект… когда-нибудь… Когда буду умирать с голоду… И вдруг оказывается, что ты уже в проекте. Это непросто… Это надо принять…
Все про это знали. Знали, но молчали. Шептались по курилкам. Страшные рассказы о том, как люди из графики ходят на производственные встречи.
Упаси бог, я никого не осуждаю.
Просто…
Боже, мне казалось – уж со мной-то такого никогда не случится!
Но она просто не дала мне опомниться. Та женщина-продюсер. Она позвонила снова. Она сказала, что, если я теперь на проекте, я должен прийти к ней в офис. Вечером. У нас будет производственная встреча.
Я был в шоке. В панике. Я мямлил что-то про занятость, но она вдруг посмеялась и сказала, что на встрече будет много людей, поэтому она и называется производственной. Она стала вдруг ласковой и объяснила, что мне нечего бояться. Мы немного поговорим про графику, и я буду свободен. Это просто бизнес. Она даже предложила мне вызвать такси. Мне стало стыдно. Она посоветовала мне подъехать без пятнадцати, чтоб мы начали с вопросов хромакея и я бы пораньше освободился. Я смущённо поблагодарил за заботу, на всякий случай побрил ноги и поехал на метро.
Меня провели в длинную темноватую комнату с икеевскими стульчиками и фанерным столом. Никого ещё не было, но для этого я и пришёл заранее.
«Все через это проходят. Такой бизнес». Я походил по комнате, выбрал угол потемнее, уронил голову на лапы и стал ждать.
Долго ничего не происходило. Гудел вентилятор, мерцали лампы и всё.
Где-то через час пришла незнакомая женщина и спросила, не хочу ли я чего. Я сказал: очень хочу домой, она усмехнулась, поставила на стол воду в бутылках и печенье.
– Москва в пробках. Все немного опаздывают.
И снова ушла.
Минуты тянулись медленно.
Спустя ещё час или два всё вдруг оживилось, в переговорку начали заходить люди. Задвигались стулья, на столе появились кучи бумаг. К этому времени от нервов я уже съел всё печенье и выпил всю воду. Только все расселись, вошла женщина, и я понял – что это продюсер.
– Нет-нет, садись сюда. Напротив.
Я пересел, куда она сказала, хотя с этого места не очень удобно было обсуждать графику, и открыл было рот, но она улыбнулась, сделала жест рукой, чтоб я немного подождал, сразу погас свет, зажёгся экран, и все стали смотреть дополнительный кастинг дедушек, который в шестом кадре кряхтит и хватается за спину.
Первый час я держался.
«Здравствуйте… Назовите себя… Кряхтите… Хорошо, теперь кряхтите и хватайтесь за спину…»
Дедушкам не было конца.
Мы смотрели дедушку за дедушкой. Ещё через час у меня кровь текла из глаз. Я порывался уйти, но меня не пускали. Они хотели, чтоб я смотрел с ними.
«Кряхтите на камеру… Хорошо, теперь кряхтите в три четверти…»
Не знаю, зачем я был им нужен. Это было что-то очень нехорошее. Про компьютерную графику речи не шло. Мне кажется, они и не хотели её обсуждать. В темноте блестели глаза киношников, я слышал их спёртое дыхание, все смотрели дедушек, я смотрел с ними дедушек, продюсер смотрела на меня, и у неё изо рта текла слюна.
Я не помню, как я выбрался оттуда. Меня нашли на набережной.
Вы говорите с человеком, которого как-то раз принудили публично отсмотреть всех дедушек Москвы, хоть как-то способных кряхтеть. Да, это было в моей жизни. И это не забыть.
Я знаю, что вы скажете.
Прошло двадцать лет – где ты был всё это время?
Сколько за эти годы молодых и чистых ребят из графики прошли через ту переговорку, где под одуряющее жужжание проектора какие-то очень нехорошие люди заставляли их часами слушать обсуждения кэжуал джемпера или пончо для мамы, и как после съёмок сдать их со скидкой обратно в магазин? А напротив сидел жирный иностранный режиссёр в халате и пускал слюну?
Мог ли я что-то исправить?
«Нет, я не хочу с тобой проект. Ни при каких обстоятельствах. Даже если ты будешь последним продюсером на земле, и твой проект будет последним проектом, я не соглашусь на него. Разве что мне будут нужны деньги…»
В этом и есть корень проблемы.
Всем нужны деньги.
В Швеции готовится закон, по которому согласие посетить производственную встречу должно заверяться у специального омбудсмена. Если представителя компьютерной графики насильно вынуждают смотреть кастинг локейшенов «премиальных школьных столовых» больше трёх часов подряд – за это можно загреметь в тюрьму.
Достаточны ли эти меры? Борются ли они с причиной зла или вновь лишь пытаются купировать следствия?
Что если просто обеспечить всех потенциальных жертв домогательств достаточными финансовыми средствами, чтоб сделать их решение участвовать в тех или иных коллективных экзотических практиках независимым от капризов влиятельных мучителей?
В любом случае я рад, что об этом хотя бы стали говорить. Нарыв зрел давно.
Я лично никого не осуждаю и никого не виню.
Единственное, не могу, когда при мне кряхтят. Начинаю задыхаться.
«Кря-крях… мне на вас смотреть?.. или в камеру?.. кря-кря-крях!.. гляжу на вас, девушка, и на ум приходят неприличные стишки, вот послушайте, крях-крях…»
Если нас что и не убивает, то уж точно не делает крепче.
Может быть, немного честнее.










































