Текст книги "Сфинкс. Приключения Шерлока Холмса (сборник)"
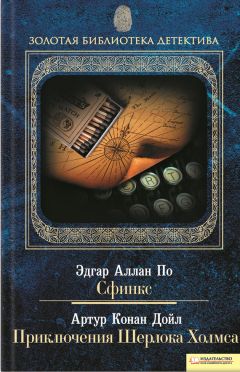
Автор книги: Артур Дойл
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Метценгерштейн
Ужас и рок во все века бродили по разным странам. Так стоит ли говорить, когда произошло то, о чем я буду повествовать? Достаточно сказать, что в то время, о котором я веду рассказ, во внутренних районах Венгрии укоренилась, правда, скрытая вера в доктрины метемпсихоза. О самих доктринах, то есть об их ложности либо же об их правильности, я говорить не стану. Однако вслед за Лабрюйером[17]17
Лабрюйер, Жан (1645–1696) – французский писатель-моралист.
[Закрыть], рассуждавшим о человеческом несчастье, я утверждаю, что большая часть нашего неверия «vient de ne pouvoir etre seule»[18]18
Проистекает от того, что мы не умеем быть одни. (Фр.)
[Закрыть].
Однако в суеверии венгров есть определенные особенности, которые граничат с абсурдом. Они (венгры) очень отличались от своих восточных правителей. К примеру, душа, утверждали первые (и тут я приведу слова одного весьма проницательного и образованного парижанина), «ne demeure qu’une seule fois dans un corps sensible: au reste – un cheval, un chien, un home même, n’est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»[19]19
Лишь раз вселяется в живую оболочку, будь то лошадь, собака, даже человек. Впрочем, разница между ними не так уж велика. (Фр.)
[Закрыть].
Домá Берлифитцинг и Метценгерштейн враждовали веками. Еще не было в мире, чтобы два столь блистательных рода испытывали друг к другу такую смертельную ненависть. Во время, когда произошла эта история, один старик изможденного и мрачного вида заметил, что «скорее огонь и вода сольются воедино, чем Берлифитцинг пожмет руку Метценгерштейну». Истоки этой неприязни, похоже, следует искать в словах древнего пророчества, которое гласит: «Высокое имя ждет страшное падение, когда смертность Метценгерштейнов, подобно всаднику над лошадью, восторжествует над бессмертием Берлифитцингов».
Конечно же, в самих этих словах смысла не много, если он вообще там есть, но мы-то знаем примеры, когда (причем не так давно) причины куда более заурядного характера приводили к последствиям столь же бурным. К тому же оба рода, земельные владения которых располагались рядом, с давних пор оказывали влияние на правительство. Кроме того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг с высоты своих величественных контрфорсов могли заглянуть прямо в окна дворца Метценгерштейнов. И более чем феодальная роскошь, обнаруживаемая таким образом, меньше всего могла унять раздражение менее родовитых и не таких богатых Берлифитцингов. Так стоит ли удивляться, что слова того предсказания, какими бы нелепыми они ни были, стали причиной непримиримой вражды между двумя семействами, и без того предрасположенными к ссоре переходящей из поколения в поколение завистью? Пророчество словно бы утверждало (если оно вообще что-либо утверждало) окончательное торжество и без того более могущественного дома, но о нем чаще и с большей горечью, что неудивительно, вспоминали представители дома менее влиятельного и сильного.
Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей своей высокородности, к описываемому здесь времени был уже дряхлым, выжившим из ума стариком, непримечательным ничем, кроме необузданной и закоснелой личной неприязни к семье своего соперника и до того страстной любви к лошадям и охоте, что ни почтенный возраст, ни дряхлость телесная и умственная не могли удержать его от опасностей ежедневных выездов на лов.
Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер совсем молодым, и мать, госпожа Мария, вскоре последовала за ним. Фредерику в то время шел пятнадцатый год. В городе пятнадцать лет – не так уж много. Ребенок в таком возрасте может быть еще ребенком, но в глуши, в глуши столь величественной, как это овеянное веками княжество, пятнадцать лет – возраст гораздо значительнее.
Прекрасная госпожа Мария! Как могла она умереть? И от чахотки! Но я молюсь о том, чтобы самому пройти такой путь. Смерти от этой нежной болезни я готов пожелать всем, кого люблю. До чего славно – уйти в расцвете, когда кровь молода, когда сердце преисполнено чувств, когда воображение горит – в воспоминаниях о днях большего счастья – под конец года, чтобы быть навсегда погребенным в изумительных осенних листьях!
Вот так умерла госпожа Мария. Когда юный барон Фредерик стоял у гроба усопшей матери, рядом с ним не было родственников. Он положил ладонь на ее безмятежное чело. По хрупкому телу его не прошла дрожь, уста его не исторгли вздоха. Бессердечный, своенравный и вспыльчивый с самого детства, к тому возрасту, о котором веду рассказ я, он пришел, познав бесчувствие, распутство и безрассудство кутежей; и в душе его давно уже пересох родник чистых помыслов и добрых воспоминаний.
Благодаря некоторым особенностям управления наследством отца юный барон вступил во владение всем огромным состоянием сразу же после его смерти. И до того мало кому из венгерских дворян доставалось такое несметное богатство. Замкам его не было счета, а красивейшим и самым большим из них был «Шато Метценгерштейн». Никто не знал наверняка, где заканчиваются принадлежащие ему земельные владения, но главный его парк простирался вокруг на пятьдесят миль.
Когда столь молодой и известный своим недобрым нравом хозяин вступил во владение отцовским наследством, ни у кого не осталось сомнений в том, какой образ жизни он будет вести. И действительно, за три дня наследник переиродил самого Ирода[20]20
Шекспировское выражение (см. «Гамлет», акт III, сцена 2).
[Закрыть] и превзошел все ожидания. Отвратительные бесчинства, ужасающие оргии, неслыханные гнусности быстро заставили его повергнутых в ужас вассалов понять, что ни самое подобострастное отношение к нему с их стороны, ни остатки его собственной совести не защитят их от безжалостных клыков этого маленького Калигулы. Вечером четвертого дня запылали конюшни замка Берлифитцинг, и безликая молва тут же приписала поджог к уже устрашающему списку чудовищных беззаконий и выходок барона.
Однако во время суматохи, вызванной этим событием, сам юный дворянин сидел, погрузившись в задумчивость, в огромных и пустынных верхних покоях родового дворца Метценгерштейнов. Со всех сторон барона окружали призрачные, загадочные фигуры его славных предков, изображенные на богатых, хоть и потускневших от времени гобеленах. Здесь священники в дорогих горностаевых мехах и папские сановники рядом с тираном и самодержцем налагали запрет на желания очередного светского короля или волей понтифика усмиряли самого врага рода человеческого. Высокие и смуглые князья Метценгерштейнские, своими воинственными ликами способные поразить даже самого выдержанного зрителя, восседали на могучих боевых конях, дыбящихся над телами поверженных врагов; чувственные лебединые станы высокородных дам давно минувших дней скользили в причудливом танце под звуки воображаемых мелодий.
Однако же, когда барон прислушался либо попытался прислушаться к постепенно усиливающемуся шуму в конюшнях Берлифитцинга – или, возможно, в тот миг он лишь задумался над новой хитроумной и еще более дерзкой выходкой, – взор его сам по себе устремился на огромного небывалой масти коня, изображенного на одном из гобеленов и принадлежавшего кому-то из сарацинских предков его противника. Сам конь, занимавший центральное место на гобелене, стоял неподвижно, точно изваяние, а на заднем плане его побежденного седока пронзал кинжалом кто-то из Метценгерштейнов.
Уста Фредерика тронула дьявольская усмешка, когда он осознал, на что непроизвольно направились его глаза. Но он не отвел взгляда. Напротив, его вдруг охватило непонятное ему страшное волнение, которое точно балдахином накрыло все остальные чувства. Ему стоило немалых сил стряхнуть с себя оцепенение, привести в порядок смешавшиеся мысли и убедить себя, что он не спит и видит это наяву. Но чем дольше он всматривался в изображение, тем сильнее становились чары, тем труднее было ему отвести взгляд от того гобелена. Лишь когда шум за стенами дворца неожиданно усилился, он, переборов себя, увидел багровые отблески, которые пылающие конюшни отбрасывали на окна зала.
Впрочем, внимание его отвлеклось лишь на мгновение, и уже в следующий миг взор его снова обратился к стене. К его неимоверному ужасу и удивлению, голова гигантского коня изменила положение. Шея животного, до того выгнутая аркой над распростертым телом хозяина, будто в скорби, теперь была вытянута во всю длину по направлению к барону. Глаза, до того невидимые, теперь были полны энергии и смотрели по-человечьи, хоть и сверкали необычайно ярким красным огнем, а за разверзнутыми губами явно разъяренной лошади были отчетливо видны огромные и отвратительные зубы.
Не помня себя от страха, юный дворянин неверной походкой подошел к двери. Когда он распахнул ее, вспышка кровавого света очертила на колышущемся полотне четким контуром его длинную тень, и он содрогнулся, заметив, что тень, когда он замешкался ненадолго на пороге, положением и формой в точности совпала с изображением непреклонного убийцы, торжествующего над умирающим сарацином Берлифитцингом.
Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, барон быстро вышел на свежий воздух. У главных ворот дворца он увидел трех конюших. С огромным усилием и подвергая опасности свои жизни, они удерживали мечущегося огромного коня огненно-красной масти.
– Чей конь? Откуда он у вас?! – сердитым охрипшим голосом вскричал юноша, ибо с первого взгляда понял, что загадочный жеребец из зала с гобеленами был как две капли воды похож на взбешенное животное.
– Он ваш, господин, – ответил один из конюших. – По крайней мере, никто не назвался его хозяином. Мы его поймали, когда он, исходя пеной и паром, как бешеный, выскочил из горящих конюшен замка Берлифитцинга. Подумав, что это один из заграничных коней, которых держит старый граф, мы отвели его назад. Но их конюхи никогда его раньше не видели, что очень странно, ведь по нему ясно видно, что он едва спасся от огня.
– И буквы «В. Ф. Б.» выжжены у него на лбу, – добавил второй конюший. – Конечно же, я решил, что это инициалы Вильгельма фон Берлифитцинга, да только все в замке в один голос твердят, что этот конь им не знаком.
– Необычайно странно! – произнес молодой барон с задумчивым видом, явно не осознавая смысла своих слов. – Это и вправду, как вы говорите, замечательный конь… Удивительный конь! Хотя, как вы правильно заметили, подозрительно, что у него не сыскалось хозяина. Хорошо, пусть он будет моим, – добавил он, немного подумав. – Может статься, что такой наездник, как Фредерик Метценгерштейн, сумеет усмирить даже самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.
– Вы ошибаетесь, господин, лошадь эта, о чем мы, кажется, уже говорили, не из конюшен графа. Уж мы-то свое дело знаем, и, будь оно так, мы бы ни за что не осмелились показаться с ней на глаза никому из вашего благородного семейства.
– Конечно! – сухо отозвался барон, и в то же мгновение из дворца выбежал комнатный слуга. Был он весьма взволнован, отчего весь раскраснелся. Слуга принялся нашептывать на ухо своему хозяину о неожиданном исчезновении части гобелена в спальных покоях, не обходя вниманием самые мелкие подробности и частности, но как бы тихо он ни говорил, ничто не ускользнуло от внимания сгоравших от любопытства конюших.
Юного Фредерика за время этого доклада поочередно охватывали различные чувства, однако вскоре он овладел собой, и лицо его сковало выражение решительности и злобы, когда он властным голосом приказал немедленно запереть указанное помещение на ключ, а ключ принести ему.
– Вы уже слышали о кончине старого охотника Берлифитцинга? – обратился к барону один из его вассалов, когда после ухода слуги огромный жеребец, которого этот аристократ согласился принять, пошел, брыкаясь, прыгая и вырываясь с удвоенной силой, по длинной дороге от дворца к конюшням Метценгерштейна.
– Нет! – ответил барон, резко поворачиваясь к говорившему. – Значит, он умер?
– Совершенно верно, господин, и благородному мужу с вашей фамилией это известие, я полагаю, не покажется дурным.
По лицу барона промелькнула быстрая усмешка.
– Как он умер?
– Он, не помня себя, бросился спасать своих любимых лошадей из охотничьего выезда и сгинул в огне.
– Во-о-от ка-а-ак! – протянул барон, точно его охватила какая-то внезапная и волнующая мысль.
– Да, – ответил вассал.
– Это ужасно! – холодно бросил юноша и спокойно повернул ко дворцу.
С того дня беспутный молодой барон Фредерик фон Метценгерштейн заметно изменился. Правда, перемены эти расстроили все ожидания и разочаровали надежды многих хитроумных мамаш, к тому же новые привычки и поступки юноши не шли ни в какое сравнение с образом жизни его аристократических соседей. Он вовсе перестал показываться за пределами своих владений, но и в этих необъятных и многолюдных просторах всегда проводил время в полном одиночестве – лишь загадочный бешеный конь огненной масти, который отныне почти все время был под его седлом, по какому-то непостижимому праву мог именоваться его другом.
Впрочем, еще долго юный аристократ получал многочисленные приглашения от соседей. «Не почтит ли барон своим присутствием наши празднества?», «Не желает ли барон присоединиться к охоте на вепря?» – «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не прибудет» – таковы следовали высокомерные, немногословные ответы.
Гордые дворяне не могли долго терпеть подобные систематические оскорбления. Приглашения становились все менее сердечными, стали приходить реже и реже, а со временем и вовсе прекратились. Поговаривали даже, что вдова несчастного графа Берлифитцинга как-то высказала уверенность, что «барон вынужден оставаться дома против своей воли, потому что он брезгует обществом себе равных, а верхом ему приходится ездить, даже когда ему этого совсем не хочется, из-за того что он предпочитает общество лошади». Несомненно, эти глупые слова были не более чем очередным примером злословия, ставшего обычным для обоих враждующих родов, и доказывали лишь то, насколько бессмысленными могут быть наши высказывания при попытках выразить что-то мудреное.
Тем не менее, настроенные более снисходительно склонны были видеть причину перемены молодого дворянина во вполне объяснимой скорби сына по безвременно почившему отцу, при этом, правда, напрочь забыв о тех бесчинствах, которыми отличалось его беспечное поведение сразу после недавней тяжелой утраты. Кое-кто заводил разговор о благородстве, о гордости и чувстве собственного достоинства, но были и такие (среди них стоит упомянуть и семейного врача), кто нимало не сомневался в том, что причина всему – смертная тоска и унаследованное от предков слабое здоровье. И все же большинство прислушивалось к недобрым пересудам более сомнительного характера.
В самом деле, извращенная привязанность барона к недавно доставшемуся ему коню – привязанность, которая обретала все большую силу с каждым новым примером яростного и демонического нрава этого животного – со временем в глазах всех здравомыслящих людей приобрела форму отвратительной и противоестественной страсти. Под полуденным солнцем и в мертвый ночной час, в болезни и в здоровье, в спокойствии и в волнении юный Метценгерштейн был словно прибит гвоздями к седлу исполинской лошади, чья упрямая непокорность столь гармонировала с его собственным духом.
Кроме того, были и другие обстоятельства, которые в сочетании с недавними событиями придали мистический и зловещий характер мании наездника и повадкам жеребца. Расстояние, которое мог преодолеть конь за один прыжок, было тщательно измерено и оказалось таким огромным, что превзошло все, даже самые невероятные предположения. Барон к тому же так и не дал имени животному, хотя имена всех остальных лошадей в его конюшне соответствовали тем или иным их особенностям. Помимо этого, жеребцу была отведена отдельная конюшня в стороне от остальных, а что касается ухода за конем, никто, кроме самого хозяина, ни за что на свете не отважился бы не то что прикоснуться к нему, но даже близко подойти к его стойлу. Следует также заметить, что, несмотря на то что трое конюших, перехвативших коня, когда тот вырвался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его при помощи цепной узды и аркана, ни один из них не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной борьбы хотя бы раз прикоснулся к телу животного. Примеры необычайного ума в поведении благородной и горячей лошади вполне обоснованно обратили на себя внимание – особенно тех, кто ежедневно выезжал верхом на лов и не понаслышке знал о смышлености этих животных, – однако существовали и особые обстоятельства, которые пронимали даже самых отъявленных скептиков и флегматиков. А еще, говорят, не раз случалось, что толпа зевак, наблюдающая за животным, в страхе подавалась назад, услышав, как глухо и многозначительно оно бьет копытом в землю; что сам юный Метценгерштейн становился белее мела и, охваченный ужасом, пятился от огненного коня, заметив, как тот умным человеческим глазом бросает на него быстрый и внимательный взгляд.
Среди всей свиты барона, однако, не было ни одного человека, кто сомневался бы в той удивительной страсти, которую вызывал в молодом дворянине горячий нрав его лошади. По крайней мере ни одного, кроме единственного невзрачного маленького пажа-калеки, чье уродство было предметом всеобщей насмешки и мнение которого не интересовало никого. Он – если его мысли вообще достойны упоминания – имел дерзость утверждать, что хозяин его всякий раз, запрыгивая в седло, почему-то едва заметно дрожал, а когда возвращался домой после ежедневных долгих выездов, каждая черточка его лица выражала преисполненное злорадства торжество.
Однажды в ненастную ночь Метценгерштейн, пробудившись от глубокого сна, точно обезумев, стремглав сбежал по лестнице вниз, запрыгнул на коня и умчался в лесные дебри. Подобное поведение с некоторых пор стало для него привычным, поэтому никто не придал этому событию особого внимания, однако возвращения хозяина домочадцы барона дожидались с необычайным волнением, ибо через несколько часов после его отъезда огромные величественные стены «Шато Метценгерштейн» затрещали и задрожали до самого основания под напором густого, яростного и безудержного пламени.
Когда пожар заметили, он достиг уже такой ужасной силы, что любые попытки спасти хоть часть здания были бессмысленны. Изумленные соседи молча и с жалостью наблюдали за буйством огня, но вскоре новый жуткий объект привлек к себе внимание большинства, доказав, насколько сильнее возбуждает толпу созерцание человеческой агонии, нежели любые, даже самые страшные катаклизмы, происходящие с неодушевленной материей.
По длинной старой дубовой аллее, тянущейся от леса к главным воротам дворца Метценгерштейн, конь, несший на себе растрепанного седока с непокрытой головой, мчался во весь опор, точно демон бури, и среди оцепеневших зрителей не было никого, кто, увидев его, не вскричал бы: «О, ужас!»
Всадник, вне всякого сомнения, уже не мог управлять лошадью. Отчаяние, написанное на его лице, и конвульсивные движения явно говорили о нечеловеческом напряжении, однако ни звука, кроме одного отчаянного вопля, не слетело с его истерзанных уст, прокушенных во многих местах от страха. Миг – и вот уже неистовый грохот копыт заглушил рев огня и завывание ветра. Второй – и, перескочив одним прыжком ворота и ров с водой, конь взлетел по ходящей ходуном широкой лестнице и вместе с всадником исчез в вихре огромных мечущихся языков пламени.
В тот же миг неистовство пожара точно рукой сняло, и воцарилась мертвая зловещая тишина. Белое пламя все еще окутывало саваном здание, и из него в спокойное небо исторгся луч сверхъестественного света, а на зубчатые стены древнего дворца тяжело опустилось густое облако дыма, формой неотличимое от колоссальных размеров… лошади.
Сфинкс
Во времена, когда Нью-Йорк охватила ужасная эпидемия холеры, я принял приглашение одного своего родственника провести с ним пару недель в его уединенном уютном коттедже на берегах Гудзона. Здесь было все, что нужно для приятного летнего отдыха. Мы могли гулять по лесу, рисовать, кататься на лодках, ходить на рыбалку или купаться, слушать музыку или предаваться чтению и вообще приятно и безмятежно проводить время, если бы не ужасные новости, которые каждое утро приходили из огромного города. Не было и дня, чтобы мы не узнавали о том, что болезнь поразила кого-нибудь из наших знакомых. Затем, когда смертность повысилась, мы научились жить в ожидании утраты кого-то из друзей. Поэтому вскоре уже каждое новое появление вестника стало ввергать нас в страх. Нам стало казаться, что даже ветер, дующий с юга, несет в себе запах смерти. Сия неотступная гнетущая мысль полностью завладела мною. Я не мог ни говорить, ни думать ни о чем другом, она преследовала меня даже во сне. Хозяин мой был не таким впечатлительным человеком, как я, и, хоть и сам пребывал в довольно подавленном настроении, как мог старался подбодрить меня. Однако его тонкому философскому уму было свойственно сугубо реальное восприятие действительности. Он был знаком и с чувством страха, но без каких-либо отклонений.
Его попытки вырвать меня из состояния необычайного уныния, в которое я впал, не имели успеха, причиной чему были определенные книги, найденные мной в его библиотеке, которые могли пробудить к жизни заложенные в моей душе семена наследственных суеверий. Хозяин мой не знал, что я читал эти книги, поэтому часто не мог понять, откуда мне приходят в голову те или иные бурные фантазии.
Любимой темой наших разговоров в ту пору стала расхожая вера в плохие приметы – вера, которую в тот период своей жизни я даже почти готов был защищать. Тема эта часто становилась объектом долгих и оживленных бесед – он настаивал на совершенной беспочвенности подобной веры, я же возражал ему, доказывая, что то или иное общественное мнение, возникающее совершенно самопроизвольно (другими словами, если оно ни на чем не основано), должно содержать в себе неоспоримые элементы истины, почему и требует к себе уважения в той же степени, что и интуиция, являющаяся не чем иным, как отличительной особенностью гения.
Все это я говорю вот к чему: вскоре после моего приезда в коттедж со мной произошло нечто, настолько необъяснимое и по природе своей столь сходное с дурной приметой, что у меня были все основания всерьез посчитать это самым настоящим знамением. Случай этот потряс меня и одновременно настолько смутил и удивил, что прошло немало дней, прежде чем я решился заговорить о нем со своим другом.
Ближе к завершению необычайно жаркого дня я сидел с книгой в руке у окна, из которого открывался широкий вид на берега реки, на далекий холм, обращенную ко мне сторону которого то, что принято называть оползнем, лишило большей части деревьев. Мысли мои уже давно занимала не лежащая передо мной книга, а мрачный опустевший город. И вот, когда я поднял глаза, взгляд мой пал на голый склон холма и на некий объект – то было чудовище ужасного вида, которое быстро спускалось с вершины к основанию холма, пока наконец не скрылось внизу, в густом лесу. Как только я это увидел, первой моей мыслью было: не сошел ли я с ума или, по крайней мере, могу ли я верить собственным глазам? Прошло немало времени, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не спятил и не сплю. Однако боюсь, читателям моим будет труднее поверить в это, чем мне самому, когда я опишу монстра, которого видел совершенно отчетливо и успел хорошо рассмотреть за время его спуска.
Приблизительно сравнив размер этого создания с диаметром стволов больших деревьев, рядом с которыми оно прошло (теми несколькими гигантами, которых не затронула ярость оползня), я пришел к выводу, что оно намного крупнее любого существующего линейного корабля. Я сравниваю его с линейными кораблями, потому что сам общий вид этого чудовища наводил на мысль о них. Форма корпуса одного из наших семидесятичетырехпушечников может довольно сносно передать общий контур его тела. Рот животного располагался на конце хобота, который в длину имел футов шестьдесят-семьдесят, а по толщине мог сравниться с телом среднего слона. Начало этого ствола было густо покрыто черной косматой шерстью (ее было больше, чем на шкурах нескольких бизонов), и из шерсти этой торчали нацеленные вниз и в стороны два блестящих клыка, напоминающих клыки дикого кабана, только несравнимо большего размера. Параллельно с хоботом, слева и справа от него, шли два гигантских образования длиной тридцать или сорок футов, по виду очень похожие на чистый кристалл и имеющие форму идеальной призмы – в них удивительно красиво отражались лучи заходящего солнца. Тело имело клинообразную форму, острым концом обращенную к земле. Из него торчало две пары крыльев (каждое длиной почти сто ярдов), причем одна пара располагалась над второй, и обе были покрыты густой сияющей металлическим блеском чешуей, каждая чешуйка – не меньше десяти-двенадцати футов в диаметре. Я заметил, что верхние и нижние слои крыльев соединялись крепкой цепью. Однако главной особенностью этого жуткого создания было изображение мертвой головы, которое сверкало белизной на его темной груди, занимая почти всю ее площадь, и было настолько четким и правдоподобным, будто его вывела кисть художника. Вглядываясь в это страшилище, и особенно в изображение у него на груди, я, охваченный ужасом и ощущением надвигающегося зла, которое не мог подавить силой разума, вдруг увидел, как громадные челюсти на конце хобота разверзлись, и из них исторгся звук столь громкий и столь скорбный, что я задрожал, точно услышав похоронный звон, и, прежде чем чудище скрылось среди деревьев у подножия холма, без чувств рухнул на пол.
Когда я пришел в себя, первым моим побуждением было, разумеется, рассказать о том, что я увидел и услышал, своему другу, и вряд ли я смогу описать то ощущение отвращения, которое в конце концов помешало мне это сделать.
Но как-то вечером, спустя три или четыре дня после этого случая, мы сидели в той же комнате, где мне явилось это видение, – я занимал то же место у того же окна, а мой друг расположился на диване рядом. Вызванные временем и местом ассоциации побудили меня рассказать ему о странном явлении. Он выслушал мой рассказ до конца и сначала от души рассмеялся, а потом сделался необычайно серьезен, будто мое безумие не вызывало у него сомнения. Однако случилось так, что в тот миг я снова отчетливо увидел чудовище, и, закричав от ужаса, указал на него. Он внимательно посмотрел туда, куда я указывал, но сказал, что ничего не видит, хотя я и описал ему во всех подробностях, как оно спускается по голому склону холма.
Теперь я встревожился не на шутку, поскольку был почти уверен, что видение это – не что иное, как знамение моей смерти, или, хуже того, предвестник помутнения рассудка. Я в отчаянии откинулся на спинку кресла и на несколько секунд закрыл лицо руками. Когда я отнял ладони от лица, видения уже не было.
Впрочем, к моему хозяину уже отчасти вернулось спокойствие, и он принялся подробно расспрашивать меня о том, как выглядело это создание. Когда я полностью удовлетворил его любопытство относительно головы животного, он глубоко вздохнул, точно сбросил с себя какой-то тяжкий груз, и с совершенным спокойствием, которое показалось мне даже жестоким, принялся рассуждать о различных аспектах спекулятивной философии, теме нашей прерванной беседы. Помнится, он (среди прочего) особенно настаивал на том, что главнейшим источником ошибок во всех умозрительных построениях было неотъемлемое свойство разума недооценивать или преувеличивать важность того или иного объекта вследствие неправильной оценки его отдаленности.
– К примеру, – говорил он, – для того чтобы точно установить, какое влияние на общество в целом может оказать распространение демократии, необходимо правильно себе представлять ту эпоху, когда подобное распространение может прийти к завершению. Но можете ли вы назвать хотя бы одного писателя, озаботившегося проблемами общественного уклада, который считал бы эту сторону данного вопроса заслуживающей обсуждения?
Тут он на миг замолчал, подошел к книжному шкафу и снял с полки один из учебников по естествознанию. Потом, попросив меня поменяться с ним местами (так ему лучше были видны напечатанные мелким шрифтом буквы), он занял мое кресло у окна и, раскрыв книгу, продолжил тем же тоном, что и прежде:
– Если бы не ваше подробнейшее описание чудовища, – сказал он, – я, возможно, так и не смог бы объяснить вам, что вы увидели. Но сначала, с вашего позволения, я прочитаю вам школьное описание рода Sphinx из семейства Crepuscularia класса Insecta, то есть насекомых. Итак: «Четыре перепончатых крыла, покрытые маленькими разноцветными чешуйками; рот в форме закрученного хоботка образован вытянутыми челюстями, по бокам от которых расположены рудиментарные жвалы и щупики. Нижняя пара крыльев соединяется с верхней жесткими волосками; усики имеют форму продолговатой булавы призматической формы; брюшко заостренное. Сфинкс Мертвая Голова часто вызывает страх у не знакомых с ним людей своей способностью издавать протяжный заунывный звук, а также узором, напоминающим символ смерти, который находится у него на щитке».
Тут он закрыл книгу, чуть подался вперед, не вставая с кресла, и принял ту же позу, в которой сидел я, когда заметил «чудовище».
– Ага, вот он! – почти сразу воскликнул мой друг. – Теперь он поднимается по холму. Признаю, это создание весьма необычно с виду! И все же оно не настолько велико и не так далеко от нас находится, как вам показалось. На самом деле оно карабкается по паутинке, которую какой-то паук протянул по окну. Я думаю, длина его – приблизительно одна шестнадцатая дюйма, и приблизительно одна шестнадцатая дюйма отделяет его от моего зрачка!









































