Текст книги "Изгнанники"
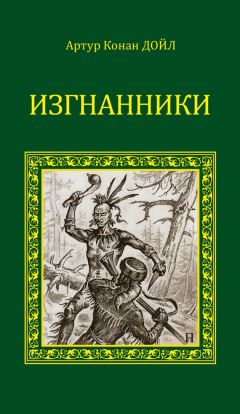
Автор книги: Артур Дойл
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Глава XVIII. Ночь неожиданностей
Если американец рассчитывал удивить или ободрить товарища своим коротким ответом, то он должен был испытать чувство печального разочарования, когда де Катина, подойдя к нему со смущенным видом, ласково положил руку на плечо.
– Я поступил эгоистично и глупо, милый друг, – произнес тот. – Я слишком много уделял места мыслям о своих мелких неприятностях и слишком мало – перенесенным вами. Падение с лошади потрясло ваш мозг сильнее, чем кажется. Прилягте на солому, постарайтесь соснуть немного и…
– Повторяю вам, что архиепископ там! – нетерпеливо крикнул Амос Грин.
– Да, да. Вот тут в кувшине вода. Я намочу шарф и обвяжу вам голову…
– Господи боже мой! Да слышите ли вы, наконец, – архиепископ там.
– Да, да, там! – успокаивал де Катина. – Он, наверно, там. У вас ничего больше не болит?
Американец потряс кулаками в воздухе.
– Вы думаете, что я рехнулся, – кричал он, – клянусь Богом, именно вы можете свести меня с ума. Когда я говорю, что мной послан архиепископ, я знаю, что говорю. Помните, как я исчез к вашему другу, майору?
Теперь очередь волноваться наступила для капитана.
– Ну? – крикнул он, хватая за руку Грина.
– Когда у нас посылают в леса разведчика, то при наличии важного дела через час посылают следом другого, и так далее, пока кто-либо из них не явится назад нескальпированным. Этот способ, употребляемый ирокезами, очень недурен.
– Боже мой! Ведь вы мой спаситель.
– Нечего так вцепляться в мою руку, подобно морскому орлу в форель. Итак, я вернулся к майору и попросил его, если он будет в Париже, пройти мимо дома архиепископа.
– Ну? Ну?
– Я показал ему вот этот кусок мела. Если мы были там, – предупреждал я, – то он увидит большой крест на левой стороне дверного косяка. Если креста нет, он должен войти в дом и попросить архиепископа отправиться во дворец как можно быстрее. Майор выехал через час после нас; он должен был прибыть в Париж в половине одиннадцатого; в одиннадцать епископ сел в экипаж и прибыл в Версаль полчаса тому назад, то есть около половины первого. Господи боже мой! Да он спятил с ума… и по моей вине.
Нет ничего удивительного, что молодой житель лесов испугался силы впечатления, произведенного его словами на приятеля. Тихой, методичной натуре американца не были присущи столь внезапные, сильные перемены в настроении, как у пылкого француза. Де Катина кружился по камере, размахивая руками и ногами; в лучах лунного света тень его уродливо кривлялась по стенам. Наконец, обессиленный, он бросился в объятия товарища, изливаясь целым водопадом благодарностей, восклицаний, похвал и обещаний, то гладя его, то прижимая к груди.
– О, если бы я мог чем-нибудь отблагодарить вас! – выкрикивал он. – О, если бы я мог!
– Есть способ. Ложитесь на солому и засните.
– И подумать только, что я, дурак, еще посмел насмехаться над вами. Я? О, вы здорово отомщены!
– Ради бога, ложитесь и спите.
Продолжая убеждать восхищенного приятеля и слегка подталкивая его, Грин уложил де Катина на солому, ею же прикрыв вместо одеяла. Волнения целого дня утомили де Катина, а эта неожиданность, казалось, отняла у него последние силы. Веки тяжело опустились, голова глубже уткнулась в мягкую солому. Последней сознательной мыслью осталось воспоминание о неутомимом американце, сидевшем с поджатыми ногами и при свете луны деятельно обтесывавшем длинным ножом один из чурбанов.
Был уже полдень и солнце сияло на безоблачном небе, когда молодой гвардеец наконец проснулся после перенесенных испытаний. Одно мгновение он в недоумении обводил вокруг глазами. Почему-то он лежал прикрытый соломой, а над ним висел потолок тюрьмы, в виде свода из неотесанных балок. Внезапно с быстротой молнии память вернулась. Он вспомнил происшедшее накануне: данное королем поручение, засаду, плен. Де Катина быстро вскочил на ноги. Товарищ его, дремавший в углу, так же быстро поднялся, схватив в руку нож и глядя с угрожающим видом на дверь.
– А, это вы? – воскликнул он. – А мне показалось, это опять тот человек.
– Разве сюда кто-либо входил?
– Да, принес два куска хлеба и кувшин с водой, как раз на заре, когда я уже собирался отдохнуть.
– Что же, он говорил что-нибудь?
– Нет, приходил, помните, тот, черный.
– Которого называли Симоном?
– Да, он самый. Положил все и ушел. Я думал, что, приди он еще раз, мы, может быть, сделали бы попытку задержать его.
– Каким же образом?
– Думаю, если связать ноги этими ремнями, он не так легко снимет их, как мы.
– Ну а затем что?
– Он сообщил бы нам, черт возьми, где мы и что намереваются делать с нами.
– Не все ли теперь равно, раз поручение короля выполнено?
– Может быть, для вас это так – о вкусах не спорят, – но не для меня. Я не привык сидеть в норе, словно медведь в берлоге, ожидая, что другие распорядятся моей судьбой. Париж мне показался достаточно тесным, но он – прерии сравнительно с этим местом. Оно вовсе не пригодно для человека моих привычек, и я собираюсь скоро выйти отсюда.
– Нам остается ждать, друг мой.
– Не знаю. Я больше надеюсь на это.
Он расстегнул камзол и вынул оттуда кусочек заржавленного железа и три маленьких толстых деревянных колышка, заостренных с одного конца.
– Где вы это достали?
– Это я сделал ночью. Выломал прут – самый верхний в решетке. Трудненько было вынуть его, ну да вот достал. Колышки я настрогал из этого чурбана.
– Для чего?
– Смотрите, один из них я вколачиваю в промежуток между камнями в виде ручки. Вот из этого чурбана я приготовил дощечку. Она может служить приступком и в состоянии вынести вашу тяжесть, если укрепить и держаться за колышек. Вот так. Видите, теперь вам можно влезть на нее и заглянуть в окно, не слишком утруждая пятки. Попробуйте сами.
Де Катина вскочил на чурбан и, пользуясь приспособлением Грина, поспешно выглянул в окно.
– Мне незнакома эта местность, – сказал он, покачивая головой, – но это, должно быть, один из тридцати замков, лежащих к югу, в шести или семи милях от Парижа. Кому он принадлежит? Кто и с какой целью так поступает с нами? Хотелось бы рассмотреть герб, чтобы по нему разобраться. Ах, вон там, кстати, посредине окна как раз и он. Но с моим зрением не разглядеть его издали. Уверен, что у вас, Амос, зрение куда лучше моего и вы в состоянии разобрать изображение на щите.
– На чем?
– На мраморной доске среднего окна.
– Да, я отлично вижу. Это нечто вроде трех глупых индюков, сидящих на бочке с патокой.
– Ну, бочка-то эта, может быть, башня. Она имеется в гербе у де Готвиль. Только это едва ли их замок; да у них и нет владений в этой местности. Нет, положительно не могу решить, где мы.
Де Катина хотел уже спуститься на пол, для чего ухватился за другой прут в решетке. К его изумлению, он остался у него в руках.
– Посмотрите, Амос, посмотрите! – крикнул он.
– А, вы заметили. Я сделал это сегодня ночью.
– Чем? Ножом?
– Нет, этим инструментом я ничего не смог сделать, но когда мне удалось вынуть прут из решетки, дело пошло побыстрее. Я вставлю этот прут на место, а то кто-нибудь снизу заметит, что мы выломали его.
– А можно вынуть и остальные?
– Сейчас только один, но ночью выломаем и другие два. Вы можете вынуть этот прут и орудовать им, а я употреблю в дело прежний. Смотрите, камень мягкий, и в нем легко выцарапать канавку, вдоль которой и вытащится прут. Будет чрезвычайно странно, если мы не устроим побега до утра.
– Ну хорошо, положим, мы выберемся во двор; куда же идти затем?
– Не все сразу, дружище. С такими рассуждениями можно застрять в Кеннебоке оттого, что не знаешь, как потом переправиться через Пенобскот. Во всяком случае, во дворе легче дышать, чем здесь, и если бы нам только удалось улизнуть через окно, мы смогли бы обмозговать и дальнейший план действий.
В продолжение целого дня приятели не могли ничего предпринять из-за боязни быть застигнутыми на месте преступления тюремщиком или кем-либо со двора. Никто не появлялся в камере. Они доели хлеб и выпили воду с аппетитом людей, зачастую не имевших и этой скромной пищи. Едва только наступила темнота, оба занялись приготовлением колышков, продалбливанием канавок на твердом камне и расшатыванием прутьев. Ночь выдалась дождливая, разразилась сильная гроза, и при блеске молний они могли видеть всю окрестность; тень от окна, обрамленного аркой, скрывала их. До полуночи им удалось наконец вынуть один прут, второй только что стал поддаваться дружным усилиям, как слабый шум сзади заставил их обернуться: посреди камеры стоял тюремщик, открыв рот и изумленно глядя на работу своих арестантов.
Де Катина первым заметил это и в одно мгновение кинулся с железным прутом в руке; при этом нападении тюремщик бросился к двери и только хотел захлопнуть ее, как брошенный Грином обломок прута просвистел мимо его уха и вылетел в коридор. Когда дверь с шумом закрылась, приятели посмотрели друг на друга. Гвардеец пожал плечами, американец свистнул.
– Не стоит и продолжать! – произнес де Катина.
– Не все ли равно, что делать. Пусти я прут на дюйм ниже, здорово бы ему попало. А может быть, его с испугу хватит кондрашка или он сломает себе шею, опрометью спускаясь с лестницы. У меня теперь нет орудия для работы, но если еще немного повозиться с вашим прутом – дело в шляпе. Ага, вы правы, нас затравят.
Раздался громкий удар колокола – и замок ожил: какие-то хриплые голоса отдавали приказания, слышался звук ключей, поворачиваемых в замках. Вся эта суета, внезапно возникшая в ночной тишине, слишком ясно указывала на поднятую тревогу. Амос Грин бросился на солому, засунув руки в карманы, а де Катина прислонился с угрюмым видом к стене в ожидании того, что сейчас с ними произойдет. Прошло, однако, пять минут – никто не появился. Суматоха во дворе продолжалась, но в коридоре, ведущем к камере, было совершенно тихо.
– Ну, я все-таки выну этот прут, – произнес наконец американец, вставая и подходя к окну. – Во всяком случае, узнаем, из-за чего весь этот шум и гам.
Говоря так, он влез на чурбан и выглянул в окно.
– Ого! Полезайте-ка сюда! – возбужденно крикнул он. – Тут такое творится, что им всем не до нас.
Де Катина взгромоздился на чурбан, и оба стали с любопытством смотреть вниз, во двор. Там в каждом углу горело по костру, а вся площадь была заполнена людьми с факелами в руках. Желтый отсвет падал на угрюмые серые стены так причудливо, что самые высокие башни казались золотыми на черном фоне неба. Главные ворота были открыты, и, очевидно, только что въехавшая в них карета стояла у маленькой двери как раз против окон арестованных. Колеса и бока кареты были забрызганы грязью, а лошади дрожали, поводя ушами, так, будто они только что пробежали длинный путь. Человек в шляпе с перьями, закутанный в дорожный плащ, вышел из экипажа и, обернувшись, стал тащить из него кого-то еще. Непродолжительная борьба, крики, толчок, и обе фигуры исчезли в дверях. Когда двери захлопнулись, карета отъехала, костры и факелы потухли. Главные ворота снова закрылись, и все погрузилось в тишину, как и до внезапного переполоха.
– Ну, – задыхаясь, проговорил де Катина. – Уж не поймали ли они еще какого-нибудь королевского гонца?
– Скоро здесь освободится место для целых двух, – проговорил Амос Грин. – Если они только оставят нас в покое, недолго мы пробудем в этой комнате.
– Хотел бы я узнать, куда ушел тюремщик?
– Может убираться куда ему угодно, лишь бы не появлялся здесь. Дайте-ка мне прут. Эта штука поддается. Нам легко будет выломать ее.
Он усердно принялся за работу, стараясь углубить в камне канавку, рассчитывая таким образом вытащить прут. Вдруг он остановился и настороженно замер.
– Гром и молния! – прошептал он. – Кто-то работает снаружи.
Оба стали прислушиваться. Со двора донесся стук топора, визг пилы и треск дерева.
– Что это они делают?
– Понять не могу.
– Вы видите их?
– Около самой стены.
– Кажется, я могу ухитриться посмотреть, – произнес де Катина. – Я тоньше вас.
Он высунул голову, шею и половину плеча в промежуток между прутьями и замер в таком положении. Приятель уже подумал, что он застрял, и принялся тащить его за ноги. Но де Катина повернулся сам без малейшего затруднения.
– Они строят что-то, – шепнул он.
– Строят?
– Да, там четверо людей с фонарем.
– Чем же они могут быть заняты?
– Я полагаю, навесом. Я вижу четыре ямы в земле, куда врываются столбы.
– Ну, мы не можем бежать, если под окнами есть люди.
– Верно.
– Но все же мы в состоянии докончить начатое дело.
Тихий лязг железа заглушался шумом снизу, становившимся все сильнее и сильнее. Прут поддался, и Грин стал медленно тащить его на себя. Как раз в тот момент, когда ему удалось освободить прут, между окном и лунным светом внезапно выросла голова в виде копны спутанных волос, с красовавшейся на них вязаной шерстяной шапочкой. Это внезапное появление так поразило Амоса Грина, что он выпустил из рук прут, соскользнувший с подоконника.
– Дурак! – раздался голос снизу. – Экий ты косолапый, на кой черт роняешь инструменты?! Гром и молния! Ты сломал мне плечо.
– Что там еще? – крикнул другой. – Право, Пьер, будь ты так же ловок на руку, как остер на язык, ты был бы первым столяром Франции.
– Как что, обезьяна? Ты уронил на меня инструмент.
– Я? Я ничего не ронял.
– Идиот! Еще хочешь заставить меня поверить, что железо падает с неба? Говорят тебе, ты ушиб меня, глупый, косолапый обормот!
– Ничего подобного! – возражала «копна». – Но, клянусь Святой Девой, если ты еще поговоришь, я спущусь с лестницы и расправлюсь с тобой.
– Тише, бездельники, – строго вмешался третий голос. – Если к рассвету работа не будет закончена, кое-кому сильно достанется.
И снова послышались удары топора и визг пилы. Голова то показывалась, то исчезала. Очевидно, владелец ее ходил по какой-то платформе, построенной под окном пленников, не видя и не думая о темном четырехугольном оконном отверстии над собой. Было уже раннее утро, и первые холодные отблески утренней зари уже начали прокрадываться во двор, когда рабочие ушли, окончив работу. Тогда только заключенные решились взобраться на окно и посмотреть, что те строили ночью. Оба невольно вздрогнули от неожиданного зрелища. Перед глазами высился эшафот.
Он представлял собой платформу из темных, грязных досок, только что сколоченных, но, очевидно, употреблявшихся и ранее для той же цели. Платформа была прислонена к стене замка и тянулась еще футов на двадцать дальше, а с более отдаленной стороны от нее спускалась вниз на землю широкая деревянная лестница. В центре размещалась плаха с верхушкой, изрубленной и покрытой ржавыми пятнами.
– Мне кажется, пора уходить, – промолвил Грин.
– Весь наш труд пропал даром, Амос! – печально промолвил де Катина. – Какова бы ни была поджидающая нас участь, – а она, по-видимому, не из привлекательных, – нам остается только ей покориться и вынести все с достоинством мужественных людей.
– Ну-ну, окно-то ведь открыто. Раз-два, и выскочили.
– Бесполезно. Вон глядите, там, на дальнем конце двора, уже строй вооруженных людей.
– Целый отряд. В такую рань.
– Да, а вот движутся и еще. Взгляните на средние ворота. Господи боже мой, что там такое?
Дверь замка на противоположной стороне отворилась, и оттуда вышла странная процессия. Впереди, попарно, шли две дюжины лакеев, с алебардами в руках, в одинаковых коричневых ливреях. За ними выступал громадный бородатый человек с засученными по локоть рукавами, с большим топором на левом плече. Затем, с открытым молитвенником в руках, бормоча молитвы, шел кюре; в тени виднелась женщина в темной одежде, с обнаженной шеей. На голове ее была черная вуаль, спадавшая на склоненное лицо. Сразу за ней выступал высокий, худой человек с красным, свирепым лицом и грубыми чертами. На голове у него была плоская бархатная шапочка с орлиным пером, прикрепленным бриллиантовой застежкой, сверкавшей при утреннем свете. Но темные глаза его горели еще ярче и светились из-под густых бровей безумным блеском, отражавшим и угрозу, и ужас. Ноги его дрожали, черты лица конвульсивно подергивались; он производил впечатление человека, с трудом сдерживавшего торжество, наполнявшее его душу. Женщина нерешительно остановилась у подножия эшафота, но шедший за ней человек толкнул ее с такой силой, что она споткнулась и упала бы, не ухватись за руку священника. Поднявшись на верх лестницы, она увидела роковую плаху, страшно вскрикнула и отшатнулась в ужасе. Но мужчина снова толкнул ее, а двое из слуг, схватив за кисти рук, потащили дальше.
– О Морис, Морис! – кричала она. – Я не готова к смерти. О, прости меня, Морис, если желаешь сам быть прощенным. Морис, Морис!
Она пыталась приблизиться к нему, схватить за руку, за рукав, но он стоял, положив руку на эфес шпаги, и все лицо его сияло злобной радостью. При виде этого ужасного насмешливого лица мольба замерла на ее устах. Молить было так же бесполезно, как просить милостыню у падающего камня или мчавшегося потока. Женщина отвернулась, откинув с лица вуаль.
– Ах, король, – продолжала она. – Если бы вы могли теперь взглянуть на меня!
При этом восклицании и при виде прекрасного бледного лица наблюдавший из окна эту сцену де Катина почувствовал, как сжалось у него сердце. Перед ним, у плахи, стояла самая могущественная, самая умная и самая прекрасная из женщин Франции – Франсуаза де Монтеспан, еще так недавно фаворитка короля Людовика XIV.
Глава XIX. В кабинете короля
В ту ночь, когда королевским гонцам пришлось испытать столько необычайных приключений, король сидел один в своем кабинете. С разрисованного потолка над его головой опускалась изящная лампа, поддерживаемая четырьмя маленькими крылатыми купидонами на золотых цепях, и разбрасывала по комнате яркий свет, отражавшийся в бесчисленных зеркалах. Мебель черного дерева с отделкой из серебра, роскошные ковры, шелка, гобелены, золотые вещи и тонкий севрский фарфор – все лучшее, что производила промышленность Франции, сосредоточилось в этих стенах. Каждая вещь представляла собой художественную редкость. А владелец всего этого богатства и блеска, мрачный и угрюмый, сидел опустив подбородок на руки, опершись локтями на стол и устремив рассеянный взгляд на противоположную стену.
Но хотя его темные глаза и смотрели на стену, они, казалось, ее не видели. Быть может, они были обращены назад, в прошлое, во времена золотой юности, когда мечты и действительность так перемешивались друг с другом. Сон или действительность – вот эти двое людей, склонившихся над его колыбелью, один в темной одежде, со звездой на груди, которого его учили звать отцом, другой – в длинной красной мантии, с маленькими блестящими глазами? Даже теперь, по прошествии более сорока лет, королю внезапно представилось живым это злое, хитрое, властное лицо, и он снова увидел старого Ришелье, великого невенчанного короля Франции. А затем другой кардинал, длинный, худой, отбиравший у него карманные деньги, отказывавший ему в пище и одевавший его в старое платье… Как отчетливо воскресает в памяти день, когда Мазарини нарумянился в последний раз, и весь двор танцевал потом от радости при известии, что кардинала не стало. А мать? Как она была прекрасна и властна. Вспомнилось, как храбро она держалась во время войны, сломившей могущество вельмож, и как, уже лежа на смертном одре, умоляла священников не пачкать завязок ее чепца Святыми Дарами. Потом мысли понеслись к тому времени, когда он сделался самостоятельным: вот он сбавил спесь своей знатной аристократии, добившись того, чтобы быть не только деревом среди окружавших равных деревьев, но и остаться одному, высоко раскинув ветки над всеми остальными, и своей колоссальной тенью покрыть всю страну. Промелькнули перед глазами веденные им войны, изданные законы, подписанные договоры. Под его искусным правлением Франция расширила свои границы и к северу, и к востоку, а внутри спаялась как монолит, где слышался только один голос, голос его, короля. Вот замелькала галерея бесчисленного ряда очаровательных женских лиц. Олимпия Манчили, итальянские глаза которой впервые указали ему, что есть сила, могущая управлять даже и королем; ее сестра Мария Манчили; жена со своим смуглым личиком, Генриетта Английская, безжалостная смерть которой поразила его сердце ужасом неизбежного; Лавальер, Монтеспан, Фонтанж. Одни умерли; другие в монастырях. Блиставшие некогда красотой и утонченностью разврата, теперь остались только с последним. А что же в результате всей этой беспокойной, бурной жизни? Он перешагнул уже грань зрелых лет, потерял вкус к удовольствиям юности; подагра и головокружения постоянно напоминают ему о существовании иного царства, которым он не может уже надеяться управлять. И за все это долгое время им не приобретено ни единого верного друга ни в своей семье, ни среди придворных, ни, наконец, в стране – никого, за исключением разве той женщины, на которой он собирался жениться в эту ночь. Как она терпелива, добра, какие у нее возвышенные мысли! С ней он надеялся загладить истинной славой все грехи безумного прошлого. Только бы приехал архиепископ! Тогда он будет знать, что она действительно принадлежит ему.
Кто-то постучал в дверь. Людовик поспешно вскочил с места, полагая, что, вероятно, приехал архиепископ. Вошел камердинер с докладом, что Лувуа испрашивает аудиенции у короля. Вслед за ним появился и сам министр. В руке у него болталось два кожаных мешка.
– Ваше величество, – проговорил он, когда Бонтан удалился, – надеюсь, я не мешаю вам.
– Нет, нет, Лувуа. Сказать по правде, мои мысли стали надоедливыми и я рад расстаться с ними.
– У вашего величества могут быть только приятные размышления, – продолжал Лувуа. – Но я принес вам нечто, что сделает их еще интереснее.
– А что именно?
– Когда многие из наших молодых дворян отправились в Германию и Венгрию, вы мудро изволили заметить, что было бы желательно пересматривать письма, посылаемые ими на родину, а также быть в курсе новостей, получаемых ими от здешних придворных.
– Да.
– Вот они: полученные из заграницы здесь в этом мешке, а в другом – те, которые следует отослать. Воск распущен в спирте, и таким образом письма вскрыты.
Король вынул пачку конвертов и взглянул на их адреса.
– Действительно, мне хотелось бы прочесть правду в сердцах этих людей, – заметил он. – Только таким способом могу я узнать истинный образ мыслей низкопоклонствующих передо мной придворных. Полагаю, – добавил он, и подозрение внезапно блеснуло в глазах короля, – вы сами предварительно не проглядывали этих писем.
– О, я скорее умер бы, ваше величество.
– Вы клянетесь?
– Да, надеждой на спасение моей души.
– Гм. Я вижу на одном из этих конвертов почерк вашего сына.
Лувуа изменился в лице.
– Ваше величество еще убедится, что в ваше отсутствие он предан вам так же, как и в вашем присутствии, иначе он не сын мне, – пробормотал он.
– Ну так начнем с него. Тут и всего-то несколько строчек. «Милейший Ахилл, как я жажду твоего возвращения. При дворе после твоего отъезда нависла скука, словно в монастыре. Мой забавный отец по-прежнему выступает индюком, как будто медали и кресты могут скрыть, что он не что иное, как старший из лакеев, имеющий власть не более меня. Он выуживает у короля массу денег, но я не могу понять, куда он их девает, так как на мою долю перепадает мало. Я еще до сих пор должен десять тысяч ливров моему кредитору. Если не повезет в ландскнехте, придется скоро приехать к тебе». Гм! Я был несправедлив к вам, Лувуа: очевидно, вы не просматривали этих писем.
Во время чтения этого документа министр сидел с побагровевшим лицом и вытаращенными глазами. Когда король окончил, Лувуа почувствовал облегчение по крайней мере в том отношении, что здесь не было ничего, серьезно компрометировавшего его лично; но каждый нерв в его громадном теле трепетал от ярости при воспоминании о тех выражениях, которыми обрисовал его портрет молодой повеса.
– Змея! – прошипел он. – О, подлая змея в траве! Я заставлю его проклинать день своего рождения.
– Ну-ну, Лувуа! – успокаивал король. – Вы человек, видавший виды на своем веку, и должны бы стать философом. Пылкая юность частенько болтает больше, чем думает. Забудьте об этом. А это чье? Письмо моей дорогой девочки к мужу, принцу де Конти. Я узнал бы ее почерк из тысячи других. Ах, милочка, она не думала, что ее невинный лепет попадет мне на глаза. Зачем читать письма, когда мне вперед известно все, что происходит в этом невинном сердце?
Он развернул душистый листок розовой бумаги с нежной улыбкой, но она исчезла, только глаза пробежали страницу. С гневным выкриком, прижав руку к сердцу, король вскочил на ноги. Глаза его не отрывались от бумаги.
– Притворщица! – кричал он задыхающимся голосом. – Дерзкая, бессердечная лгунья. Лувуа, вы знаете, что я делал для принцессы. Вы знаете, я берег ее как зеницу ока. Отказывал я ей когда-либо в чем-либо? Что я не сделал для нее?
– Вы были олицетворением доброты, ваше величество, – почтительно согласился Лувуа, собственные муки которого несколько утихли при виде страдания его повелителя.
– Послушайте только, что она пишет обо мне. «Старый ворчун все такой же, только подался в коленях. Помните, как мы смеялись над его жеманством? Ну, он бросил эту привычку и хотя еще продолжает расхаживать на высоких каблуках, словно нидерландский житель на ходулях, но зато перестал носить яркие одежды. Конечно, двор следует его примеру, и потому можете себе представить, что за веселым пейзажиком стало это место. Та женщина все еще находится в фаворе, и ее платья столь же мрачны, как и одежды отца. Когда вернетесь, мы с вами уедем в наш загородный дворец и вы оденетесь в красный бархат, а я в голубой шелк. Тогда у нас будет по крайней мере свой цветной двор, несмотря на кичливость отца».
Людовик закрыл лицо руками.
– Слышите, как она выражается про меня, Лувуа?
– Это ужасно, государь, ужасно.
– Она дает прозвища мне… мне, Лувуа.
– Возмутительно.
– А что она пишет о коленях… Можно подумать, что я уже старик.
– Стыд! Но, ваше величество, умоляю вас вспомнить, что философия должна помочь вам смягчить свой гнев. Юность всегда бывает пылкой и болтает не то, что думает. Забудьте об этом.
– Вы говорите глупости, Лувуа. Любимое дитя восстает против отца, а вы советуете мне не думать об этом. Ах, еще один лишний урок королю: менее всего доверять людям, даже близким ему по крови. А это чей почерк? Почтенного кардинала де Бильона? Можно потерять веру в родных, но уж этот-то святой отец любит меня, не потому только, что обязан мне своим положением, нет, но и потому, что по свойственным его натуре чувствам он чтит и любит тех, кого Бог поставил над ним. Я прочту вам его письмо, Лувуа, в доказательство того, что верность и благодарность еще существуют во Франции. «Дорогой принц де Ла-Рош». Ах, вот кому он пишет… «В момент вашего отъезда я дал вам обещание извещать вас время от времени о том, как идут дела при дворе; ведь вы советовались со мной, привозить ли туда вашу дочь, в надежде, что она, быть может, обратит на себя внимание короля». Что? Что тут такое, Лувуа? Что это за мерзость? «Вкус султана все ухудшается. По крайней мере, де Фонтанж была самой очаровательной женщиной Франции, хотя, между нами говоря, цвет ее волос был слишком красноватого оттенка – это превосходный цвет для кардинальской мантии, мой милый герцог, но для дамских волос допустим только золотистый оттенок. В свое время Монтеспан была также далеко не дурна собой, но теперь, представьте себе, он связался со вдовой старше себя, женщиной, даже не старающейся делать себя более привлекательной. Эта старая ханжа с утра до ночи или стоит на коленях перед аналоем, или сидит за пяльцами. Говорят, декабрь и май составляют плохой союз, но, по моему мнению, два ноября еще хуже». Лувуа, Лувуа! Я не могу дальше. Есть у вас lettre de cachet?[7]7
Королевский указ о заточении без суда и следствия (франц.).
[Закрыть]
– Вот, ваше величество.
– Для Бастилии?
– Нет, для Венсенской тюрьмы.
– Очень хорошо. Проставьте имя этого негодяя, Лувуа. Прикажите арестовать его сегодня же вечером и отвезти в его собственной коляске. Бесстыдный, неблагодарный негодяй, сквернослов! Зачем вы принесли эти письма, Лувуа? О, зачем пошли навстречу моей безумной прихоти? Боже мой, на свете нет ни правды, ни чести, ни верности!
Он в порыве гнева и разочарования топал ногами, потрясая кулаками в воздухе.
– Прикажете спрятать остальные? – поспешно осведомился Лувуа. С момента начала чтения он чувствовал себя как на иголках, не зная, какие сюрпризы могут последовать дальше.
– Положите письма назад, но оставьте мешок.
– Оба?
– Ах! Я забыл про другой. Если около меня только лицемеры, то может быть, вдали найдутся честные подданные. Возьмем наудачу одно из писем. От кого это? А, от герцога де Ларошфуко. Он всегда производил на меня впечатление скромного и почтительного молодого человека. Что тут? Дунай… Белград… великий визирь… Ах! – Людовик вскрикнул, словно получив удар в самое сердце.
– Что случилось, ваше величество? – произнес министр, приближаясь к королю, выражение лица которого его испугало.
– Прочь их, прочь, Лувуа. Возьмите прочь! – кричал король, бросая пачку писем. – Как бы я желал никогда не видеть их. Не хочу читать. Он посмел насмехаться даже над моей храбростью, мальчишка, лежавший еще в колыбели, когда я уже сидел в траншеях. «Эта война не понравится королю, – пишет щенок. – Тут придется давать сражения, а не вести те милые, спокойные осады, сапой, которые так нравятся ему». Клянусь Богом, негодяй ответит головой за эту шутку. Да, Лувуа, дорого обойдется де Ларошфуко эта насмешка. Но возьмите их прочь. Я уже насытился по горло.
Министр принялся укладывать письма обратно в мешок, когда внезапно на одном из них ему бросился в глаза смелый, четкий почерк госпожи де Ментенон. Словно демон шепнул ему, что в руках оружие против той, одно имя которой наполняло его сердце завистью и ненавистью. Если здесь окажутся какие-либо иронические замечания, то можно даже теперь, в последний час, отвратить от этой ханжи сердце короля. Лувуа был хитрым, пронырливым человеком. Он моментально понял значение этого шанса и решил им воспользоваться.
– А, – проговорил он, – вряд ли нужно распечатывать это письмо.
– Которое, Лувуа? От кого еще?
Министр подсунул ему письмо. Людовик вздрогнул, увидев надпись.
– Почерк госпожи де Ментенон, – прерывисто произнес он.
– Да, письмо к ее племяннику, в Германию.
Людовик нерешительно взял письмо. Потом внезапным движением бросил его в кучу других, но вскоре рука его снова потянулась за ним. Лицо короля побледнело, и капли пота показались на лбу. А если и оно окажется таким же, как и другие? Вся душа его была потрясена при одной этой мысли. Дважды он старался побороть свое любопытство, и дважды его трепещущие руки касались этой бумаги. Наконец он решительно бросил письмо Лувуа.









































