Текст книги "Чёрный монах"
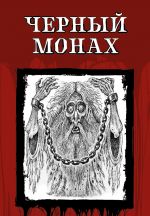
Автор книги: Артур Дойл
Жанр: Ужасы и Мистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
IV
Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, – сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, – и уже она была с ним в переписке, – и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала… до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.
– От кого вы все это знаете? – спросила она смеясь.
– От приятеля известной вам особы, – отвечал Томский, – человека очень замечательного!
– Кто ж этот замечательный человек?
– Его зовут Германном.
Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели…
– Этот Германн, – продолжал Томский, – лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..
– У меня голова болит… Что же говорил вам Германн, – или как бишь его?..
– Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе… Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.
– Да где ж он меня видел?
– В церкви, может быть, – на гулянье!.. Бог его знает! Может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет…
Подошедшие к ним три дамы с вопросами – oubli ou regret?[23]23
забвение или сожаление (франц.)
[Закрыть] – прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.
Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.
Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами… Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала…
– Где же вы были? – спросила она испуганным шепотом.
– В спальне у старой графини, – отвечал Германн, – я сейчас от нее. Графиня умерла.
– Боже мой!.. Что вы говорите?..
– И кажется, – продолжал Германн, – я причиною ее смерти.
Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: у этого человека по крайней мере три злодейства на душе! Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.
Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги – вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.
– Вы чудовище! – сказала наконец Лизавета Ивановна.
– Я не хотел ее смерти, – отвечал Германн, – пистолет мой не заряжен.
Они замолчали.
Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.
– Как вам выйти из дому? – сказала наконец Лизавета Ивановна. – Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.
– Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.
Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.
Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l’oiseau royal[24]24
«королевской птицей» (франц.)
[Закрыть], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться…
Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.
V
В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***.
Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»
Шведенборг
Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, – и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.
Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре, – дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы – une affectation[25]25
притворством (франц.)
[Закрыть]. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, – сказал оратор, – бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, – и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился… В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся оземь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?
Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.
Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.
В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, – и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, – и Германн узнал графиню!
– Я пришла к тебе против своей воли, – сказала она твердым голосом, – но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне…
С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.
Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.
VI
– Атанде!
– Как вы смели мне сказать атанде?
– Ваше превосходительство, я сказал атанде-с!
Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, ceмерка, туз – не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз – преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз – огромным пауком. Все мысли его слились в одну – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.
В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.
Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.
Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт.
Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.
– Позвольте поставить карту, – сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.
– Идет! – сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.
– Сколько-с? – спросил, прищуриваясь, банкомет, – извините-с, я не разгляжу.
– Сорок семь тысяч, – отвечал Германн.
При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. «Он с ума сошел!» – подумал Нарумов.
– Позвольте заметить вам, – сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, – что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.
– Что ж? – возразил Германн. – Бьете вы мою карту или нет?
Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.
– Я хотел только вам доложить, – сказал он, – что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.
Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.
Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.
– Выиграла! – сказал Германн, показывая свою карту.
Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.
– Изволите получить? – спросил он Германна.
– Сделайте одолжение.
Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.
На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место, Чекалинский ласково ему поклонился.
Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.
Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.
Германн открыл семерку.
Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.
В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.
Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.
– Туз выиграл! – сказал Германн и открыл свою карту.
– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский.
Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.
В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его…
– Старуха! – закричал он в ужасе.
Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал»! – говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.
Заключение
Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»
Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.
Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.
Марк Твен
История с привидениями

Я нанял себе на Брудвее большую комнату в громадном старом доме, верхний этаж которого, необитаемый в продолжение нескольких лет, был давно уже предоставлен пыли, паутине, пустоте и молчанию. Когда я в первую ночь подымался в свою комнату, мне казалось, что я пробираюсь между гробами, врываясь непрошеным гостем в частную жизнь мертвецов. Впервые в жизни я ощущал какой-то суеверный страх и, неожиданно наткнувшись в темном углу лестницы на облепившую мне лицо мягкую ткань паутины, невольно вздрогнул, как бы при встрече с привидением.
Когда, добравшись наконец до своей комнаты, я захлопнул дверь, оставив за собою гниль и мрак лестницы, мною овладело почти радостное чувство. В приятном ощущении тепла и света я подсел к весело пылавшему камину и просидел так часа два, раздумывая о минувших временах, вызывая в памяти прожитую жизнь и полузабытые, подернутые туманом прошлого лица, чутко прислушиваясь душой к давно уже и на веки переставшим звучать милым голосам и любимым когда-то мелодиям, которых теперь никто уже больше не поет. И пока мечты мои боролись с каким-то сгущавшимся вокруг их мраком, порывистый ветер на дворе стал незаметно переходить в заунывный стон; свирепый шум дождя, рвавшего оконные ставни, обращался в тихое постукивание, и уличный шум понемножку затихал, пока наконец беззвучно не замерли вдали торопливые шаги последнего запоздалого пешехода. Огонь в камине потух. Мною овладевало чувство одиночества. Я встал и начал раздеваться, ступая на цыпочках по комнате и стараясь делать все как можно тише, как будто боялся разбудить дремавшего вблизи врага. Я лет в постель, накрылся и молча прислушивался к дождю, ветру и тихому поскрипыванию ставен, пока наконец все эти звуки не слились вместе и я заснул, убаюканный ими.
Я спал крепко, но как долго – не знаю. Вдруг я проснулся и сразу же почувствовал себя в каком-то тревожном, выжидательном состоянии. Кругом царила глубокая тишина. Я ничего не слышал, кроме биения собственного сердца. Спустя несколько минут одеяло начало медленно сползать к моим ногам, точно его кто-то осторожно тащил к себе. Я лежал, не шевеля ни одним членом, не произнося ни одного звука. Одеяло продолжало медленно сползать… Я порывисто потянул его обратно и закутался в него с головой. Я ждал, прислушивался, опять ждал… Кто-то снова настойчиво начал дергать одеяло, и я снова впал в оцепенение, отсчитывая секунды, тянувшиеся как столетия. Одеяло опять сползло с груди… Собрав всю свою энергию, я рванул его обратно и изо всех сил уцепился за него руками. Я ждал… Постепенно начались снова легкие подергивания; я держал все крепче и крепче. Подергивания стали усиливаться, и вдруг одеяло рванулось с такой силой, что я не мог удержать его: оно сползло с меня в третий раз… Я застонал. И, точно в ответ, раздался чей-то стон у моих ног! Холодный пот выступил у меня на лбу. Я был почти мертв от страха. И вдруг в комнате раздались тяжелые шаги, – как мне казалось, шаги слона, настолько мало походили они на человеческие. Но они удалялись, – и в этом было единственное мое утешение. Я ясно слышал, как «нечто» достигло двери, миновало ее, не стукнув при этом ни замком, ни ключом, и продолжало медленно шествовать далее, сопровождаемое треском и скрипом половиц и ступенек. Затем наступила опять гробовая тишина…
Придя немножко в себя, я попробовал успокоиться на том, что «все это был кошмар, тяжелый кошмар – и больше ничего!» И так я лежал и раздумывал, пока наконец не убедил себя, что это действительно был только скверный сон, и пока не рассмеялся над собственной трусостью.
Встав с кровати и засветив огонь, я тщательно осмотрел замок и задвижку: все оказалось в том самом положении, в каком и было, когда я запер за собою дверь. Я еще раз рассмеялся, и теперь уже совершенно искренно. Закурив трубку, я был готов опять расположиться у камина, но вдруг… трубка выскользнула из моих ослабевших пальцев, кровь разом отхлынула с моих щек, а спокойное дыхание перешло в тяжелую одышку. В пепле у камина рядом с отпечатком моей необутой ноги я различил явственный след другой ноги – настолько громадный, что в сравнении с нею моя собственная казалась совсем детской. Не могло быть сомнения: «кто-то» был в моей комнате, и слоновые шаги – не пустой сон!
Я потушил газ и, шатаясь от страха, вернулся в постель. Долго лежал я так, окруженный сплошным мраком, вглядываясь в него и прислушиваясь. И вот послышалось какое-то шарканье, как будто по полу ползло чье-то громадное тело; потом тело это точно упало, так что в комнате задрожали окна. И в то же время в отдаленных частях дома начался неясный шум отворяемых и затворяемых дверей. Я различал, как чьи-то шаги то приближались, то удалялись то вверх, то вниз по лестнице.
Иногда они приближались к самым моим дверям, останавливались здесь и снова удалялись. Где-то вдали раздавалось слабое бряцанье цепей; я прислушивался к этому бряцанью: вот оно близко, вот цепи тяжело волокутся по лестнице, вот новый звон цепей, ударившихся о новую ступеньку, вот… Существо в цепях несомненно приближалось… Я уже улавливал невнятное бормотанье, невольно вырвавшийся, но силою сдержанный крик, шуршанье невидимых одежд, шелест незримых крыльев…
Я понял, что кто-то ворвался в мою комнату и что теперь я уже не один в ней. Над моей постелью «что-то» сопело, тяжело переводя дыхание и таинственно нашептывая какие-то звуки. Три маленьких шарика, освещенных фосфорическим блеском, засверкали над изголовьем моей кровати, ярко вспыхнули на одно мгновение и покатились вниз, два прямо мне на лицо, а третий на подушку. Здесь они рассыпались искрами, как бы разжижились, и на ощупь казались тепловатыми. Можно было подумать, что, падая, они превратились в кровяные капли, но из-за темноты я не мог убедиться в этом. Потом передо мною вдруг замелькали мертвенно-бледные лица и белые, вытянутые вперед и отделившиеся от туловища руки, державшиеся одну минуту в воздухе и внезапно исчезнувшие. Шепот, голоса и шушуканье умолкли; наступила вновь торжественная тишина. Я в ожидании прислушивался, чувствуя, что мне необходимо или зажечь огонь, или немедленно умереть от страха. Я с трудом поднялся на локте, хотел присесть, но наткнулся лицом на чью-то потную руку… Силы разом оставили меня, и я снова повалился на кровать, как пораженный параличом. Шуршанье раздалось у дверей и сразу оборвалось: казалось, что чудовище исчезло.
Когда вновь наступила тишина, я, истомленный и ослабший, кое-как сполз с кровати и дрожащей рукою столетнего старца зажег огонь. Свет сразу подействовал на меня успокоительно. Присев, я углубился в полусонливое рассматривание отпечатка ноги на пепле. Понемножку очертания его стали как будто сглаживаться и пропадать. Я поднял глаза вверх: широкое пламя газового рожка начинало медленно гаснуть. И в это же самое мгновение опять послышались тяжелые шаги чудовища и казалось, что по мере того, как оно подходило все ближе и ближе, свет становился все тусклее и тусклее. Шаги достигли моих дверей и остановились, – свет превратился в слабое голубоватое пламя, – все вокруг меня погрузилось в подозрительные сумерки. Дверь не отворилась, но тем не менее я почувствовал, как легкий приток свежего воздуха пахнул мне прямо в лицо, и вслед за этим я различил перед собою какое-то громадное туманное существо. Я смотрел на него вытаращенными от страха глазами. Туман стал постепенно расползаться; очертания его мало-помалу превращались в человеческую фигуру: показались рука, ноги, туловище – и наконец, выглянула громадная мрачная физиономия. Разоблачившись от туманного покрова, передо мной выросла нагая, мускулистая, прекрасно сложенная, величественная фигура Кардиффского исполина. {В начале 70-х годов XIX века около Ньювэльской фермы была случайно открыта громадная фигура окаменелого человека, получившая название «Кардиффский исполин». С этой диковиной проделан был целый ряд наглых мошенничеств: «Исполин» показывался публике одновременно в Альбани и в Нью-Йорке, причем оба содержателя музеев клялись в подлинности каждый своего экземпляра. Впоследствии было установлено как факт, не подлежащий сомнению, что «настоящим» исполином должен быть признан тот, который показывается в Альбани, а диковина Нью-Йоркского музея есть лишь искусно подделанный гипсовый слепок с него.}
Весь мой ужас изчез, ибо даже ребятам известно это в высшей степени добродушное лицо, не способное сделать кому-нибудь что-либо дурное. Ко мне сразу вернулось мое обычное веселое настроение, а газ опять замигал широким, спокойным пламенем, как бы симпатизируя моему расположению духа. Ни один изгнанник не радовался так чьему-либо посещению, как обрадовался я возможности видеть этого добродушного великана.
– Так это только ты, а никто другой?! – обратился я к нему. – А ведь знаешь, в течение 2–3-х последних часов я чуть не умер от страха! Нет, в самом деле, я очень рад, что это ты, и с удовольствием предложил бы тебе стул… Стой стой! Не сюда, не садись на эту штуку!..
Но было уже поздно. Прежде чем я успел удержать его, он легонько присел на мой стул и вслед за этим немедленно брякнулся на пол: в жизни своей не видел я ни одного стула, который бы разлетелся в такие мелкие дребезги.
– Погоди, постой! Ты мне так их все разломаешь!
И опять поздно. Вторичный треск – и второй стул распластался на свои составные элементы.
– Да ты с ума сошел, черт тебя побери! Или ты задумал разнести таким манером всю мою мебель? Сюда, сюда, ты – окаменелый болван!…
Опять поздно. Прежде чем я успел броситься к нему навстречу, он осторожно опустился на кровать – и от кровати осталась одна меланхолическая руина.
– Послушай! Это не манера вести себя! Сначала ты врываешься в мою квартиру и скандальничаешь в ней, притащив за собой целый легион всяких мерзостных привидений, которые измучивают меня чуть не до смерти… (Я уже не говорю о значительной небрежности твоего костюма, совершенно не принятого в порядочном обществе между интеллигентными людьми, за исключением разве опереточного театра, да и там едва ли была бы терпима такая абсолютная откровенность, раз она принадлежит существу твоего пола!). Затем, в виде благодарности за мое гостеприимство, ты начинаешь испытывать прочность моей мебели применительно к собственной тяжести и разносишь всю ее в щепы… И на какого черта понадобилось тебе непременно сесть! Ведь, пытаясь осуществить это желание, ты вредишь себе не меньше, чем мне. Посмотри: у тебя почти сломана нижняя часть позвоночного хребта и весь ты окровавлен… с арьергарда. Постыдись, наконец! Ты ведь достаточно вырос, чтобы понять это!..
– Ну, ладно, ладно! Я не буду больше ломать мебель… Только, все-таки, что же мне делать? В течение целого столетия я не имел ни одного случая присесть!..
И на глазах его показались слезы.
– Бедный малый, – сказал я, – пожалуй, я и не прав, обращаясь с тобой так сурово, хотя бы уже потому, что ведь ты, кроме всего прочего, сирота! Ну, садись вот здесь на пол, – никакая другая мебель не в состоянии выдержать твоей тяжести! Даже и в таком положении нам неудобно с тобой дружески разговаривать, так как мне приходится смотреть на тебя, задравши голову вверх… Так вот что: ты оставайся сидеть здесь на полу, а я вскарабкаюсь на эту высокую конторку, и теперь мы можем болтать лицом к лицу!..
Рассевшись на полу, он закурил предложенную мною трубку, набросил себе на плечи мое красное одеяло и надел себе на голову, в виде шлема, мою ванну, – все это придало ему значительную художественность и элегантность. Затем, пока я раздувал огонь, он скрестил ноги, подставив поближе к приятному теплу свои громадные, изрытые колдобинами ступни.
– Отчего это у тебя подошвы ног в таких ухабах?
– Какая-то проклятая сыпь! Я получил ее от простуды еще там, лежа под Ньювэльской фермой… Но все-таки то местечко мне очень нравится; я его люблю, как кто-нибудь любит свою старую родину. Нигде я не ощущал такого покоя, каким наслаждался там!..
Проболтавши еще с полчаса, я заметил, что он выглядит совсем утомленным, и спросил его о причине этого.
– Почему я устал? – переспросил он. – А как же могло бы быть иначе? Слушай, за то, что ты так любезно меня принял, я вкратце расскажу тебе суть дела. Видишь ли, я – дух того окаменелого великана, тело которого показывается в здешнем музее, в конце этой улицы. Я не могу обрести покой, пока тело мое не будет вновь предано земле. Что же я должен был делать, чтобы заставить людей исполнить это мое законное желание? Оставалось только одно, – собери свое мужество! – начать колобродить и пугать людей вблизи того места, где лежит теперь мое тело… И вот я еженощно колобродил в музее, уговорив и некоторых других духов помогать мне в этом. Но мы ничего не добились: после полуночи никто никогда не посещал музея. Тогда мне пришло на мысль, спустившись вниз по улице, испробовать немножко поскандальничать в этом доме. Я чувствовал, что здесь цель моя будет достигнута, если только мне удастся обратить на себя чье-либо внимание, недаром же меня окружало самое отборное общество всякой адской чертовщины! И вот, ночь за ночью, шлялись мы, дрожа от холода, по этим пустым комнатам, волоча за собой цепи, пыхтя, издавая стоны, подымаясь вверх и опускаясь вниз по лестнице, пока наконец силы мои не истощились совершенно. Но, заметив сегодня ночью свет в твоем окне, я собрал остаток их и явился сюда с наплывом прежней энергии. Однако теперь я чувствую, что силы опять покидают меня… Подай же мне – умоляю тебя, – подай мне хоть какую-нибудь надежду!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































