Текст книги "Чёрный монах"
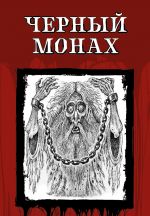
Автор книги: Артур Дойл
Жанр: Ужасы и Мистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Кой черт занес тебя сюда? – обратился я к нему.
– Ну нет, – возразил он, скорчив одну из гримас, хорошо знакомых тебе, – меня черт сюда не заносил, но встретиться с ним здесь нетрудно. Господин лейтенант изволили выйти так рано и позабыли захватить трубку и табак. Так я думал, как же ранним утром и на сыром воздухе. Моя тетка из Гента всегда говорила…
– Заткни свою глотку, болтун, и давай трубку, – крикнул я и взял у него зажженную трубку. Но едва мы прошли еще два шага, как Павел снова начал вкрадчивым голосом:
– Моя тетка из Гента всегда говорила, что гномам не следует доверять; в конце концов все они плуты и не менее, чем Инкубус или Сцедим, терзают сердце… Старая же кофейница Лиза здесь в предместье… ах, господин лейтенант, это и вам бы стоило посмотреть – она умеет отливать чудные цветы, животных и людей. «Пусть человек помогает себе, как умеет», – говаривала моя тетка из Гента… И я был вчера у Лизы и принес ей четверть фунта лучшего мокко… У нас тоже ведь есть сердце, а булочникова Дертхен прехорошенькая девушка, хотя в ее глазах есть что-то особенное, саламандровое…
– Что ты за чепуху городишь! – вскричал я в сердцах.
Павел помолчал, но спустя несколько минут начал снова:
– Да, Лиза все же благочестивая женщина… Так она говорила мне, глядя на кофейную гущу: нет никакой беды для Дерты, потому что саламандровое выражение в ее глазах происходит от пламени печи или от танцев; но для меня лучше оставаться холостым. Но вместе с тем Лиза сказала, что один господин подвергается большой опасности. Саламандры – худшие из созданий, служащих дьяволу, чтобы заманивать к гибели людей, распаляя их страстью… Но нужно быть стойким и хранить Бога в сердце. Тогда я сам заглянул в кофейную гущу и увидел изображение, совсем походившее на господина майора О’Маллея.
Я приказал Павлу замолчать; но ты можешь себе представить, что я испытывал, слушая странные речи Павла, который неожиданно для меня оказывался посвященным в мою тайну и не менее неожиданно выказывал познания в каббалистике, которым он, вероятно, был обязан гадальщице на кофейной гуще… Я провел самый беспокойный день моей жизни. Вечером Павла невозможно было выгнать из комнаты, он постоянно возвращался за какими-нибудь делами. Наконец, когда около полуночи он должен был уйти, то сказал тихо, как бы творя про себя молитву:
– Храни Бога в сердце своем; помни о спасении своей души, и тебе удастся противостоять козням сатаны.
Я не могу описать тебе, до чего эти простые слова моего слуги потрясли мою душу. На меня они произвели просто ужасное впечатление. Но тщетны были мои старания не заснуть; я погрузился в то состояние тяжелого сна, в котором следует признать нечто сверхъестественное, вмешательство какого-нибудь неведомого принципа. Как и всегда, меня пробудило волшебное сияние. Аврора в полном блеске неземной красоты стояла предо мной и страстно протягивала ко мне руки. Но, точно начертанные огненными письменами, светились в душе моей набожные слова Павла.
– Уходи от меня, предательское порождение ада! – вскричал я.
Но в этот момент внезапно предстал предо мной громадный, выросший до великанских размеров ужасный О’Маллей и, пожирая меня глазами, в которых светился адский огонь, закричал:
– Не сопротивляйся, ничтожный человек, ты наш!
Мое мужество выдержало бы самые ужасные взгляды самого страшного призрака, но вид О’Маллея лишил меня чувств – и я беспомощно упал на пол.
Страшный треск пробудил меня из бесчувственного состояния, я ощутил, что меня охватили чьи-то мужские руки, и старался изо всех сил высвободиться из них.
– Господин лейтенант, да ведь это я! – сказал мне кто-то на ухо.
Это был мой верный Павел, старавшийся поднять меня с пола. Я предоставил себя в его распоряжение. Павел сначала не хотел рассказывать, как все случилось; но наконец сознался, таинственно улыбаясь, что он гораздо больше знал, чем я мог об этом думать, какой безбожной наукой соблазнял меня майор. Старая набожная Лиза все ему открыла. Он не пошел спать в эту ночь, но зарядил свое ружье и подслушивал у двери. Когда он услыхал мой громкий крик и последовавшее затем падение, то, несмотря на сильный страх, открыл запертую дверь и ворвался в комнату.
– Тут, – рассказывал Павел на своем смешном жаргоне, – я увидел перед собой майора О’Маллея; он имел вид противный и страшный, точь-в-точь как в кофейной гуще, и жутко оскалил на меня зубы; но я не дал себя обмануть и сказал: «Если ты, господин майор, черт, то считай за милость, что я смело выхожу тебе навстречу, как благочестивый христианин, и говорю: «Исчезни, проклятый майор Сатана, заклинаю тебя именем Господа, исчезни, или я стану стрелять». Но господин майор не двигался, а снова заскрежетал на меня зубами и хотел еще дерзко браниться. Тогда я крикнул: что же, стрелять мне, стрелять мне? И так как господин майор не уходил, то я действительно выстрелил. Тогда все рассеялось; оба быстро скрылись сквозь стену – и господин майор Сатана, и мамзель Вельзевул…
Мое возбужденное состояние за все это время и последние ужасные минуты имели последствием тяжелую болезнь. Когда я выздоровел, то уехал из П., не повидавшись с О’Маллеем, о дальнейшей судьбе которого я ничего не знаю. Воспоминания об этих роковых днях отошли на задний план и наконец совсем угасли, веселое настроение и свобода ко мне снова вернулись, пока здесь…
– И здесь, – спросил Альберт, полный любопытства и удивления, – здесь ты опять потерял свою свободу? Я готов допустить любое место в мире, только не здесь…
– О, – перебил Виктор друга, и в тоне его прозвучало что-то торжественное. – В двух словах все будет ясно. В бессонные ночи моей болезни, которой я подвергался здесь, проснулись все любовные сновидения того тревожного и ужасного периода моей жизни. Страстная мечта, воплотившаяся в Аврору, снова явилась, но просветленною, очищенною небесным огнем; никакой дьявольский О’Маллей не сторожил более ее; словом, Аврора – это баронесса!..
– Как! Что? – закричал Альберт, привскочив от испуга. – Маленькая, кругленькая хозяйка с громадной связкой ключей – стихийный дух, саламандра, – пробормотал он про себя, с трудом подавляя усмешку.
– В фигуре, – продолжал Виктор, – нет уже никаких следов сходства, но тайный огонь, сверкающий из ее глаз, пожатие ее руки…
– Ты здоров, – сказал Альберт серьезно. – Рана в голову, которую ты получил, была довольно значительна и могла быть опасной для твоей жизни. Но теперь ты настолько поправился, что можешь ехать со мной. И от всего сердца я прошу тебя, мой дорогой, искренне любимый друг брось это место и уезжай со мной в Аахен.
– Мое пребывание здесь, – ответил Виктор, – не должно длиться дольше. Пусть будет так; я уеду с тобой; но объяснение, сперва объяснение…
На следующее утро, когда Альберт проснулся, Виктор сообщил ему, что он припомнил в странном, полном призраков сне то слово заклинания, которое ему подсказал О’Маллей при изготовлении терафима. Он решился еще раз пустить его в ход. Альберт с сомнением покачал головой и приказал приготовить все к скорому отъезду, причем Павел Талькебарт выказал со всевозможными шутовскими речами самую радостную деятельность по случаю скорого отъезда.
– Заккернамтье, – слышал Альберт его бормотание, – хорошо еще, что чертов медведь давно уже унес ирландского дьявола, которого одного только еще здесь недоставало…
Виктор застал баронессу, как и желал того, одну за какой-то хозяйственной работой. Он сказал ей, что наконец хочет покинуть ее дом, в котором так долго пользовался гостеприимством. Баронесса ответила, что никогда не приходилось им принимать друга, который был бы для них дороже. Тогда Виктор взял ее за руку и спросил:
– Вы никогда не жили в П.? Не знали ли вы там одного всем известного ирландского майора?
– Виктор, – быстро и горячо перебила его баронесса, – сегодня мы расстаемся и никогда больше не свидимся. Мы не смеем говорить об этом. Мрачная тень лежит на моей жизни… Совершенно достаточно сказать вам, что жестокая судьба осудила меня всегда казаться другим существом, чем то, что я есть на самом деле. В проклятом положении, в котором вы меня нашли здесь, заставляющем выносить злейшие нравственные муки, над которыми точно смеется мое физическое здоровье, замаливаю я тяжкий грех… Но теперь довольно об этом… Прощайте!
Тогда Виктор произнес громким голосом:
– Нехельмиахмихеаль!
Баронесса с криком ужаса упала без сознания на пол… Виктор, охваченный самыми странными чувствами, вне себя, едва нашелся позвонить прислуге и затем быстро вышел из комнаты.
– Прочь, скорее прочь отсюда! – крикнул он своему другу Альберту и рассказал ему в немногих словах, что случилось. Затем оба вскочили на приведенных им лошадей и уехали из дому, не дождавшись возвращения барона, отправившегося на охоту.
Рассуждения Альберта на пути из Люттиха в Аахен показали, с какой серьезностью, с каким сочувствием отнесся он к событиям рокового периода жизни своего друга. На пути к столице, куда теперь вернулись оба друга, Альберту удалось совершенно вывести Виктора из мечтательного настроения, в которое он погрузился, и, когда Альберт еще раз в живых красках представил все ужасы, происходившие во время последнего похода, Виктору передалось то же одушевление, которым был полон его друг. Не ожидая от Альберта дальнейших опровержений и выражений сомнения по поводу рассказа Виктора, тот вскоре сам стал считать свое мистическое приключение лишь за долгий дурной сон.
Вполне естественно, что в столице женщины очень приветливо встретили полковника, который был богат, красив, еще молод для своего чина и притом отличался особенной любезностью. Альберт считал его за счастливейшего человека, который может выбрать себе в жены прекраснейшую из женщин; но Виктор отвечал ему на такие предложения весьма серьезно:
– Быть может, меня мистифицировали, и я должен был служить для неведомой мне безбожной цели; быть может, меня действительно хотела соблазнить нечистая сила. Мне это приключение стоило хотя не вечного блаженства, но все же рая любви. Никогда не вернется то время, когда я испытывал высшую земную радость, когда я держал в объятиях идеал моих самых лучших, самых упоительных грез. И любовь, и радость прошли с тех пор, как ужасная тайна похитила у меня ту, кто для моего внутреннего чувства была высшим существом, какого мне никогда не встретить на земле!..
Полковник всю жизнь остался холостым.
Перевод А. Соколовского, 1885

Антон Павлович Чехов
Черный монах

I
Андрей Васильич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Он не лечился, но как-то вскользь, за бутылкой вина, поговорил с приятелем доктором, и тот посоветовал ему провести весну и лето в деревне. Кстати же пришло длинное письмо от Тани Песоцкой, которая просила его приехать в Борисовку и погостить. И он решил, что ему в самом деле нужно проехаться.
Сначала – это было в апреле – он поехал к себе, в свою родовую Ковринку, и здесь прожил в уединении три недели; потом, дождавшись хорошей дороги, отправился на лошадях к своему бывшему опекуну и воспитателю Песоцкому, известному в России садоводу. От Ковринки до Борисовки, где жили Песоцкие, считалось не больше семидесяти верст, и ехать по мягкой весенней дороге в покойной рессорной коляске было истинным наслаждением.
Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, крутым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши. Зато около самого дома, во дворе и в фруктовом саду, который вместе с питомниками занимал десятин тридцать, было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была еще только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась еще в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса.
То, что было декоративною частью сада и что сам Песоцкий презрительно обзывал пустяками, производило на Коврина когда-то в детстве сказочное впечатление. Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой! Тут были шпалеры из фруктовых деревьев, груша, имевшая форму пирамидального тополя, шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры и даже 1862 из слив – цифра, означавшая год, когда Песоцкий впервые занялся садоводством. Попадались тут и красивые стройные деревца с прямыми и крепкими, как у пальм, стволами, и только пристально всмотревшись, можно было узнать в этих деревцах крыжовник или смородину. Но что больше всего веселило в саду и придавало ему оживленный вид, так это постоянное движение. От раннего утра до вечера около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыгами, лейками…
Коврин приехал к Песоцким вечером, в десятом часу. Таню и ее отца, Егора Семеныча, он застал в большой тревоге. Ясное, звездное небо и термометр пророчили мороз к утру, а между тем садовник Иван Карлыч уехал в город и положиться было не на кого. За ужином говорили только об утреннике, и было решено, что Таня не ляжет спать и в первом часу пройдется по саду и посмотрит, все ли в порядке, а Егор Семеныч встанет в три часа и даже раньше.
Коврин просидел с Таней весь вечер и после полуночи отправился с ней в сад. Было холодно. Во дворе уже сильно пахло гарью. В большом фруктовом саду, который назывался коммерческим и приносил Егору Семенычу ежегодно несколько тысяч чистого дохода, стлался по земле черный, густой, едкий дым и, обволакивая деревья, спасал от мороза эти тысячи. Деревья тут стояли в шашечном порядке, ряды их были прямы и правильны, точно шеренги солдат, и эта строгая педантическая правильность и то, что все деревья были одного роста и имели совершенно одинаковые кроны и стволы, делали картину однообразной и даже скучной. Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и изредка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Цвели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.
– Я еще в детстве чихал здесь от дыма, – сказал он, пожимая плечами, – но до сих пор не понимаю, как это дым может спасти от мороза.
– Дым заменяет облака, когда их нет… – ответила Таня.
– А для чего нужны облака?
– В пасмурную и облачную погоду не бывает утренников.
– Вот как!
Он засмеялся и взял ее за руку. Ее широкое, очень серьезное, озябшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его.
– Господи, она уже взрослая! – сказал он. – Когда я уезжал отсюда в последний раз, пять лет назад, вы были еще совсем дитя. Вы были такая тощая, длинноногая, простоволосая, носили короткое платьице, и я дразнил вас цаплей… Что делает время!
– Да, пять лет! – вздохнула Таня. – Много воды утекло с тех пор. Скажите, Андрюша, по совести, – живо заговорила она, глядя ему в лицо, – вы отвыкли от нас? Впрочем, что же я спрашиваю? Вы мужчина, живете уже своею, интересною жизнью, вы величина… Отчуждение так естественно! Но как бы ни было, Андрюша, мне хочется, чтобы вы считали нас своими. Мы имеем на это право.
– Я считаю, Таня.
– Честное слово?
– Да, честное слово.
– Вы сегодня удивлялись, что у нас так много ваших фотографий. Ведь вы знаете, мой отец обожает вас. Иногда мне кажется, что вас он любит больше, чем меня. Он гордится вами. Вы ученый, необыкновенный человек, вы сделали себе блестящую карьеру, и он уверен, что вы вышли такой оттого, что он воспитал вас. Я не мешаю ему так думать. Пусть.
Уже начинался рассвет, и это особенно было заметно по той отчетливости, с какою стали выделяться в воздухе клубы дыма и кроны деревьев. Пели соловьи, и с полей доносился крик перепелов.
– Однако пора спать, – сказала Таня. – Да и холодно. – Она взяла его под руку. – Спасибо, Андрюша, что приехали. У нас неинтересные знакомые, да и тех мало. У нас только сад, сад, сад – и больше ничего. Штамб, полуштамб, – засмеялась она, – апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка… Вся, вся наша жизнь ушла в сад, мне даже ничего никогда не снится, кроме яблонь и груш. Конечно, это хорошо, полезно, но иногда хочется и еще чего-нибудь для разнообразия. Я помню, когда вы, бывало, приезжали к нам на каникулы или просто так, то в доме становилось как-то свежее и светлее, точно с люстры и с мебели чехлы снимали. Я была тогда девочкой и все-таки понимала.
Она говорила с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, – в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:
Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну…
Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!
– Вот, брат, история… – начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. – На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло… Отчего это так?
– Право, не знаю, – сказал Коврин и засмеялся.
– Гм… Всего знать нельзя, конечно… Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь всё больше насчет философии?
– Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.
– И не прискучает?
– Напротив, этим только я и живу.
– Ну дай бог… – проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. – Дай бог… Я за тебя очень рад… рад, братец…
Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.
– Кто это привязал лошадь к яблоне? – послышался его отчаянный, душу раздирающий крик. – Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!
Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.
– Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? – сказал он плачущим голосом, разводя руками. – Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он – толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!
Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.
– Ну, дай бог… дай бог… – забормотал он. – Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад… Спасибо.
Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.
Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.
Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.





































