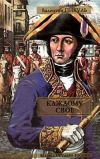Текст книги "Затерянная в Париже"
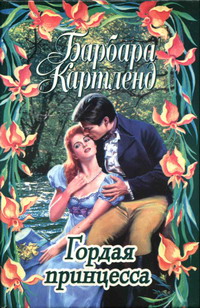
Автор книги: Барбара Картленд
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Глава 5
Некоторое время ониехали молча, а потом герцог опять заговорил:
– Какой у вас самый любимый камень? Уна, которая явно думала в это время о чем-то другом, вздрогнула при звуке его голоса.
– Камень?
– Я хочу сказать – драгоценный камень, – пояснил герцог. – Все женщины любят украшения. Я думаю, и вы не исключение.
Уна немного подумала и сказала:
– Я думаю, очень красивый камень – бирюза, и, полагаю, вы знаете, на Востоке считается, что он приносит удачу.
– Да, я слышал об этом, – ответил герцог.
– Мама говорила, что жители Тибета, которые добывают камни в горах, всегда носят кусочек бирюзы, чтобы уберечься от дурного глаза.
Она тихонько засмеялась.
– Думаю, вы не боитесь дурного глаза, но в книгах я читала, что в средние века это была реальной угрозой.
Герцог обнаружил, что она опять уклоняется от темы, которую он хотел с ней обсудить.
– А если бы у вас был выбор, вы бы хотели иметь именно бирюзу, а не что-либо другое?
– Мне кажется, если бы она у меня и была, я бы все равно не чувствовала себя счастливой, – ответила Уна, – но, раз я родилась в июле, пожалуй, мой камень – рубин.
Герцог улыбнулся.
Так, уже лучше. Теперь она начала выказывать интерес к дорогим камням, которые станет потом требовать, – в этом он был совершенно уверен.
– В то же время, – продолжала Уна, – мне кажется, рубины весьма зловещи, а самая лучшая драгоценность и самая красивая из всех, наверное, жемчуг.
– Жемчужины бывают очень дорогие.
– Уверена, что все камни дорогие, – ответила Уна. – Вот почему я думаю, что вряд ли когда-либо буду иметь хотя бы один.
Она вздохнула.
– Мама говорила, что, когда им пришлось уехать во Францию, больше всего на свете ей не хотелось продавать брильянтовый полумесяц, который она получила в наследство от матери.
Герцог знал, что брильянтовые полумесяцы и брильянтовые звезды были в большой моде у английских женщин, но сам он всегда считал, что лучшие украшения – это те, что куплены в Париже. Его мать носила тиару, которую сделал Оскар Массен, и герцог вдруг подумал, как хорошо бы смотрелась эта тиара на Уне, неважно, что она была так молода.
Массен был мастером своего дела и создавал из драгоценных камней цветы, колосья, нежнейшие розы и ландыши.
Герцогу пришло в голову, что именно эти ландыши подошли бы для Уны. Хотя нелепо предполагать, что она могла бы когда-нибудь надеть драгоценности из коллекции Уолстэнтонов, герцог решил, что, пожалуй, купит ей брошь, сделанную из брильянтовых ландышей. Еще, если она будет настаивать, он может прибавить колье из жемчуга, которое округлило бы ее маленькую шейку и подчеркнуло бы прелесть ее кожи.
Вслух же он сказал:
– Вам больше всего хотелось бы иметь жемчуга?
– Я знаю, чего бы мне хотелось больше всего, – сказала Уна.
– Чего же? – с любопытством спросил герцог.
– Лошадей, таких, какими вы сейчас правите, и какими, я уверена, вы сами обладаете.
Герцог был потрясен.
Опять ему не удалось удержать ее внимание, что обычно бывало легко сделать с любой женщиной – ни одна не могла устоять против искушения поговорить о таком волнующем предмете, как подарки.
– Если у вас будет лошадь, где вы будете ее держать? – спросил он.
Уна весело засмеялась.
– Вряд ли можно ожидать, что вы и ее, как меня, пригласите пожить у вас, а пусти я ее пастись в Булонский лес без присмотра, боюсь, меня бы ожидали неприятности.
Она делала из этого целую сказку, и, пока герцог раздумывал, что ответить, она продолжала:
– Наверное, лучше всего иметь невидимую лошадь, по крайней мере невидимую до тех пор, пока не понадобится на ней ехать.
– Да, это избавило бы от многих трудностей, – сказал герцог, решив, что ему тоже можно принять участие в ее фантазиях.
– Мне всегда казалось несправедливым, что у ведьм и колдунов очень много вещей, которые так подошли бы простым смертным.
– Каких же? – спросил герцог.
– Во-первых, на стене – волшебное зеркало, – ответила Уна, – чтобы оно рассказывало всю правду о человеке, который в него смотрится.
– Вы ведь мне недавно говорили, что можете делать это без всякого зеркала, – ответил герцог.
– Может быть… это немного самонадеянно с моей стороны, – сказала Уна, – но иногда я могу… узнать не только, каков человек, но и что… происходит в его жизни.
– Вы предсказательница? – насмешливо спросил герцог.
– Не совсем.
– А вы можете мне что-нибудь предсказать? Она немного помолчала и сказала:
– Может быть… вам лучше не слышать…
– Я не просто хочу услышать, я настаиваю, чтобы вы мне сказали, – произнес герцог. – Если вы делаете такие самоуверенные заявления, вы вряд ли можете ожидать, что я не обращу на них внимания.
– Вчера вечером, за обедом, – сказала Уна, – я подумала, что вы говорите и слушаете с искренним интересом, но в то же время словно наблюдаете за всем со стороны, не принимая участия.
Герцог молчал, и она вздохнула:
– Опять я непонятно говорю, но это выглядело так, словно все вокруг вас были актерами на сцене, а вы один сидели в партере.
– Я не стану говорить вам, верно это или нет, – сказал герцог, – и мне бы хотелось послушать, что еще вы подумали.
Он был уверен, что Дюбушерон, который отлично разбирался в людях, перед их встречей коротко обрисовал ей характер герцога.
Теперь Уна долго молчала, а потом сказала очень тихо:
– Наверное, я ошибаюсь… скорее всего, так и есть… но у меня такое чувство, словно вы пытаетесь понять, кто же вы сами такой.
Сказав это, она отвернулась от него.
Герцог вдруг понял, что, когда она говорила о таких сокровенных вещах, она чувствовала не смущение, а наоборот, уверенность, шедшую из самой глубины души.
Он понял, что было бы ошибкой об этом говорить, поэтому сказал только:
– Вы очень ловко все объяснили.
– Для меня это не очень ловко, – сказала Уна, – но, возможно… это еще случится… Я иногда не знаю, что я вижу – настоящее или будущее.
– Не знаете? – спросил герцог.
Уна улыбнулась.
– Папа однажды сказал, что, если подняться высоко в небо, можно сразу увидеть Шербур, Нью-Йорк и корабль в Атлантическом океане.
Она бросила на герцога взгляд из-под ресниц, словно боясь, что ему станет скучно, но он слушал, и она продолжала:
– Люди на борту корабля верят, что они покинули Шербур вчера, середина океана, где они находятся, это сегодня, а Нью-Йорк будет через несколько дней.
– Я понял, что вы хотите сказать, – медленно проговорил герцог. – Для нас с вами, находящихся высоко в небе, все будет происходить как бы одновременно.
Уна улыбнулась ему так, словно он продемонстрировал недюжинный ум.
– Вот именно, – сказала она. – И вот почему иногда я чувствую, если человек мне интересен, что могу заглянуть в его вчера или завтра – для меня все происходит сегодня.
– А я вам очень интересен? – спросил герцог.
– Конечно, – ответила она. – Вы наиболее сложный, трудный и, конечно, наиболее обаятельный из всех людей, по поводу кого я заглядывала в мое магическое зеркало.
Говоря это, она смеялась, и герцог улыбнулся.
– Вы заставляете меня нервничать, – сказал он. – А что, если я – страшный великан-людоед?
Она не стала говорить, что это невозможно, а ответила ему так:
– Тогда бы я обула свои волшебные туфли-невидимки и оказалась бы за тридевять земель от вас прежде, чем вы успели сообразить, что произошло. Я даже могла бы наложить на вас заклятие.
Герцог подумал о том, как же далеко они забрались от первоначальной темы разговора – какие драгоценные камни она предпочитает.
Сейчас же они вернулись на улицу Фобур Сент-Оноре, и их прогулка закончилась.
Неожиданно герцог подумал, что лучший способ обращения с такой уклончивой особой, как Уна, – ставить ее перед свершившимся фактом. Он решил, что не возьмет ее в магазин Оскара Массена, как собирался, а поедет туда один, купит ей подарок, а потом посмотрит, как она будет себя вести, когда он предложит ей его..
Поэтому, когда они вышли из фаэтона, герцог велел слугам не распрягать и проводил Уну в холл.
К нему подошел мажордом и сказал:
– Ваша светлость, вас хочет видеть некий джентльмен. Я проводил его в приемную.
Герцог решил, что его гость – Дюбушерон с картинами Торо, которые он к этому времени уже, конечно, забрал с Монмартра. Он некоторое время колебался – не взять ли с собой Уну, чтобы посмотреть картины, потом решил, что сначала посмотрит их сам. Но пока он решал, Уна уже начала подниматься вверх по лестнице.
Так что герцог, ничего не говоря, пошел по коридору, который вел в приемную, где он обычно встречался с маклерами типа Дюбушерона, предлагающими что-нибудь купить. По дороге он решил воспользоваться возможностью побольше разузнать об Уне, хотя был совершенно уверен, что Дюбушерон постарается соблюсти таинственность в том, что касается ее самой и ее прошлого.
Уна одолела половину лестницы, когда вдруг ее посетила неожиданная мысль.
Секунду она пребывала в нерешительности, потом бросилась бегом назад – вниз по лестнице в холл.
– Мне нужен фиакр, – сказала она одному из лакеев.
Слуга, наверное, удивился, но в его обязанности не входило обсуждать желания господ, чего бы те ни придумали, и он побежал через двор на улицу, чтобы через несколько мгновений вернуться на открытом фиакре, который тянула тощая, весьма усталая лошадь.
Он открыл дверцу, и Уна поднялась в экипаж.
– Куда вам, мадемуазель?
– Пожалуйста, попросите его на улицу де л'Абревилль, дом девять.
Лакей дал указания кучеру, и они тронулись в путь.
Немного отъехав, Уна подумала, что ей следовало бы оставить записку, чтобы сообщить герцогу, куда она отправилась.
Ей внезапно пришло в голову, что, раз месье Дюбушерон получил от герцога большую сумму за картину отца, в студии могли бы оказаться и другие картины, которые тоже можно было бы продать. У нее появилось чувство, что герцог не позволит ей тратить деньги, которые он заплатил за покупку картины. Но если бы были проданы и другие папины картины, деньги могли пойти в уплату за новое вечернее платье, чтобы герцогу не приходилось ее стыдиться.
Она поняла, что раздражает его своим отказом позволить ему купить ей новую одежду, как он настойчиво предлагал. Что бы он там ни говорил, она была вполне уверена – ее мать сочла бы страшно предосудительным, если бы Уна приняла такие подарки не только от джентльмена, но и вообще от любого человека, с которым она только что познакомилась.
Ее мать была очень гордой и научила Уну, что быть бедным – не преступление. Плохо только, если люди пытаются выдавать себя не за тех, кем они являются на самом деле. Например, если человек теряет чувство собственного достоинства и принимает блага, за которые не сможет расплатиться.
Уна вспомнила, как однажды мама спорила с отцом о каком-то богатом американце, которому отец продал картину, а тот постоянно приглашал их в гости.
– Мы не сможем пригласить их к себе с ответным визитом, – сказала тогда ее мать, – и поэтому, Джулиус, у меня нет охоты пользоваться их гостеприимством.
– Нелепое отношение! – воскликнул отец. – Они достаточно богаты, чтобы накормить обедом и напоить пол-Парижа.
– А пол-Парижа примет их предложение! – резко сказала мама. – И именно поэтому мы вежливо, но твердо откажемся от пего.
– Вольно тебе столь высокопарно изъясняться! – возразил ей отец. – Но, честно говоря, я был бы очень рад побывать на обеде, где подают превосходное вино, а цена обеда роли не играет.
Мать продолжала с ним спорить, но Уна помнила, что ни она, ни отец так и не пошли на прием к американцу.
После того она сказала матери:
– Как жалко, что ты не поехала, мама. У тебя была бы прекрасная возможность надеть какое-нибудь вечернее платье, которые ты много лет не носишь.
Мама улыбнулась.
– Они уже вышли из моды, дорогая, да и я не хочу быть обязанной кому бы то ни было, тем более людям, которых мой отец не пригласил бы к себе.
Став постарше, Уна поняла, что гордость не позволяет ничего брать даром – бери, только если можешь дать что-то взамен.
Она знала, ее мать решила бы, что Уна унизится, позволив герцогу, как бы ни был он великодушен, заплатить за ее одежду.
– Я должна учиться стоять на своих собственных ногах, – решила она. – Должен же быть какой-то способ быстро заработать достаточно много денег, чтобы купить вечернее платье если не сегодня, так завтра.
Она вспомнила, что на маленьких улочках Парижа было много небольших швейных мастерских, в которых могли скопировать даже самые изысканные платья, те самые, что выходили из-под рук тех, кого герцог назвал знаменитыми портными.
– Если я смогу продать одну из папиных каротин, – планировала Уна, – я смогу купить прелестное новое платье, и герцог будет не удивлен, а просто восхищен, увидев меня в нем.
С некоторым сожалением она подумала о том, как бы ей хотелось, чтобы он восхищался ею, чтобы считал ее красивой.
Потом, вспомнив про Иветт Жуан и тех дам, которых они видели в ресторане в Булонском лесу, Уна опять упала духом.
Сможет ли она когда-нибудь выглядеть так шикарно, как они? А потом, она была уверена, что их платья стоили столько, сколько ей не заработать за многие годы.
– Одно хорошо, – решила Уна, – то, что у меня такая тонкая талия.
Тогда в моде были пышные юбки со шлейфом, волочащимся по полу, – женщина, входящая в зал, напоминала лебедя, скользящего по глади вод.
«В ресторане не было никого красивее герцога», – решила Уна, вспоминая их ленч.
Она подумала, как любезен он был, что отвез ее туда, тогда как, несомненно, сам он предпочел бы провести время, беседуя с одной из тех дам с перьями на шляпках, под которыми скрывались замысловатые прически.
Уне показалось, что она поставила перед собой невыполнимую задачу, пытаясь подражать кому-нибудь из этих дам, и все же, сказала она себе, она должна попытаться.
– Мама, помоги мне, – прошептала она, – помоги мне сделать все правильно: и то, что ты бы хотела, и то, чтобы порадовать герцога.
У Уны появилось подозрение, что ей нелегко будет найти компромисс между этими двумя людьми, занимавшими сейчас все ее мысли без исключения.
Затем она увидела церковь Сакре-Кёр, возвышавшуюся впереди, и перестала думать о себе, в восторге от того, что она опять на Монмартре.
Лошадь очень медленно взбиралась на крутой холм. Повсюду можно было видеть художников в бархатных костюмах, стоявших у мольбертов, – на каждом углу, в дверях и, как и раньше, в сквере под деревьями.
Через несколько мгновений они прибыли на улицу де л'Абревилль, и дом, где была студия отца, показался ей даже более грязным и запущенным, чем накануне.
– Будьте любезны, подождите меня, – попросила Уна кучера.
Он кивнул, явно думая, что получит хорошую плату, так как вспомнил, откуда он ее привез, а Уна пересекла тротуар и вбежала в дом.
Она поднялась по грязной лестнице и вошла в студию отца.
Первое, что она заметила, – по сравнению со вчерашним днем в комнате стало немного больше свободного места. Большая часть отбросов, захламлявших комнату, была сметена в одну сторону.
Повернув голову, Уна увидела огромную кучу хлама в углу; тем не менее, в комнате оставалось еще немало предметов, которые могли бы ее пополнить.
– Вы откуда? – раздался голос.
Уна вздрогнула от испуга, не подумав, что в студии может находиться еще кто-то, кроме нее. Затем из-за скрывавшего его мольберта вышел человек, и Уна увидела, что это тоже художник.
Это было сразу понятно, потому что его синяя блуза была запачкана краской, а над большим, свободно повязанным галстуком черного цвета она увидела лицо совсем молодого человека с копной длинных неопрятных волос.
В одной руке у него была кисть, в другой – палитра.
– Вы… заняли эту студию? – спросила его Уна вместо ответа на его вопрос.
– Я переехал сегодня утром, – ответил он, – а тут такой беспорядок!
Уна собралась сказать ему, что беспорядок был оставлен ее отцом, но побоялась, что эта информация только озадачит его, поэтому она сказала:
– Я и не представляла, что здесь может кто-то быть. Я пришла посмотреть, не осталось ли картин после прежнего владельца.
– Уже нет, – ответил художник.
– Нет? – как-то глупо переспросила Уна.
– Сегодня утром пришли двое и все забрали, – объяснил художник. – Кажется, один из них – маклер.
– Месье Дюбушерон? – спросила Уна.
– Может быть его и так звали, но, раз он не интересовался мной, я решил, что и у меня нет причин интересоваться им.
Художник говорил неохотно, и Уна с сочувствием подумала: скорее всего, месье Дюбушерон решил, что его картины не будут продаваться.
Для Уны, однако, было неожиданностью узнать, что месье Дюбушерон побывал здесь до нее, и, если после отца еще остались какие-нибудь полотна, Дюбушерон продаст их, а герцог опять скажет, что она не должна тратить эти деньги.
Она взглянула на большую кучу старых вещей, раздумывая, осталось ли там хоть что-нибудь ценное, и не заметила, что художник ее разглядывает.
Потом он сказал:
– Вы очень милы! Не похожи на тех, кого часто можно видеть на Монмартре.
Уна слегка улыбнулась ему какой-то неопределенной улыбкой.
Она все еще колебалась, стоит ли ковыряться в грязных пыльных завалах, чтобы искать, не осталось ли там чего-нибудь, что можно продать.
– Вы когда-нибудь были моделью? – спросил художник.
У Уны округлились глаза.
У нее появилась идея, которая раньше не приходила ей в голову.
Она знала, что у художников бывают натурщицы, и, как она говорила герцогу, отец иногда просил мать позировать ему, но ей никогда не приходило в голову, что и она может этим заниматься.
– А натурщицам платят? – спросила она с любопытством.
– Уж будьте покойны, они за этим следят, – ответил художник. – Они выбирают, кому им позировать, словно они театральные актрисы.
Он говорил почти грубо, словно у него были раздоры с его натурщицами, и Уна спросила:
– Не можете ли вы… сказать мне… сколько им платят?
Его глаза сузились, и ей показалось, что он смотрит на нее задумчиво, словно увидел ее сейчас совсем в другом свете.
– Если вы будете позировать мне, – сказал он после паузы, – я заплачу вам в два раза больше, чем я платил этой ведьме, которая оставила меня из-за кого-то, кого она сочла более важным.
Он улыбнулся и добавил:
– Не думаю, что вы сыграете со мной такую же грязную шутку.
– Нет… конечно нет, – сказала Уна. – Ваша картина, наверное, еще не закончена?
– Посмотрите сами, – предложил он.
Она подошла к нему, надеясь, что эта картина будет непохожа на последнюю картину отца, которая ей так не нравилась.
Но то, что стояло на мольберте, весьма отличалось от всего, что писал Джулиус Торо, когда они жили семьей.
Она рассмотрела полотно на мольберте и сказала: – Я думаю… хотя я и не уверена… вы, наверное, импрессионист.
– Да, – ответил он, – и чрезвычайно этому рад, несмотря на то, что газеты называют нас анархистами, сумасшедшими и неразборчивыми в средствах авантюристами, которые хотят обмануть публику.
– И считают вас врагами «чистоты» французского искусства, – прибавила Уна.
– Болтают, что в голову придет, – резко сказал молодой художник. – Мы ни на кого не похожи – вот что их раздражает больше всего.
Уна знала – все так и есть – и всегда думала, что это смешно – считать, что есть «правильный» способ нарисовать дерево, поле или ручей.
Ее отец работал не в той манере, в которой были написаны картины, висящие в картинных галереях, и она знала, что великие пионеры импрессионизма обладали свежим взглядом на все вокруг них. Тем не менее, она не могла не подумать, что в работе этого художника не было мастерства, которое Уна могла распознать в любой картине, независимо от того, к какой эпохе она принадлежала. Уна понимала, что импрессионисты по-новому трактовали свет и движение в своих картинах, но холст, стоявший на мольберте, казался не только безжизненным, но и просто грязным.
На переднем плане она заметила туманный силуэт женщины, еще не прорисованный детально.
Как будто в ответ на ее вопрос, художник сказал:
– Я счистил все, что уже сделал. Я не хочу, чтобы эта женщина возвращалась, даже если она придет и станет на коленях умолять меня!
– Должно быть, она вас очень разозлила.
– Очень, – ответил он. – Но все женщины одинаковы.
– Не все из них, я надеюсь, – ответила Уна, – я хорошо понимаю, как обидно остаться без натурщицы, когда картина уже у тебя в голове!
Она знала, что художники, начав, обычно работают, как работал ее отец – пока перед глазами у него стоял образ, который он хотел запечатлеть на бумаге, он не обращал внимания ни на время, ни на усталость, ни на голод.
– Мне было бы лучше начать сначала, .-г-мрачно сказал художник. – Это большая ошибка – пытаться закончить картину, которую начал в одном месте, а потом переехал в другое.
– У вас была другая студия на Монмартре? – спросила Уна.
– У меня был угол в студии, – ответил он. —• Этим утром меня вышвырнули из нее, вот поэтому я и переехал сюда.
Он оглянулся на беспорядок позади него.
– Здесь ужасно мерзко, но я скоро приберу, так что вам не о чем беспокоиться. Вон там, вверх по лестнице, – спальня, где вы можете раздеться.
– Р-раздеться? – спросила Уна, которой с трудом удалось произнести это слово.
– Да. И давайте быстрее, – сказал он. – Скоро изменится освещение.
– Но… но я не могу! – сказала Уна. – Я… я хотела сказать… Я могу позировать вам… такой, какая я есть.
Художник уже смотрел на свою картину.
– Нет, – резко ответил он. – Я изображу вас в виде нимфы, выходящей из леса. Я хорошо это представляю. Поторопитесь!
Уна глубоко вдохнула.
– Я… мне очень жаль… – сказала она, – если я вам неправильно объяснила… но я боюсь… что я не могу больше здесь оставаться.
Он обернулся, и она увидела злость в его глазах, которая вдруг сменилась каким-то иным выражением.
– Играешь в недотрогу? – спросил он. – Или ты пришла сюда по иному поводу?
Было что-то в его голосе, что испугало Уну.
– И-извините меня… – поспешно сказала она, – но мне пора… пора идти… мне надо…
Слова замерли на ее устах, потому что художник отбросил палитру и шагнул к ней.
– Я уже сказал, что ты очень хорошенькая, – сказал он, – и теперь-то я понял твою игру. Хорошо, рисование может подождать.
Он протянул к ней руки, и Уне вдруг стало очень страшно.
– Нет, нет! – сказала она, пятясь от него. Улыбаясь, он пошел за ней.
– Нет! – вскричала она еще раз. Его резкий смех был похож на рык:
– Если ты хочешь, чтобы я тебя догонял, – пожалуйста! А когда я тебя раздену, ты будешь выглядеть как раз, как я хочу. Нет ничего лучше, чем совмещать дело с удовольствием!
Он говорил так, что Уна поняла – он угрожает ей чем-то столь ужасным, кошмарным, что на мгновение ей показалось: она не может двинуться с места, не может крикнуть.
А когда он ее схватил, она вскрикнула, вырвалась и бросилась к двери.
– Тебе не убежать! – заорал он.
Уна вскрикнула еще раз, и в этот момент в дверь, которую она оставила слегка приоткрытой, вошел мужчина; в ужасе Уна бросилась к нему и увидела, что это был герцог!
Герцог вошел в приемную и увидел, как и ожидал, Филиппа Дюбушерона с полудюжиной принесенных картин.
На губах его играла улыбка; она совершенно взбесила герцога; он решил, что француз пытался угадать, исполняется ли его план и показалась ли Уна герцогу соблазнительной настолько, насколько предвидел Дюбушерон.
Когда лакей закрыл дверь, герцог не стал трудиться пожимать Дюбушерону руку, а прошел к картинам, прислоненным к стулу.
– Вы нашли еще какие-нибудь картины Торо? – спросил герцог.
– Да, ваша светлость. Боюсь, что большая часть из них – просто наброски, хотя и очень интересные, к картинам, так блестяще осуществленным в последних работах.
Филипп Дюбушерон не собирался говорить герцогу о картине, которую Джулиус Торо писал перед смертью; она стояла сейчас в галерее Дюбушерона – он собирался ее сжечь.
Как и Уна, он сразу понял, что это было извращение пьяного ума, водившего кисть по каким-то диким, сумеречным тропам и выдававшего невероятные и неприятные сочетания цвета.
Герцог ждал, пока Филипп Дюбушерон, раздумывая, что же не так, поднимал полотна с пола и расставлял их на диване против окна, где они хорошо освещались.
Только одна из картин заинтересовала герцога, который сразу понял, что это был незаконченный портрет Уны в детстве. Он понял, почему ее отец был им недоволен, но, кто был изображен, можно было понять сразу. На заднем плане виднелся маленький, очень милый домик, который, решил герцог, и был их домом.
Его вдруг осенило, что одно из его подозрений было необоснованным. Нет сомнений, Уна действительно была дочерью Торо, и в течение некоторого времени он просто разглядывал картину, раздумывая при этом, что еще из того, что она ему рассказывала, является правдой и еще о том, что он неправильно судил о ней с самого начала.
Что-то в поведении Филиппа Дюбушерона, в его улыбке, в выражении его лица, где, как показалось, мелькала жадность, подсказало герцогу, что для него по-прежнему расставлена ловушка.
– Не очень впечатляющая коллекция, – сказал он вслух и автоматически отметил надменную, властную холодность своего тона, которая всегда звучала в его голосе в присутствии людей, которые ему не нравились или перед которыми ему нужно было отстоять свое мнение.
А Дюбушерон подумал, что сегодня герцог ведет себя совсем не так, как вчера вечером; он был сама любезность, когда увозил Уну из «Мулен Руж», оставив ему неприятную обязанность объясняться с разъяренной Иветт Жуан.
– Боюсь, это все, что я смог обнаружить в мастерской Джулиуса Торо, ваша светлость, – сказал он, – хотя где-нибудь на Монмартре могут найтись и другие его картины. Просто надо подождать.
Вряд ли такое может быть, подумал при этом Дюбушерон . В то же время ему нужно было поддерживать интерес герцога. Ему также нестерпимо хотелось разузнать новости об Уне.
Заметив, что взгляд герцога остановился на ее детском портрете, Дюбушерон сказал:
– Может быть, мисс Торо знает – не отдавал ли отец после смерти матери свои работы куда-нибудь на хранение. Как раз тогда, когда ее отправили в школу во Флоренцию, отец продал дом в сельской местности и переехал на Монмартр.
– Я понял, она с тех пор больше его и не видела, так что вряд ли она может знать, что он делал в ее отсутствие, – ответил герцог.
– Верно, – признал Филипп Дюбушерон. – В то же время мы легко можем это выяснить.
– Да, мы можем спросить ее, – согласился герцог.
Он немного подумал и сказал:
– Вы мне говорили, что сами встретили мисс Торо только вчера, когда она приехала в Париж и узнала, что ее отец умер.
– Да, это так, – ответил Филипп Дюбушерон. Дюбушерон не мог понять, к чему клонит герцог, и впервые подумал, что, похоже, он что-то подозревает, но почему – совершенно непонятно.
– Можно сказать, это было невероятно удачно, что вы появились в нужное время! – продолжал герцог.
– Для юной леди и впрямь очень удачно, – ответил Филипп Дюбушерон. – Ваша светлость не хуже меня знает, что такую хорошенькую девушку, особенно на Монмартре, поджидают самые разные неприятности.
Герцог издал звук, выражающий согласие.
– Многие рассказы о молодых художниках, особенно импрессионистах, – продолжал Филипп Дюбушерон, – имеют под собой реальную основу. Их поведение и распутные привычки приносят искусству дурную славу, и оттого необычайно трудно продавать их картины, да и любые картины современных художников.
– Я уверен, что вам, тем не менее, неплохо это удаётся, – холодно сказал герцог.
Филипп Дюбушерон красноречиво всплеснул руками:
– Как ваша светлость верно заметили, я справляюсь, но стараюсь угодить всем и каждому. Как раз и возникает вопрос – могу ли я вам как-либо помочь.
Герцог застыл словно в нерешительности, а Дюбушерон, чувствуя, что он подбросил рыбине, которая не клевала, новую наживку, молчал.
У него было отличное для француза качество – он знал, когда говорить, а когда молчать.
Если клиент сразу не отвечал на туманное предложение, которое могло бы его заинтересовать, Дюбушерон никогда не настаивал, а просто ждал. По долгому опыту он знал, что рано или поздно клиенты бывают вынуждены заявить, чего же они все-таки хотят, и ему не приходилось их принуждать.
Герцог, словно решил не продолжать разговор, произнес:
– Мне бы хотелось, чтобы мисс Торо посмотрела картины. Так как они принадлежат ей, возможно, она захочет оставить их себе, хотя, честно говоря, меня они тоже очень интересуют.
– Я могу вас понять, – ответил Филипп Дюбушерон. – Может быть, мне оставить их у вас и зайти позднее?
– Нет-нет, я попрошу, чтобы она их посмотрела прямо сейчас.
Герцогу вдруг пришло в голову, что он смог бы узнать побольше об этих двух людях и об их притворстве, если бы ему удалось посмотреть на них, когда они вместе.
Вчера вечером он наблюдал за Уной, а не за Дюбушероном. А сейчас, подумал он, можно понаблюдать за ними обоими и, без сомнения, он сможет увидеть что-нибудь, чего раньше не заметил.
Он открыл дверь и прошел по коридору в холл.
– Поднимитесь в комнату мадемуазель Торо, – сказал он лакею, – и спросите ее, не составит ли она мне компанию, придя в приемную.
– Мадемуазель уехала, месье!
– Уехала? – Герцог нахмурился и пояснил: – Я имею в виду юную леди, которая только что вернулась с прогулки вместе со мной.
– Да, месье. Она уехала через несколько минут.
– Невероятно! Она же прошла к себе!
– Она начала подниматься и вернулась, месье. Потом она попросила Жака поймать ей фиакр.
– Кто из вас Жак? – спросил герцог других лакеев, стоявших в холле.
Один из мужчин сделал шаг вперед.
– Я Жак, месье.
– Вы нашли фиакр для мадемуазель?
– Да, месье.
– Она сказала вам, куда она собирается ехать?
– Да, месье.
– И каков же адрес?
– Улица де л'Абревилль, дом девять. Это на Монмартре.
Герцог это понял и некоторое время стоял молча. Потом резко сказал:
– Принесите мне шляпу!
Словно по волшебству, со столика позади двери появилась шляпа.
Он надел ее и вышел во двор.
Фаэтон стоял наготове, как он и велел. Он сел, взял у лакея вожжи, и, дождавшись, пока другой лакей вскочит на запятки, направил лошадей на улицу. Он погонял лошадей так, что его собственный кучер, доведись ему это увидеть, очень бы удивился. Дюбушерону не нужно было и рассказывать ему о тех неприятностях, с которыми Уна могла встретиться на Монмартре.
Если мистер Бомон понимал, что конец века изменил мораль и поведение французов, то и герцог вполне осознавал это. Еще лучше, чем его управляющий, герцог знал, что под распутным весельем прекрасной эпохи скрывались порок и преступление, с которыми стало уже невозможно справиться.
Не одни художники вели себя нарушая все правила. Были еще и анархисты, презиравшие условности, принятые обществом; они намеренно вели себя как невменяемые.
Кроме немногочисленных эксцентриков, поступавших так же, большое количество мужчин одобряло политическую, догму, которая проповедовала разрушительный хаос и крайний индивидуализм, ведущий к самоубийству – физическому и духовному.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.