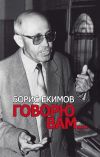Текст книги "В той стране"

Автор книги: Борис Екимов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Так было и в этот раз. В субботу электричество с утра не горело. К вечеру бригада с топорами да пилами добралась до окраинной улицы, до двора старой женщины, где высились у забора могучий вяз и клен, чуть поплоше, но тоже с просторной кроною. Электрики с деревьями не церемонились: большие ветви одна за другой с треском рушились на землю.
Старая женщина обычно деревья свои жалела. А нынче обрадовалась нежданному подарку: какие-никакие, а дрова. Мелкие ветки порубятся топориком, крупные – порежутся пилою. Все в дело пойдет.
Электрики, управившись, подались дальше. Ветки лежали навалом, одна на другой. По-доброму, ими сразу и надо было заняться. Но пришел уж вечер, стариковское тело просило отдыха, а не новой работы. Старая женщина, повздыхав, решила оставить все до утра, до свежих сил.
А утром был туман, редкий в этих краях, особенно летом. Молочная зыбь слоилась и лениво текла по улице, местами туман редился, открывались чистые прогалы земли. Но снова наползала белая сырая мгла, все хороня в себе.
Хозяйка и во сне помнила вчерашнее и потому первым делом пошла за ворота.
Понизу, по земле, туман был реже, и с первого взгляда старая женщина поняла неладное: мало веток лежало у двора, под деревьями, вечером их было куда больше. Не веря глазам, она подошла ближе и убедилась; самые большие, толстые ветки пропали. Грудилась мелочь. Старая женщина по улице прошлась, туда да сюда. Может, ночью молодежь баловалась и разбросала.
Но дорога была пуста. И, вернувшись к своим воротам, старая женщина ясно поняла: унесли, утащили ветки.
На душе сделалось горько, слезы подступили. Вот она – немощная старость. Кто хочет, тот и обидит, словно сироту. Несчастные ветки Бог как милость послал, и тех лишили.
Слезы потекли, а на душе не легчало. Молча плакала уже не столько о ветках этих, сколько о всей жизни.
Утро просыпалось нехотя. Старая женщина вернулась в дом, бродила там из угла в угол неприкаянно. Горечь, сердечная боль жгли не утихая. И некому было сказать, какая это боль…
В окошки глядел белесый туман. В простенке меж окон в простецкой рамочке, под стеклом, висели фотокарточки родных, живых и покойных: родители, дети да внуки. В полумгле туманного утра старая женщина уставилась взглядом на фотоснимки и они словно засветились.
– Дорогая жалкая моя мамушка… Родненький папаня, жалкай… Пожалиться вам хочу, боле некому… – в голос запричитала старая женщина.
Но в эту минуту что-то стукнуло у крыльца, возле дома, кто-то громко кашлянул и все разом пропало: померкли лики родителей – остались холодное стекло и бумага. Некому было причитать, некому плакаться.
Горько вздохнув, старая женщина пошла из дома. Но когда выбралась на порог, ранний гость, сосед ее, уже убрался и в своем дворе, за забором негромко, но слышимо доказывал сам себе: «В райком… Именно в райком, к первому секретарю. Секретарь их пощуняет…»
Туман помаленьку редел, растягивался, открывая утреннее розовое небо, дома. Поднималось солнце. Пора было приниматься за дела. Ветки во двор унести, пока последние не растянули, огородом заняться, и стирка сегодня ждала, полы вчера не успела помыть – день праздничный, а отдыха нет.
День наступал воскресный, и потому с утра по улице народ на работу не спешил. Не слышно было ни шагов, ни говора.
Старая женщина в недужном забытье пристально глядела вдоль улицы. Казалось ей, что кто-то, но должен прийти. Так хотелось, чтобы кто-то пришел: выслушал ее, пожалел. И стало бы легче.
Улица лежала пустынной. Но вот издали, из тумана, стали раздаваться шаги, и женщина потянулась вперед, чтобы разглядеть идущего. Она шагнула раз и другой и, предваряя встречу, заплакала негромко, но в голос.
Незнакомец, идущий по дороге, услышал ее, увидел и, подойдя, спросил:
– Чего случилось?
Старая женщина утерла слезы и, подняв лицо к незнакомцу, стала говорить:
– Сыновей-то у меня двое, вырастила… Но оба в городе, ученые люди. А я нынче…
Прохожий дальше слушать ее не стал, бросив скороговоркою:
– Иди, иди… Ступай домой.
И ушел, быстро исчезнув в тумане.
Старая женщина, не веря в его исчезновение, испуганно смолкла, шагнула в сторону, прижалась к стволу старого вяза.
Слезы кончились, а невыплаканное осталось. Его было так много, им полнилась грудь. И сердцу некуда было помещаться. Сердце стискивалось, биться уже не могло. И оттого болело. С каждой минутой горше становилось, больней. И вот-вот должна была взорваться эта боль, все затопляя и все разрешая.
Чья-то рука тронула старую женщину за плечо. Знакомый спокойный голос сказал:
– Мы пойдем… Чуток развиднеется, и пойдем. В райком, прямо к первому секретарю. Мы скажем: вот он – трудящий человек. Она с малых лет трудилася…
– С двенадцати лет в колхозе… – вздохнула старая женщина.
– С двенадцати, на колхозных полях! – громко повторил сосед. – А война пришла… – продолжил было он и споткнулся.
– Уж в войну-то пережили… До смерти из глаз не выкатишь. Такая ига… Окопчики все лето кажеденно копали. На Семи курганах копали, в Логу копали, в займище копали. А в зиму – и вовсе – противотанковые рвы на Назмище, над Доном. Морозяка жмет, земля закаменела. А на нас, прости господи, и исподнего нет. А горячего когда привезут, когда – позабудут. А с обозами как ходили, в ездовых. Снаряды возили аж за Миллерово. По десять суток туда да обратно. Страшно… Бомбят… Маню Сидоркину с нашего хутора до смерти подорвало. Меня ранило…
– Так и скажем в райкоме, – обрадовался сосед. – Фронтовичка, имеет ранение.
– Пережили, не дай бог… И в войну, и после войны… – не слыша его, вспоминала старая женщина. – В работе да в работе… Как борозденный бык… Детишки малые… Колоски сберешь… Мельничка… Огород, слава богу… Спасались…
Проходило в памяти давнее, и сладкого там было немного. Но почему-то в груди теплело. Слезный ком, что прежде дышать не давал, понемногу истаивал. Сердечная боль утишалась.
– Развиднеется, и прямо пойдем к военкому, – убеждал сосед. – Как участник войны…
– Пойдем, жалкай мой, пойдем… – соглашалась старая женщина. – Солнышко, вон оно… Делов ныне… Тебе картошку подбивать… А меня помидоры огорчают. Вощаные стоят, росту нет. Пропущу их да полью с навозом. Пойдем, жалкай мой, пойдем…
Городская кошка Лариса
Майским погожим вечером ко двору старого Трофима Абжукова подъехала машина. Подкатила к воротам, посигналила, извещая хозяина и призывая. Старик находился в ту пору у соседей. Услыхав шум мотора да пенье гудка, поспешил он к дому, угадывая издали голубые «Жигули» сына.
После смерти жены Трофим Абжуков третий год жил один, на своем подворье, на хуторе. Дочери разлетелись давно и далеко; младший сын находился под боком, в областном центре. В прежние времена и до него было рукой не достать: дороги худые и через Дон переправляться на пароме. Нынче бежал мимо хутора асфальт, над Доном крылатился бетонный мост. Два часа от города, при любой погоде. Нечасто, но приезжал сын, проведывал. Все больше – один, жена его да ребятишки хутор не очень жаловали.
Нынче приехали вдвоем. Машину и сына Трофим издали признал, а вот к рыжеволосой девочке подойдя, стал приглядываться.
– Не узнаешь меня, дедушка? – спросила девчушка и весело представилась: – Тамара Абжукова.
– Ну, раз Абжукова, значит, своя, – сказал старик.
Гости не успели приехать, а уж заговорили об отъезде.
– Мы ненадолго, сразу – назад. На завтра – билеты, в Ленинград улетаем.
Вынули из машины сумки с городскими гостинцами. В одной из сумок мяукнуло. Трофим поглядел удивленно.
– Это мы тебе Лариску привезли, погостить.
– На неделю всего.
– Соседи тоже в отпуске.
Внучка Тамара открыла сумку и взяла на руки рыжую кошку:
– Красивая, правда, дедушка? Она у нас красивая, хорошая, умная. Она у дедушки поживет, а мы скоро приедем…
– Понимаешь, не на кого оставить, – говорил сын. – Думали-думали, хоть билеты сдавай. Решили к тебе. Ровно на неделю. Мы продуктов ей привезли, чтоб тебе не заботиться.
Кошка была большая, пушистая, рыжая, словно лиса. А хвост – прямо правило лисье.
– Лариса, Лариса… Маленькая моя… Она не будет скучать у дедушки. А мы скоро за ней приедем… – воркуя, ласкала кошку девочка, неся ее через двор к дому.
Трофим, усмехаясь, шел рядом и у крыльца сказал:
– Кидай… По двору побегает, обвыкнется.
– Нет, нет! – в один голос воскликнули сын и внучка. – Она – лишь в доме, она – во дворе не сможет… В дом, в дом ее…
Прошли в дом. Внучка и сын наперебой объясняли старику:
– Она – лишь в квартире, даже на балкон – боится. Она же родилась и выросла на двенадцатом этаже. Ее нельзя выпускать, и она не пойдет.
Трофим слушал недоверчиво, глядел, как устраивается на коврике в углу рыжая гостья, как ставят возле нее мисочки для еды и питья, а у порога – ящик с песком, для нужд известных. Он слушал, но верить особо не верил. Мало ли что плетут.
Гости скоро уехали. Трофим проводил их, постоял за двором, глядя вослед убегавшей машине. Подошел сосед:
– Твои, что ли, были?
– Вроде мои…
– Почему вроде? – усмехнулся сосед.
– Нынче ручаться никак нельзя, свои ли, чужие. Какой год их видишь, а какой и нет. Вот и угадай. Бабка, бывало, все обглядывает, оттель да отсель, свои иль кукушкины. А мне кого покажут, того и целуй. Вроде на веру. Хоть сучку с чужой улицы приведут. Отчуралися… – вздохнул он и добавил: – Вот кошку мне привезли.
– Чего-чего?
– Кошку. Говорят, не с кем оставить. Сами-то в Ленинград уезжают на неделю. Потом заберут.
Постояли недолго и разошлись по своим дворам.
Хоть и вдовел Трофим третий уже год, но держал в хозяйстве овечек да коз, поросенка, немного птицы – вроде для жизни. Корову он перевел сразу, как жена умерла. Но без молока не сидел, соседи выручали. И пресное у него водилось, и кислое.
Нынче надо было городскую кошку потчевать. Трофим налил ей молока, а потом, усмехнувшись, понес чашку с молоком из хаты, зовя за собой гостью: «Кис-кис-кис…» – Кошка послушно в коридор прошла, но у порога встала.
– Кис-кис-кис… – звал ее Трофим, поднося молоко к самому носу и вновь отставляя за порог.
Кошка во все глаза глядела на новый мир, который лежал за порогом. Глядела-глядела, а потом прыгнула и исчезла в комнате.
А вроде ничего страшного вокруг не было: ни собак, ни иного зверья. Двор как двор: летняя кухня, сараи, базы, задичавшие кусты сирени.
Трофим хмыкнул осуждающе, но молоко отнес в дом. Там кошка его полакала и снова улеглась на коврик.
Старик поужинал, включил телевизор и стал глядеть. Но там что-то не больно ладное казали. И снова о кошке подумалось. Она лежала, подремывая. Трофим позвал ее:
– Кис-кис… Иди сюда.
Кошка послушно прыгнула старику на колени и замурлыкала. В рыжей пушистой шерсти, с розовым носиком, она была хороша.
– Глупомордая… – попенял ей Трофим. – Чего ты двора боишься? Тама… – произнес он и не мог рассказать. – Одно слово, воля. А тут… – обвел он глазами стены. – Вроде тюрьма. Дура ты, дура и есть, – постановил он, глядя в зеленые кошачьи глаза. А потом вдруг подумал, что кошка не знает иного, лишь – стены. А коли не знает, то и понять не может. И словами ей не втолкуешь. Сама должна увидеть, почуять, тогда – поймет.
Старик погладил кошку. Она ласкалась, выгибая спину, мурлыкала.
– Пошли… – сказал ей Трофим, поднимаясь. – Не бойся. Никто тебя не укусит.
Пока в доме были, кошка лежала в руках спокойно. Но лишь шагнул Трофим за порог, и рыжая моментально скользнула из рук его – только и видели ее.
Старик вернулся в дом. Кошка сидела на прежнем месте, на коврике, и глядела настороженно. Трофим был человеком упрямым. Он взял сумку, подманил кошку, успокоил ее и в сумку посадил.
– Так-то вот… – сказал он удовлетворенно. – Теперь не упрыгнешь.
Он вышел во двор, у крыльца, возле куста сирени, раскрыл сумку и приказал:
– Вылазь.
Понимая, чего хотят от нее, кошка прилегла ко дну сумки.
– Вылазь, – повторил Трофим и, ухватив рыжую гостью за шкирку, вытащил ее из сумки.
Он почуял, как тело кошки сжалось и словно окаменело. Глаза ее раскрывались все шире и шире, а потом сожмурились, словно от ужаса. Трофим положил несчастную животину на землю возле куста сирени и отошел в сторону. Кошка не шевельнулась и осталась лежать, ткнувшись мордою в землю ли, в лапы.
– Кис-кис… – немного подождав, позвал Трофим. Но она лежала, словно мертвая. Старик испугался, подумав: «Подохнет еще, будет беды…» и унес в дом глупую животину.
В комнате, на привычном коврике, кошка быстро пришла в себя, распушилась и замурлыкала. Трофим глядел на нее и удивлялся: «Вот чудо так чудо. Правда, что – Лариса. Добрым людям скажи – не поверят…».
На том и кончился день. Улеглись спать, каждый на своем месте. А утром поднялись к своим же делам. У кошки их было поменьше: поесть, а потом долго умываться. Трофим прогонял в стадо коз да овец, кормил поросенка, птицу, а когда вернулся в дом, кошка еще умывалась мурлыкая.
– Глупомордая, – сказал ей Трофим. – Для кого намываешься? Мне – на люди. А тебя кто придет глядеть? Кому ты нужна? Лариса…
Услыхав свое имя, кошка вскинулась. Но старик лишь рукой махнул, повторив:
– Глупомордая. Чего с тобой толочить…
Он позавтракал и пошел на пчельник.
Пчелами Трофим занимался давно. Помногу их не водил, а десяток ульев всегда имел, размещая их возле дома. Усадьба лежала на краю хутора, на взгорье высокого донского берега, который к воде уходил полого, потом обрывался крутояром. Просторные лесистые балки отрезали хуторское взлобье от холмов соседних. Подле самого двора, в молодом дубняке, стояли ульи.
Старик любил возле пчел бывать. Гулливый народец, суетной, работящий, казался чем-то людям сродни. На рамках, на сотах кипела жизнь, шла работа. Уже серебрился на донышках восковых чаш светлый напрыск – капли нектара и меда, белела черва – молодые личинки.
– Давай, давай, – похваливал старик пчелиную матку. – Нам народ нужен.
– Старайтесь, не ленитесь… – бурчал он рабочим пчелам. – Самый цвет… Вон зовут вас…
Там и здесь, на восковых рамках, затейливо танцевали пчелы-разведчицы, рассказывая о пахучих полях золотистой медуницы, о зарослях душистой акации, увешанной белыми гроздьями цвета, об алых кустах шиповника – о всех богатствах молодого лета, которое цвело и пенилось на зеленых придонских холмах, в тенистых балках и укромистых, затихших падинах. Нынче везде было хорошо. Даже здесь, у самого двора.
Полегонечку ропотали дубки бархатистою листвой. Рядом курчавилась молодая полынь целины. Неподалеку шумело под ветром хлебное поле мягким усатым колосом и жесткой листвой. Внизу, под горою, огибая кручу, синело коромысло Дона.
Весенняя вода еще не упала, задонское займище – тополя да вербы – стояли по колено в воде. Серебрились вдали залитые водой низины, рукава, старицы. А дальше лежала зеленая земля, до самого края в зыбком синеватом туманце. И небо – в летних, высоких облаках.
Кошка вдруг вспомнилась, бедная городская гостья – Лариса, сидящая в четырех стенах. Подумалось, что зря вчера дрогнуло сердце: нужно было оставить ее во дворе подольше. Полежала бы, обвыклась и теперь грелась бы на солнышке, гонялась за всякими бабочками да жуками. Мышей бы ловила, их тут полно.
Трофим подумал и пошел в дом, принес кошку в той же сумке, что и вчера, и посадил в тень дубков, на мягкую траву-вейник. Как и вчера, в закрытой сумке кошка вела себя спокойно, а на земле судорожно сжалась и словно одеревенела. Ткнулась головой в лапы и замерла.
– Ничего, ничего, обвыкнешься, – сказал ей Трофим. – Потом и в хату тебя не загонишь.
Он оставил кошку и ушел к пчелам. А потом его позвал сосед, и они до полудня мучались со стареньким сепаратором, налаживая его. Там же, у соседей, Трофим пообедал и пошел домой, отдыхать.
Малиновый коврик в горнице напомнил ему о рыжей гостье, Ларисе. Старик заохал, досадуя на забывчивость, и поспешил к пчельнику, к молодым дубкам.
Кошка лежала так, как оставил ее Трофим: на том же месте и в той же позе, ткнувшись мордой в лапы. «Сдохла…» – подумал Трофим, но, тронув рыжую, понял, что жива.
Он отнес ее в дом, на коврик в горницу, налил молока в миску. Не сразу, но кошка пришла в себя, оживела, жадно лакала молоко, покашивалась на Трофима. И когда он поднялся, кошка метнулась и спряталась под диван.
– Не трону, не трону… – сказал ей старик. – Живи, как в рукомойнике, взаперти.
Он подлил ей молока и ушел отдыхать в комнату-боковушку. Лег и думал о кошке: какое-то вроде уважение к ней появилось. Это же надо суметь: пластом пролежать полдня и с места не двинуться.
Больше Трофим рыжую Ларису не трогал. Кормил ее, каждый день менял в ящике землю. Кошка в доме освоилась: ходила-бродила, порою играла в свои кошачьи игры. Вот и все.
Неделя прошла быстро, и к сроку приехали за Ларисой, забрали ее, и делу – конец.
А Трофим долго ее вспоминал. Особенно вечерами. Днем – дела, хозяйство, заботы. Огород да картошка, колорадский жук донимал. Сено косить козам да овечкам. Дрова к зиме потихоньку готовить. Завалинку хотел сделать из кирпича, но не вышло, не добыл кирпича. В общем, дни пролетали быстро.
Вечером, перед тем как спать идти, Трофим Абжуков сидел на крыльце, сумерничал. Лет ему было семьдесят пять. Телом он усыхал, горбился. Особенно это было заметно вечером: сидит на крыльце худой, сгорбленный, седые волосы торчат из-под кепки, темное морщинистое лицо, тяжелые кисти рук со вздутыми венами отдыхают на острых коленях.
Летним вечером на крыльце хорошо. Ласточки со щебетом носятся или сидят на проводах, тоже щебечут. Лопочут скворцы. В июне их уже нет во дворе, убрались: вырастили птенцов, сбились в стаи и пируют в садах и полях. Воробьиный гвалт, пенье иволги, серебристый звон щуров, улетающих на ночлег.
Зелено во дворе и в саду, на просторных крыльях холмов. Хлебное поле в свою пору серебрится внизу. За ним – кудрявое займище, поля, селенья – мир далекий, просторный во все концы. Высокое летнее небо с редкими островами облаков, которые долго светят, горят алым и багряным. Глядишь на них, и покой на душе. Худое все забывается.
В такие минуты старик иногда вспоминал о городской своей гостье, рыжей кошке Ларисе. Вспоминал и не мог в разум взять: что ее так пугало в этом покойном мире…
Потом он о детях начинал думать, о внуках, о жизни вообще. Было о чем подумать.
«Кто там пришел?..»
Поздней слякотной осенью уезжал я из Москвы поездом от Павелецкого вокзала. Состав подали ко времени. Прошел я в свое купе, разделся, и, сидя у окна, рассеянно наблюдал перронную толкотню.
Объявились попутчики. Вначале их вещи: сумки, картонные ящики, рюкзак выросли горой на проходе. Следом хозяева, распаренные муж и жена.
– На колесиках сумка здесь?
– Здесь.
Стали проверять они свое добро.
– Полосатая?
– Вот она.
– С харчами? Рюкзак? Восемь мест должно быть. Перечти.
– Раз, два, три…
Пересчитали. Сошлось.
Растолкали вещи по углам и наконец облегченно вздохнули, словно не веря, что все позади: долгие сборы, непростая дорога к вокзалу, потом – к вагону, суета, нервотрепка. Теперь все кончилось. Как не вздохнуть.
Общий вздох получился шумным. Супруги были, что называется, в теле. Лица – простецкие, возраст, как говорится, средний.
Но отдых получился недолгим.
– Сколько времени? – спросила жена.
Супруг ее неторопливо сдвинул рукав, выказывая дорогие заграничные часы.
– Тридцать минут, девятнадцать секунд. Можно на перроне покурить.
– Сиди! Я пойду сбегаю, погляжу, может, куплю чего.
– Я с тобой.
– Сиди! И не мыкайся со своим куревом. Успеешь еще, наглотаешься. А то… – она глянула на меня. – Займут еще места. Сиди. Я тебе, может, пива куплю.
И подалась на выход. Супруг ее послушно остался. Не сразу опустив сдвинутый обшлаг, он сообщил, указывая на часы.
– «Ориент». Марка такая. Самая лучшая. Противоударные. Пылевлаго… Я их даже в парной не снимаю. Кто меня не знает, кричит: часы, мол, забыл, часы. А я говорю: ничего не забыл, это – «Ориент», пылевлаго… Свои-то все знают. Мы каждый четверг как штык в парнушке. На работе отгул беру, все знают. И моя уже не рычит. Знает: четверг – парная. Целый день там. Все – свои ребята. Приходим, из парной всех выгоняем. Наводим марафет, проветрим, потом парку поддаем по-нашему. Каждый четверг. Пиво, рыбка. Весь день кружимся.
Он хвалил свои бани, парную, пивную на Селезневке. Вернулась из похода жена, объявила:
– Взяла ребятам две «Пепси» по 170, а везде по 250. И пива – тебе.
– Молоток. Сколько?
– Одну.
– А чего одну? – разом скис он, а потом дернулся: – Я еще пойду возьму.
– Сиди! Обойдешься! – отрезала жена, и попутчик мой сдался.
Он помолчал недолго, потом сказал:
– Чего-то пить захотелось. Давай откроем пиво, – он быстробыстро доказывал, пока супруга рот не открыла. – Тянули-то вон как: на мне – рюкзак, чемодан, полосатая сумка да еще ящик ты на рюкзак поставила. Я весь мокрый, на работе так не вспотеешь. И ты тоже тянула, тоже вспотела. Открой пиво, а потом я пойду покурю. Я люблю так: пива выпить, а потом покурить.
Длинной ли речью, трудами, но пиво он заработал. Супруга себе налила, а остальное он проворно высосал и отправился в тамбур курить.
Поезд тем временем тронулся, мы поехали, оставляя вокзал Павелецкий, его толчею, осеннюю слякотную Москву и ее заботы. У нас были заботы свои: проверка билетов, постель, у одних – сладкая поездная дремота, у других – обед ли, ужин, словом, тоже поездная, неспешная еда с долгим разбиранием свертков, кульков, пакетов.
Я подремывал, попутчики мои решили «покушать». Муж усердно резал хлеб, разламывал курицу, раскладывая вареную картошку, яички, многозначительно понюхал соленый огурчик и вперился глазами в жену. Но та взглядов не понимала.
– Ну, ты чего? – спросил тогда он.
– Чего…
– Сели же покушать.
– Вот и кушай, кто не дает…
– Так ты налей! – возмутился мужик.
– Ты уже пива выпил.
– Пиво не считается, это – вода.
– Хорошая вода. Две сотни. Не пил бы, если вода. Взял бы и отодвинул.
– Ну, налей… Я же – в отпуске.
– С послезавтрева. А нынче – суббота. В понедельник и выпьешь.
– Я всю неделю пахал с девяти до девяти, как бобик.
– Упаханный и приползал.
– Ну, налей…
Это был, видимо, ритуал, наезженный, семейный, потому что выпить хотелось не только «отпускнику», но и самой хозяйке. Стакан был наготове, бутылка – под рукой.
Выпили. Обед пошел своим чередом. С разговором, как и положено, когда путь впереди далекий, а дел – лишь басни тачай да кури. Но курить моему спутнику было рано, потому что смягченная супруга не отказала в другой рюмке, и как знать…
Разговор не уходил далеко от стола и бутылки.
– Настоящая, останкинского разлива. Вот она, пробочка, – объяснял мужик. – Во-первых, буквы, а во-вторых, поясок. Буквы-то они навострились подделывать, а я по пояску отгадываю. Когда берем, меня всегда ребята посылают, потому что я сразу вижу: какая – заводская, а какую на хате слепили. Глаз – ватерпас. А то этикетку наклеят: «Пшеничная», «Столичная», а там – такая зараза, неделю башка гудит. А бывает – облазят. Да, прямо шкура слезает, – хохотнул он. – В сто одиннадцатом магазине такой торговали. По дешевке, по 300 рублей. Все туда кинулись, а потом облазили, вроде загар.
– Это Гаданян. Он сто одиннадцатый приватизировал. И крутит. У нас тушенка по 350 рублей, а у него – 500.
– Не тушенка, – поправил ее супруг. – А рубленое мясо или китайская свинина.
– А я говорю, тушенка. Германская, из гуманитарной помощи.
Выпили еще. Появился на щеках свекольный румянец. Разговор живел.
– Гаданян – он стройматериалами заведовал, там нахапал, решил выкупить. Но сразу не прорезало. Тогда он сто одиннадцатый магазин выкупил и «Аленушку». И стройматериалы все равно заберет.
– Еще бы… Макароны у нас по 90, у него – 120. Индийский чай, 2-й сорт, малая пачка – 97, а у него – 130. А «слоны» – 300. Он бракованный берет или несортовой. А то и вовсе… Гога пригнал «Алку» с чаем и нашей заведующей честно сказал: грузинский, а упаковка индийского. Она побоялась. А Гаданян всю «Алку» забрал.
– И правильно сделал. Добрый индийский, он сроду в продаже не идет, мы его меж собой делим. Второй сорт татары с руками отрывают. Им не «слоны» нужны, а второй сорт. Он им слаще.
Поезд между тем спешил и спешил, оставляя позади осеннее Подмосковье, его леса, уже отпылавшие сентябрьским многоцветьем, и теперь – сирые, обдутые ветром. Тянулись за окном мокрые поля, раскисшие дороги, стада новых дач-скворешен на залитых водой болотах. День медленно угасал. Долгий обед ли, ужин в нашем купе не кончался.
– Ну, налей, я – в отпуске.
– С послезавтрева!
– Ну, налей…
– Захлебнись. И я выпью.
Красные лица, сальные руки, разговоры одни и те же.
– Килька астраханская в «Заре» – 150, а в «Аленушке» – вдвое.
– Гаданян дело знает.
– Маргарин немецкий, из гуманитарной помощи…
– Второй сорт завезли, а он…
– Некондицию, ее тоже надо с умом…
– Подержи ночь в тепле, будет парное.
Скучный для меня разговор, не больно понятный. Я задремывал, порой просыпался, с тоскою думал о том, что ночь будет длинной и неспокойной, с пьяным храпом, запахом перегара, пота и табака.
В одном из купе послышался детский голос. Где-то неблизко, у выхода, и слов не разобрать. Просто детское высокое голошенье. Спутники мои разом смолкли, прислушались. Детский голосок прозвенел еще раз. Соседи мои молчали, подавшись к дверям и коридорному пустому пространству. Пахнуло в купе иным. Хозяйка стала прибираться на столе, обронив:
– А наш бы сейчас не посидел.
– Конечно… – поддержал ее муж. – Лез бы куда ни попадя. А скажи ему, он сразу: деда, успокойся. Ну кто его так научил? Руку еще, как Ленин, поднимет. Деда, успокойся.
И снова смолкли. В четыре руки прибрали на столе. Прежние разговоры словно ветром смело. Поглядывали друг на друга, вздыхали. И я на них глядел, удивленный.
– Кто там пришел? – Я… Каждый вечер такой разговор, – объяснила спутница. – Как вечер, ждет его. Ключ в дверях звякнул, кричит: кто там пришел? Это дед мой любимый пришел! – в хрипловатом голосе женщины серебром прозвенела детская музыка. – Это дед мой любимый! И мчится.
Она посмотрела на мужа. Тот зажмурился. Словно почуял, как на плечи ему упали, как обхватили шею горячие тонкие руки.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?