Текст книги "Я+Я. Жизнь карикатуриста. Прелюдия"
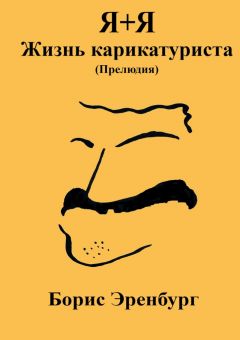
Автор книги: Борис Эренбург
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

В остальное время мы объедались яблоками, вишнями, крыжовником и поречками, слушали вранье Ленькиного деда. Во второй половине большого одноэтажного дома с огромным двором кроме Сруля с бабкой Любой, занимавших большую комнату, жили Циля и Анна Федоровна. Последняя была одинокая старуха, а Цилин сын Арон был водителем кинопередвижки. Однажды он загнал свою машину во двор, повесил на сарае экран и устроил бесплатное кино под белорусскими звездами.
Огромный двор был разделен: большую часть передней части занимал садо-огород дедушки, – клубника, яблони, вишни, крыжовник, поречки и даже кукуруза.
Затем шел ряд сараев с козлами и колодами, а за ними между участками соседей по дому – тропинка к двухкаютному сортиру, процесс возведения которого сохранился на самом дне моей памяти. На его же дне, в его бездне кишели бесчисленные белые фосфоресцирующие червячки – червям числа нет, бездне – дна… Горизонтальные внутренние перекладины, служившие «поручнями», были сточены и заполированы ладонями справлявших нужду поколений.
Вероятно, благодаря такого вот рода «удобствам» водились во дворе гигантские шумные мухи с люминесцентными брюшками – против них применялись хлопушки из толстой резины на деревянных ручках, являвшиеся непременным инвентарем в каждом доме.
Во время перерывов в электроснабжении дома зажигалась керосиновая лампа, у которой часто лопалось стекло. А кто помнит сегодня чугунные угольные утюги? А керогазы? А звонкие рукомойники?
Когда-то, когда я был совсем маленький, жили в доме дядя Коля с женой – по-моему, они не были евреями. Потом они съехали, но я их помню, так как они иногда заходили навестить дедушку и прочих. А в общем-то подавляющее большинство квартала и улицы говорили на идиш и играли в «1000» и в «501». Иногда к деду приходила играть очень приятная пара – его звали дядя Шура…
С годами дедушка начал обрезать знакомства – его очень удручала прогрессирующая глухота, последствие контузии. Слуховой аппарат, видимо, не оправдывал ожиданий. Помню, когда-то можно было кричать ему в ухо, позднее начались записки. Как сейчас я помню во всех подробностях послеполуденную картинку нашей с ним «беседы»: я пишу карандашом на листочке в косую линейку, дедушка лежит на диване с газетой, а рядом на подоконнике из стакана с водой «смеется вставная челюсть…», вернее, челюсти.
В соседнем дворе жил врач Ратнер, дед Сережи и Андрюши. Он был богачом – владельцем отдельного дома, машины и собаки Полкана. По другую сторону от нас жила тетя Нехама – ее смерть была, пожалуй, первой смертью, с которой я столкнулся. Ее сын, приехавший на похороны, был в молодости другом и свидетелем гибели папиного брата Самуэля.

Через дорогу был большой огород, принадлежавший «учительнице». Постоянно мы, ребята, ссорились с ней из-за залетавшего к ней на грядки мяча.
На углу жил Пинский, к которому раз или два приезжали внуки Борька и Мишка из Кишинева. С Борькой, хулиганистым парнем, я сошелся тогда довольно близко. Помню немолодого поджарого человечка – по-моему, их родственника, которого называли Меламед.
Рядом с Шерманом, упомянутым в истории с кортиком, и его внучкой Геней, проживала безымянная женщина с двумя детьми, которая, по-моему, не считалась своей в этом квартале.
А водяная колонка, из которой добывалась вода, находилась за углом огромного, совсем «Уайльдовского» сада, владелицу которого мне довелось видеть всего однажды.
Периодически проходила по дворам некая старуха, которой необходимо было подавать пищу и одежду: вариант квартального нищего. Калитки закрывались на своеобразные крючки-засовы, рычажки которых торчали снаружи: Нехамин, например, в форме бараньей головы, наш – совсем простой.
Почту разносила одна и та же улыбчивая и сердечная почтальонша.
Во время одого из своих «визитов» в Речицу, кажется, в 1969 году, я впервые «познакомился» с Высоцким. Гарик знал наизусть и надиктовал мне немало песен, а у Ленькиного отца была целая стопа магнитофонных записей, которые мы слушали тайком. С тех пор Высоцкий со мною всегда и надо всеми, и в горе, и в радости, и в России, и в Израиле, он мой Поэт…
Речица была классическим курортным городом – оттого так широка география мест, из которых приезжали внуки к своим бабушкам и дедушкам. Были там великолепные песчаные пляжи и ослепительный песчаный остров, был роскошный старый парк на круче, над Днепром. Как я уже упоминал, из него можно было спуститься к берегу по двум крутым деревянным лестницам с площадками для передышки посередине. Эти лестницы ветшали на моей памяти год от года. Интересно, существуют ли они сейчас?

Короче говоря, Речица со всем перечисленным выше, а пуще всего с летним ничегонеделанием, была и остается воплощением и символом моего истинного детства и моей истинной юности, в которые я постоянно возвращаюсь мыслями. Попробовал я однажды вернуться в этот милый моей душе мир и физически – с молодой женой – и навсегда зарекся топтать травы (и пески!) прошлого… Как в песне «Город детства»: билетов нет…
Начиная с 13 лет я ездил в Речицу один. Поезд Челябинск – Москва (30 часов), Москва – Гомель (12 часов), Гомель – Речица (2 часа). Это были восхитительные поездки, через всю грандиозную Европейскую часть России, над ошеломляющей своей шириной Волгой; всему этому я обязан очень просторной своей внутренней системой координат…
Масштаб моих детско-юношеских путешествий был не намного мельче масштаба всех моих последующих поездок по Союзу – а я был «профессиональным» командировочным – и всех моих поездок по миру в Израильской жизни. Да и две упомянутые пересадки доставляли мне массу впечатлений и жизненного опыта. В частности, на Белорусском вокзале я попался в лапы группе шпаны. Под угрозой ножа из меня были «вынуты» все мои деньги – 5 рублей. Впрочем, я умел разговаривать с урками, да и трусом не был – подчинялся обстоятельствам. После недолгого общения, ставшего с тех пор для меня символом гуманного беспредела, расстались мы почти друзьями: ребята проводили меня на поезд и подарили на память значок – висюльку Спасской башни…

Обычно, когда я заходил в дедов дом, мне удавалось застать его врасплох – благо, дед не слышал. И всегда окатывало меня такой волной радости: «О, мамка дорогой!»
Именно эти мгновения символизируют для меня высшую степень приязни и любви, которые кто либо когда либо обращал ко мне..
К моему приезду дедушка готовил мне жилье в сарае: ставил рядом с поленницами дров большую панцырную кровать, рядом стол, стул, на столе – керосиновая лампа. Позже было проведено электричество. В этой своей «келье» я спал и читал. Там я прочел массу книг, в том числе одолженную у родственника – владельца лошади – жившего, по-моему, на улице Колхозной, – Тору, изданную до революции наполовину по-русски, с «ятями», наполовину на иврите (или идиш?!).
Семенит мой сгорбленный дед по моему детству в своей парусиновой паре, опираясь на палочку, с коричневой толстой лакированной кожи простенькой сумкой. По сей день несет он с рынка груши и яблоки внуку, глотающему книги в пыльном аромате приговоренных к сожжению поленьев.
Книги мною действительно буквально глотались. Обожаемы были Верн, Купер, Лондон, Дюма, Мифы Древней Греции. В процессе чтения я делал выписки – вот несколько примеров из сохранившейся записной книжки 1966 года:
«…Не желать зла для зла в убыток себе самому – очень важное достоинство!…»
«…Он слишком сильно любил, слишком многого требовал, и в конце концов оставался ни с чем…»
Весьма своевременно для одиннадцатилетнего и вполне актуально для разменявшего шестой десяток, не так ли?
Моими кумирами были попеременно мушкетеры, рыцари, ковбои, Спартак с его гладиаторами, благородный жулик Остап Бендер. Известна уже моя тяга к блатному, преступному – я романтик экстремального, опасного сорта. Помните, у Высоцкого:
«…И вот ушли романтики
Из подворотен ворами…»
Очень точно и созвучно моим ощущениям. Правда, ни вором, ни убийцей («…Я одну мечту, скрывая, нежу, Что я сердцем чист…») я не стал – не та закваска… Кстати, интересно, когда преступник-вор-убийца смотрит детективный фильм, за кого он «болеет»?…

В Израиль мы привезли почти полтонны книг – сказать по правде, впустую. Дочери мои не читают по-русски – разве что старшая чуточку – и я стараюсь находить им переводы моих любимых книг на иврит.
С годами нас стала манить танцплощадка, находившаяся в уже упомянутом старом парке. Там мы крутились с сигаретами «Пелл-Мелл» в зубах – сигареты привозились Гариком, мать которого работала в Ленинградском порту – и «снимали» девочек, приезжавших, как и мы, со всех концов Союза. Там состоялся мой первый в жизни «настоящий» поцелуй с Мариной, юной киевлянкой в сводившей с ума клетчатой юбочке, там… Это она, Марина, подарила мне на память значок ТУ-104, который до сих пор со мной.
Кому не знакомо это щемящее благо первых ласк, первых ночных бдений, большей частью безумно-платонических, и именно поэтому безумно и вечно дорогих сердцу.
Там и в дальнейшем было у меня немало мимолетных романов – обо всех не расскажешь, да и не стоит… Впрочем, один из ряду вон выходящий «визуальный» мой роман достоин упоминания.
У одного из моих приятелей была тетка по именя Нэля – как я теперь понимаю, не первой молодости незамужняя женщина, приезжавшая в отпуск к матери из Поволжья. Она была чрезвычайно начитана и эмансипирована, как это и бывает обычно с незамужними не первой молодости женщинами… Однажды мы играли в карты в их дворе. В его глубине, между сарайчиком и, простите, сортиром, Нэля поставила тазик с водой и приступила к омовению. Начав с головы, она сбросила лифчик и омыла то, что он прикрывал. Затем, не торопясь и не чувствуя (впрочем, кто знает…) моего взгляда, она скинула то, что еще оставалось, и начала…
Я прокидывал карту за картой, мой напарник, сидевший спиной к «сцене», не мог понять, что со мной происходит, а я… Хорошо, что мои шорты находились вне досягаемости его взгляда…

Часто я ездил на велосипеде к тете Люсе и дяде Саше. С ним я иногда ходил на пляж, он со мною боролся, несколько раз брал с собой на рыбалку. У дяди Саши на правой руке не хватало безымянного пальца: однажды в армии, прыгая из кузова грузовика, он зацепился обручальным кольцом и палец остался на борту машины. Эта история предопределила мое отношение к кольцам и тому подобным вещам – не носить!…
Когда мы играли в мушкетеров: я – д-Артаньян, Гарик, Мишка и Мишка – Атос, Портос и Арамис, – дядя Саша варил нам на работе шпаги из арматуры. Звон этих шпаг нередко нарушал патриархальность тихой улицы Урицкого…
В Речицу часто приезжали Ленькины родственники из Минска. Их дочь, Лиля Виленская, младше меня года на два, запомнилась мне, как одна из самых красивых девушек, встреченных мною. И у Леньки вдруг начался настоящий психоз: он вообразил, что я собираюсь совратить Лилю и бросить. На этой почве в том, по-моему, 1970 или 1971 году, мы с ним крупно поссорились.
Особых проявлений антисемитизма в Речице я не помню, кроме разве-что одного: какой-то пьяный на улице, остановившись около нас, игравших в футбол, вдруг заорал: «Езжайте в свой Израиль!»
Но как то раз в процессе игры со своим другом Ленькой, я спел ему популярную у нас в Бузулуке песенку «Жид, жид, жид, по веревочке бежит!…», намекая на жадность (жад – жид) своего партнера. Однако мы находились не в пролетарской Средней России, где жид, еврей и ананас знакомы людям только понаслышке, а в местечковой Белоруссии, и сразу появилась бабка Люба, объяснившая мне всю бестактность моего поведения.
Так шести лет отроду я стал жидом. С тех пор я ненавижу каждого, произнесшего или написавшего это слово.
Речица для меня закончилась с переездом дедушки и тети Брони в Челябинск, в связи с состоянием здоровья. Дедушка умер в 1977, в год окончания мною института, тетя Броня несколькими годами позднее. Дедушкин буфет, сопровождавший все мое детство, был подарен соседке по дому в процессе обмена-размена квартир – еще одна острая пружинка…

В Уральске отец начал подумывать о демобилизации. Кочевая жизнь, а главное – желание заняться наукой, которое никогда не оставляло его, подававшего в свое время большие надежды и очень котировавшегося в военном ведомстве – все эти факторы укрепляли его решение. Неоднократно он делал попытки «освободиться», и в конце концов добился своего.
Именно тогда домик бабушки Ревекки в Челябинске был снесен, и ей была предоставлена 3-х комнатная квартира – распашонка в 5-ти этажном доме на нее саму и на успевших прописаться у нее мою маму и нас с сестрой.
Мы трое переехали в Челябинск, а через несколько месяцев подоспела демобилизация, и семья воссоединилась.
Квартира находилась по улице Калинина, в районе, именовавшемся Заречье, далеко не самом фешенебельном, но вполне отвечавшем моим вкусам и привычкам.
Одна из комнат была за бабушкой, но та в ней почти не жила: во-первых, не в ее характере было жить с кем бы то ни было, а во-вторых, она была всецело поглощена строительством дома в Лунинце, занимавшим все ее мысли и требовавшим немало денег, черпавшихся ею в нашей семье и семье тети Минны.
Впервые у меня появилась возможность свободно, не заботясь ни о колке дров, ни о следующем члене семьи, насладиться купаньем в ванне, наполненной горячей водой из крана. С тех пор я обожаю ванну! Сколько расслабленных часов я провел, погруженный в пенную от шампуня из пингвинной бутылки горячую воду, пуская струи из резиновой спины куклы-суворовца и ведя «кардинальские» беседы с мамой.

Итак, зимой 1969 года, после новогодних каникул, с кровоизлиянием в глазу, я появился в 7 классе 23-й школы Челябинска. С первых же дней я подружился с самыми что ни на есть отпетыми парнями и девчонками, так что меня не били, как били обычно всех новичков, обставляя таким образом их знакомство со школой. В классе были очень разные ребята: некоторые исчезли из моей жизни после 7—8 классов, иные сыграли впоследствии определенную роль в дальнейшей моей жизни.
Помню, как одна из девиц, сидевшая не в самой приличной позе, на увещевания учительницы: «Как ты сидишь, тебе не стыдно, Валя?!» отвечала: «Стыдно, у кого видно!…». Это было в новинку даже для меня. А вечеринки наши, организуемые в узком кругу, «на хатах» то у одного, то у другого, сопровождались выпивкой и весьма откровенными «танцами – обжиманцами» при выключенном электричестве.
Тот период 7-8-9 классов был для меня, пожалуй, весьма судьбоносным. Еврейского мальчика из интеллигентной семьи закрутила жизнь, полная соблазнов самого сомнительного толка. Выйти из меня могло все, что угодно, как, впрочем, из любого подростка в том возраста, который принято именовать «трудным».
В 7 классе я близко сошелся с Толиком Пономаревым и Витькой Костюшко. Витькина мать, буфетчица, жила с «другом», «воспитывая» Витьку и его старшего брата. Этот брат и его дружки давали нам первые уроки теории грязноватого уличного секса.
В дальнейшем мать была убита сожителем, а дети уехали к бабушке на Украину. С ними уехали и три мои книги: «Серенгети…» Гржимека, «Дикие животные Индии» и учебник эсперанто.
Толик был паренек небольшого роста, рыжеватый, невероятно амбициозный и распущенный согласно даже моему нестрогому кодексу. Отец его сидел, жил он с младшей сестренкой, бабушкой и матерью, с трудом тащившей воз семьи. Связь наша прервалась после 8 класса. Через много лет мы встретились в ту пору, когда я рисовал для телевидения, а он работал там техником. Впрочем, прежнего взаимопонимания не возникло.
Толика, 39-летнего владельца банка, застрелили в лихие 90-ые…

В классе нашем был у меня еще один приятель, Валерка Изместьев – симпатичный парень, ходивший всегда в костюме. По слухам впоследствии он работал в милиции
Был и Рафик Насыров – татарин, очень приятный и дружелюбный, так и не вернувший мне книгу Базена «Семья Резо». В его доме поразила меня откровенная бедность и то ли пьяная, то ли ненормальная бабушка. Общался я и с Геркой Стоякиным, Генкой Девятовым (Циклопом), Шестаковым (Шустиком), с Колькой из параллельного класса, который повесился из-за любви…
В нашем подъезде жил Генка, мать которого сидела за растрату. Его тихий маленький отец не мешал нам… впрочем, совершенно не помню, чем мы занимались и о чем говорили…
Приятельствовал я и с Валеркой Максимовым, парнем старше меня, пьяницей, безобидным забулдыгой и страшным болтуном. Скинувшись по рублю, мы пили то на стройке, то в общественном туалете. Сестра его, Люба, как-то сказала, что я напоминаю ей рыцаря в латах – то ли по походке, то ли по чему-то еще. Она заныкала у меня томик Бунина с «Темными аллеями» и с «Легким дыханием», которое я постоянно именую «свежим».
Во дворе общался я со Славкой Стрелковым и с его приятелем Костей, который уронил как-то свою девушку в лужу. Однажды мать Славки после ссоры с мужем предложила мне погулять. С трудом я от нее отделался… В этом мире улицы меня окружало пьянство, насилие вплоть до поножовщины, мат… Начались приводы в милицию. И все же… Врезался мне в память эпизод, который, возможно, явился одним из спасательных кругов, не давших мне утонуть, как это случилось с некоторыми моими друзьями. Как-то я заявился домой в совершенно непотребном виде: пьяный, рваный, вывалянный в грязи. Мама открыла мне дверь и… покатилась со смеху. Она буквально захлебывалась, а я таращил на нее пьяные глыза, постепенно трезвея. Тот смех записал в моем сознании неизгладимую формулу: пьяный – смешон и жалок.

Но был и другой мир, который все же обеспечивало мне (я не шучу!) мое «интеллигентское» происхождение. Это был мир книг, мир марок, мир искусства: сразу по приезде я сдал экзамены и был принят в Детскую Художественную школу, с занятиями дважды в неделю, с выездами на пленэры и в музеи.
Собирание марок продолжало меня увлекать. Я посещал клуб филателистов при Дворце железнодорожников, где марки покупались, продавались, менялись, где можно было, если повезет, найти сокровища. Одним из таких сокровищ был потрепанный кляссер, принесенный пожилым алкашом, продававшим марки по 5 копеек за штуку. Я успел ухватить 13 марок (всего 65 копеек!), и среди них довольно редкие выпуски времен революции и чехарды властей в Венгрии, а также пара земских марок Российской империи.
Кроме того, мы с друзьями-филателистами посещали старика-коллекционера, который постепенно распродавал свое собрание: цены, конечно, шли уже на рубли и требовали экономии на уличных беляшах и водке. Там я приобрел несколько недостававших мне марок Ньяссы. Все мои марки по сей день «живы», и поверьте: историю приобретения почти каждой из них я могу рассказать. Этим самозабвенное коллекционирование и отличается от собирания целых серий по абонементу…
«Художка» была истинным оазисом культуры, воплощением которой являлись директор милейший Ю.В.Демаков, завуч интеллигентнейший Н.И.Аристов и наша чудесная молодая Тамара Константиновна Новгородцева. Волшебные зимние вечерние уроки в классах, летом выезды на природу, на живописнейшие уральские озера. Мы писали акварелью, сочиняли и пели песни под гитару, рыбачили, готовили пищу на костре, дружили-конфликтовали из-за девочек с местными ребятами. Однажды мы вынуждены были срочно «эвакуироваться» из-за намерения «аборигенов» взять нас «в колья».
Ради одной из таких поездок я пожертвовал выпускным вечером по окончании 8 класса… Сколько и о скольком было переговорено по ночам в палатке, или в спортзале деревенской школы, или у костра на берегу озера. Этому заряду искусством, теплотой, духовностью я обязан очень многим на своем пути. Даже сейчас, когда я сижу и пишу эти строки в далеком жарком Израиле, поработав с утра и над детской книжкой на языке иврит («Шлоша ахим»), и над переводом на тот же иврит, ставший моим вторым языком, стихов Симонова, я ощущаю дуновение прохладного озерного ветерка, оттеняющее тепло того костра и жар наших бесед обо всем и ни о чем… Мы – это Серега Щербак и Женька Кондаков, Петька Чепорухин и Ренат Исламов, Таня Хохлович и Валя Виленская, Вадик Шагабутдинов и Колька Сиротин, Усманов и Гусманов, Роза Зиганшина и Ленка Нефедова, Люба Синицына, Сережа Роженцов и Ира Дунаева. То было прекрасное время, наполненное романтизмом и окрашенное первой любовью: Таней Хохлович.

Эта любовь была безответной и потому незабываемой и чистой.
Мои друзья по «художке» никак не пересекались с приятелями по улице или по школе, а те – друг с другом. Таким образом, я жил как бы тройной жизнью. И должен отметить, что ко мне тянулись ребята очень разные, так как я был своим в любой компании: мог рисовать и сочинять стихи, мог пить и материться. Однако главное мое умение – слушать. Это одно из лучших моих качеств, делающее мою жизнь сложнее, но и интереснее…
С Ленкой Нефедовой был у меня долгий роман, с жаркими полуплатоническими ласками и горячими поцелуями в подъездах. Но я уже тогда был весьма непостоянен, и ее словами: «Какой ты безразличный! Не приходи ко мне больше…» в наших отношениях была поставлена точка.
До сих пор я помню ее балкон, который был виден из моего подъезда и с которого она свистела и махала мне рукой, помню номер ее телефона, помню вкус ее губ…
На днях открыл я небольшую картонную коробку, которая сопровождает меня во всех моих странствиях, и с удивлением обнаружил в ней дневниковую запись весны 1971 года, отразившую период нашего расставания…
Кстати, именно тогда и у нас появился первый телефон (35-51-50) – вещь весьма труднодостижимая и являвшаяся символом определенного статуса. Сегодня, когда сотовые телефоны получили столь непропорциональное распространение, я с тоской вспоминаю те «бестелефонные» времена. Умудрялись же мы как-то и планировать, и встречаться, и обмениваться новостями без тягостного ощущения плотвички, бьющейся на крючке. В сегоднявшем мире «Старшего брата», сделавшего наше бытие столь прозрачным, даже вдали от тайных и явных средств подсматривания, подслушивания, подмигивания, даже в лесу, в поле, на плоту посреди океана нельзя расслабляться. Он – сотовый, включен – ты на крючке, выключен – ты под следствием. Что лучше – выбирайте сами…

Через много лет я вновь встретился с Ренатом, имевшим прекрасную мастерскую на углу Невского – Литейного. Щербак тоже был заброшен в Ленинград, женился, вел богемную жизнь. Ренат нарисовал углем мой портрет, а потом мы втроем сильно напились то ли в Доме журналистов, то ли художников, и меня посадили в московский ночной…
Вадик («мою маму зовут Фрида Абрамовна – я башкир!») женился «в Москву» – кстати, он был один из самых «женственных» парней, которых я знал.
Женька объявился на моем горизонте, когда я был главным художником Южно-Уральского книжного издательства, и я до моего отъезда в Израиль успел поручить ему оформление нескольких книг.
При редких встречах с Тамарой Константиновной, ставшей директором школы, мы вспоминали то чудесное время. Единственное, о чем мы не говорили – тот долгий поцелуй, которым она одарила меня, когда мы вышли подышать во время выпускного вечера нашего класса – первого в ее педагогической карьере.
Жили мы на первом этаже, а перед нашим окном был небольшой палисадник, в котором мама разводила цветы. Этот «садик» как-то даже сфотографировали для городской газеты.
В дальнейшем родители воплотили свои садоводческие пристрастия в загородных условиях. Дома заготавливались солености, делалось вкуснейшая яблочная наливка. Дома мама посадила маленький кактус в форме сердечка, который разросся… В 1990 он приехал в Израиль, и сейчас растет рядом с могилой отца…
Иногда приходили к нам домой дядя Гриша и тетя Аня – очень открытые, хорошие люди, земляки мамы по Лунинцу, активисты подпольной еврейской общины, собиравшейся у кого-то на дому для молитв. Довелось мне познакомиться с их старшим сыном Додиком, впоследствии получившим несколько лет отнюдь не за сионистскую деятельность. После смерти мужа тетя Аня с благополучным младшим сыном – по-моему, Мишей, приехали в Израиль.

В 9 классе у меня появились новые друзья: Сашка Заграничный, Лешка Ивашинников, Серега Пепеляев, Валерка Шумских (Шума), Игорь Ощепков, Сережа Малиевский, Сашка Кербец. Янкова (вот незадача, имя забыл) я пристрастил к коллекционированию монет…
Некоторые из них надолго вошли в мою жизнь, душу и «документы» той поры. В упомянутой выше коробке наряду со страничками дневника я обнаружил разного рода записки, заметки, афоризмы и шлягеры, модные на тогдашней улице. Все эти «реликвии» всесторонне характеризуют и тот мой юный мир с его красками, лексикой, интересами, и того юного меня.
Уже здесь, в Израиле, я встретил моего ровесника, который уехал из Союза 14-летним парнем. Русский его язык был как бы «заморожен» на том молодежном уровне, на котором он прервался. Та самая лексика: «чувак – чувиха», через слово – мат… короче, слушая его, я возвращаюсь в свою лингвистическую юность.
Как же был я поражен, когда вдруг из комнат моих 15—18 летних дочерей послышалось:
«…Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво,
Отбивать девчонок у друзей своих…»,
и хриплый классический Высоцкий…
Для нас все это звучало под гитару, на допотопных магнитофонах – они же все это слушают на CD и MP3. Какой волшебный виток! Благодаря моим девчонкам я вновь слушаю «Машину времени» и с опозданием (лучше поздно, чем…) открыл для себя «Кино» и «Наутилус».

Ясно, что на выпивки и на марки нужны были деньги. Несколько раз я начинал «бизнес» – переписывать на магнитофоне «Днипро», подаренном мне на 14-летие, рок – музыку, перепродавать порнографию… И на первом, и на втором я, разумеется, прогорел, так как не было у меня и нет к купле-продаже ни способностей, ни вкуса…
Андрей Леонов был моим товарищем всего год. Его отца, полковника, произвели в генералы и перевели в Прибалтику… С ним «уехал» сборник Евтушенко.
Матерные записки писал мне Серега Виденеев, второгодник, хороший рисовальщик, поэт и музыкант. Я свято храню свой портрет его работы с трогательным посвящением: «Дарю я плод…» Дружба наша продлилась недолго – после 9 класса он уехал на Украину. Через Серегу я познакомился с массой разнообразной публики из местной музыкально-художественной «богемы». Среди них были Савинков (Сава) и Стас Напольских, озлобленный несколькими неудачными попытками поступления в Мухинку, но таки поступивший. Он женился на сдобной Галке Просвирниной, с которой я учился в 8 классе, потом они разошлись.
Рок-ансамбль, в котором играл Виденеев, подрабатывал в клубе Градского Прииска, места проживания оседлых цыган. Это был криминогенный поселок, обогативший меня многочисленными знакомыми-цыганами, Диким Западом ночных танцев («скачек») и впечатлением от пьяных драк.
Атмосфера тогдашней вечерней улицы неплохо передана ансамблем «Любэ» – любимцем моей младшей дочери:
«…На песок сквозь зубы плевок,
Братцы, это-ж Витька – дружок…»
Никогда не был я лихим уличным драчуном, но в подобных ситуациях, когда меж приведенными двумя строками уже состоялся обмен первыми ударами, навились на руки солдатские ремни с залитыми свинцом и заточенными пряжками, а из карманов выползли заточки и ножики с наборными рукоятками оргстекла, бывал неоднократно.
Чаще всего дело кончалось Витькой-Петькой-Генкой-дружком, иногда – бегством тех или других. Преследований, как правило, не было – просто отдавалась дань российской традиции «не замай!» Впрочем, сохранившаяся повестка в прокуратуру касалась, по-моему, некоего Пса (кличка), в компании с которым видели меня несколько раз и который-таки кого-то порезал.

Так я и жил своей многоэтажной жизнью: уличной, домашней, богемной.
Собственно, и по сей день русло моего бытия разделено на два основных рукава: научно-технический и художественно-литературный, – не считая больших и малых притоков и протоков.
Без ложной скромности заявляю: есть во мне и все качества, необходимые инженеру – исследователю, и талант незаурядного рисовальщика, и сумасшедшинка карикатуриста, и способность выразить чувства словом – даже в рифму. Вместе с тем – такова уж «планида» личностей разносторонних – ни в одной из этих ипостасей мне не удалось (и уже не удастся) достичь подлинных высот.
Но я чрезмерно нормален, обычен, что ли… И литература, и опыт учат: все, достигшие громкой славы, нормальными в полном смысле слова не были. Все они были сумасбродами, и их жизнь знали бури. А сумасбродом нельзя притвориться. Я же ни то, ни се…
Я всю свою жизнь «почти»… Почти прекрасный инженер, почти замечательный карикатурист, почти примерный отец… Я слишком вежлив, предупредителен и скромен – даже сейчас, когда пишу эти строки, все еще не уверен, что решусь озаботить кого-нибудь их чтением. Не преувеличиваю: мне всегда кажется: все, что делаю я – игра…
А игра не то чтобы не важна – но есть вещи поважнее. Невежливый, непредупредительный и нескромный сумасброд создаст на копейку, а кричит на рубль, и – убеждает, и – достигает… Кричать же я не умею. Но вот парадокс: я не завистник. И слава Богу!
«Национально» был я также многопланов: внешность моя не соответствовала ни месту жительства, ни поведению, а фамилия… Многие считали, что я – немец (…бург), некоторые – что грузин или цыган (усатый брюнет), и лишь немногие догадывались – нет, скорее родители из интеллигентных подсказывали – что я еврей.
Слово же «еврей» я не любил с детства, заметив, что есть в нем нечто, настораживающее многих. Еврейского во мне было лишь чтение Торы летом у деда да маца на пасху.
Мацу мы заказывали у полуслепого шолом-алейхемовского старичка, обходившего своих «клиентов» дважды: собирая заказы и доставляя их: кому 2, кому 5 килограмм.
Позже выяснилось, что старичок этот – дедушка Фаины Прилуцкой, подруги детства моей жены. По сей день он ассоциируется для меня с любимым мною блюдом – мацой в молоке.

О «еврейском вопросе»: те немногие, кто мог себе позволить назвать меня евреем, еврейчиком, – делали это не со зла, а в рамках принятости в той среде кличек, ярлыков.
В компании моих друзей вопросами национальности никто попросту не интересовался.
Помню, как спустя несколько лет после окончания школы, подруга Вовки Жевлакова, девица тертая по имени Майя, рассказывала мне со смехом, как, когда я появился в дверях на свадьбе у Сереги Мешкова, Вовка произнес с пафосом: «А это – наш Борька, единственный грузин, которого я уважаю»…
О дорогие мои кореша! Не было среди нас ни русских, ни евреев, была лишь бутылка дешевого вина, хриплые записи Высоцкого, были дружба…
Вовка был крупный, кудрявый парень, самый слабый (не физически) и добрый среди нас. Я был очень привязан к нему. Он и единственный, «нашедший отражение» в моем тогдашнем творчестве. По странному стечению обстоятельств, я изобразил его с натуры спящим после очередной пьянки, и в шутку подрисовал свечку в его сложенных на груди руках. Этот рисунок оказался до мурашек пророческим: Вовка умер очень рано, только-только успев жениться и бросить пить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































