Текст книги "Я+Я. Жизнь карикатуриста. Прелюдия"
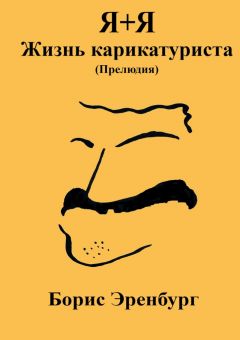
Автор книги: Борис Эренбург
Жанр: Юмор: прочее, Юмор
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Серега был «потомственным» военным: сын офицера, он окончил автомобильно-командное училище, служил в Ливии, в Германии, а после возвращения преподавал.
Кроме Вовки и Сереги, в нашу компанию входили Юрка Дулин – самый, пожалуй, близкий мой друг, и Вовка Мальцев (Спиридонов), по прозвищу Кадет. Он был другом моих друзей, еще до иоего появления поступил в суворовское училище, однако все каникулы проводил с нами.
Кадет был высокий, интересный, шумный парень, умевший влить в себя стакан водки, не касаясь его губами. Как «диагностировала» в дальнейшем моя жена, в нем была доля еврейской крови. Выросший в не вполне благополучной семье, с отчимом, Кадет решил посвятить себя армии и подавал большие надежды.
Однако судьба распорядилась иначе. После «кадетки» и танкового училища он начал быстро подниматься по служебной лестнице, женился… И тут что-то сломалось. Он начал пить и был уволен из армии…

Не могу не упомянуть, что, будучи курсантом, он был влюблен в мою жену, которая (перескакиваю через несколько лет) умудрилась вписаться в нашу буйную компанию, несмотря на ее (жены) чрезвычайно пуританские жизненные устои.
Юрка рос в семье чрезвычайно хлебосольной. Его мать пекла сногсшибательные беляши и готовила вкуснейшие пельмени. Отец – бывший соловецкий юнга, фронтовик, работал водителем на кондитерской фабрике. Юрка был романтиком, увлекался всем, к чему прикасался: гитарой, культуризмом, рулем. После армии работал дальнобойщиком, милиционером, поступил в Университет Лумумбы, в перестроечное время занялся бизнесом. Однажды он был изгнан с урока за «беспричинный» смех. А так как причина была, и именно во мне, то, невзирая на протесты учительницы, я встал и вышел вслед за ним. По его собственному позднему пьяному признанию, именно тогда он понял, что я – настоящий друг.
Мы часто пили. Иногда скидывались и покупали «Солнцедар» (две по 1 руб. 42 коп.), портвейн «777» (две по 1 руб. 37 коп.), «Московскую» (2 руб. 87 коп.), а то и «Российскую» (одну за 3 руб. 12 коп.). Порой, когда было туго с деньгами, шли к Юрке домой, до– или вместо уроков.
У Юркиного отца всегда имелось несколько бутылок спирта, из которых мы брали себе по потребности, доливая бутылки водой. Затем (не всегда!) шли в школу, где происходили с нами всякие происшествия, одно из которых описано в уже упомянутом дневнике.
Все праздники мы отмечали вместе – а особенно любили Новый Год. И вот после долгого 10-летнего перерыва, на Миллениум, мы с женой решили позвонить нашим друзьям из Израиля. Поговорили с демобилизовавшимся Серегой, с осевшим в Златоусте Юркой… И тут-то мы узнали, что Кадет вернулся в Челябинск и влачит существование без работы, без семьи и фактически без куска хлеба, ни с кем не общаясь.

Кстати, обращали ли Вы внимание на то, как отставные кожаные предметы – кошелек, сумочка, ремень, – лишенные человеческого обладания, черствеют? Так и сам человек: без хлопка по плечу, без объятия за талию, без… без контакта со знаком плюс, – он становится заскорузлым, шершавым и ломким, как старый кошелек. Поэтому я всегда за доброе слово – пусть не всегда уместное, за комплимент – пусть не всегда заслуженный. Да здравствует сладкая, пусть ложь, и да сгинет горечь никому не нужной правды. Итак, узнав номер телефона матери Кадета, в новогоднюю ночь 2000 года мы услышали его голос. Сказать, что он был удивлен, поражен, ошарашен – не сказать ничего…
Позвонив снова через год, мы застали его пьяного вдрызг: мать умерла, не стало и брата Додика – личности заметной в миллионном городе: высоченного волосатого дылды, работавшего осветителем в театре и постоянно носившего длинное черное кожаное пальто.
Через родственников жены мы передали Кадету несколько десятков долларов – в рублях, разумеется, и получили горький Кадетов словесный портрет. Помня блестящего молодого многообещающего офицера, мы никак не можем решиться позвонить вновь…
Признаться, я почти не помню прочих своих одноклассников – исключая, конечно, нескольких девочек: Наташи Щекиной – Юркиной пассии, Вали Тябиной – моей партнерши по танцам в темноте, Наташи Ждановой – красавицы, вышедшей замуж за грузина…
Ах, эти вечеринки, где вино лилось рекой, а закуски было только на зубок…
В комсомол меня приняли лишь со второго раза. Собственно, в первый раз я не собирался идти на комитет, но меня затащили кореша… Появился я перед активистами немного «выпимши» и одетый так, как одевался, шатаясь по вечернему городу: загнутые резиновые сапоги, непромокаемая курточка, заляпанные брюки, руки в карманах – только что не с сигаретой в зубах…

Учился я в общем-то неплохо, без каких бы то ни было усилий. На уроках я переписывался с друзьями или рисовал. Перебирая свои коробочки, я подумал, что мог бы выставить те, рисованные на уроках, почеркушки, под шапкой «Рисунки на обложках тетрадей»…
В 10 классе нашу компанию разбили. Меня перевели в параллельный класс, где учились ребята поведения более «стабильного»… И я действительно взялся за ум, тем более, что не за горами были необходимость поступления в институт – понимание этого было заложено в моем еврейском генотипе. Нашим учителем математики была милейшая, но острая на язык, Наталья Анфимовна, с ее вечным «Дуб Сидоров, к доске!», «Пень Эренбург, вон из класса!»…
Литературу преподавала интеллигентнейшая старая (о боже, мне ли теперь говорить!) дева Валентина Леонидовна (Валетка), с которой очень дружил Юрка… Нервная географичка однажды пожаловалась на меня за аполитичность, а в дальнейшем за это и за отказ участвовать в демонстрации я получил от милой Лидии Георгиевны, завуча, почетное звание «Врага»…
И все же приходилось учить историю партии, все эти первые съезды и последние пленумы, режиссуру русских революций и мелодраматические биографии их несчастных статистов.
Знать бы тогда, что благополучие моей семье здесь, в Израиле, обеспечит моя работа в Электрической компании, основанной в 20-е годы «русским» революционером Петром Рутенбергом, убийцей священника Гапона в 1905 году…
Так как мы с Игорем Миловановым (Милком) на уроках сидели обычно спиной к учителям, ведя содержательные беседы с Таней Агарковой и Леной Умеренковой, родители вынуждены были взять мне репетитора по физике и математике. Это был Б. Шумяцкий – преподаватель ЧПИ, огромный полный холостяк с наивными глазами, живший с матерью в роскошной полнометражной квартире. Занимались мы у него вчетвером: я, еще один парень и парочка влюбленных. Я не помню, как ее звали, она мне совсем не нравилась… Но однажды случайно наши взгляды встретились… По сей день – как вспомню – мурашки по спине!
«…Ах, слепил господь бог игрушку – женские глаза!»…
М. Булгаков

После выпускного бала и ночного шатания с Ленкой Умеренковой, с которой сыязывали меня странные отношения: полу-симпатия, полу-война, – никогда, впрочем, не обретшие ясной формы – я уехал с нею на озеро Увильды и там познакомился с Лидой, сыгравшей в моей дальнейшей жизни несмываемую роль «дорожного указателя».
Эта поездка врезалась мне в память еще и тем, что забрал меня домой Серега Мешков на отцовском «Москвиче». По дороге случайным камешком было разбито ветровое наше стекло, и мы ехали «с ветерком», болтали, хохотали, жизнь казалась бесконечной и прекрасной.
После Увильдов мы с Юркой Дулиным поехали на другое озеро, где очень много пили, пока к нам не присоединилась его старшая сестра со своей подругой. Эта подруга, которую я прокатил на лодке, положила на меня глаз, но когда вечером на копне сена мы приступили к главной фазе наших отношений, меня буквально загрызли комары. Так я и не довел начатого до конца, о чем по сей день (поверьте!) страшно жалею…
А партнерша моя смертельно на меня обиделась и в дальнейшем не хотела даже слышать обо мне, хоть я и пытался восстановить отношения с нею в городской стерильной комфортабельной обстановке.
После всех этих развлечений я засел за подготовку к вступительным экзаменам на специальность металловедение в Челябинском политехе. Предшествовали такому выбору долгие домашние дебаты на тему «кем быть», и решено было, что «не быть» – художником. Отец резонно объяснил, что мне нужна профессия для тела и заработка. Рисование же – для души и подработок. Зная меня, он предостерег – и был прав – что я не рожден быть художником, что моя любовь к искусству принесет мне, быть может, ломоть хлеба, однако моя лень сделает его тонким и пустым… Мне была устроена аудиенция у профессора М.М.Штейнберга – заведующего кафедрой, который вкратце объяснил мне, о чем идет речь, и я решился.
Забегая вперед, замечу, что окончание института я ознаменовал публикацией в многотиражке дружеских шаржей на милейшего Михаила Максимовича, а также на других преподавателой кафедры. Это была первая ласточка моего карикатурного гнезда.
Кто мог предположить, что мое классическое художественное образование со временем «выродится» в карикатуру – жанр, подаривший мне массу впечатлений, счастья и ряд международных призов – самый лестный среди них «за самый неприличный рисунок» в польском Сатириконе…

Кто мог предсказать, что я опубликую тысячи карикатур и сатирических иллюстраций в газетах и журналах, в Союзе и по всему свету, выпущу свои авторскую книжку «Доля правды» и сборник в серии «Галерея Мастеров Карикатуры», что под аккомпанемент моих иллюстраций выйдут еще много книг, включая А. Аверченко, А. Кристи…
Более того: спустя 10 лет после окончания «художки» я одним из первых карикатуристов «нового покроя» умудрился лично поехать за границу для получения серебряной медали международного конкурса на Кубе. Удалось мне «проскользнуть» сквозь бюрократические препоны только благодаря тому, что не был я в то время членом ни одной из партийных либо творческих организаций, а был сугубо частным лицом. В «Хувентуд Ребельде» меня назвали «Человек без галстука».
Я, личность сугубо аполитичная и даже (немножко…) анти-, был личным гостем руководства социалистической Кубы, через которое «соприкоснулся» и с нашими, советскими бонзами…
Должен подчеркнуть, что одно из главных достижений нашей цивилизации – бюрократ. Кстати, у него есть очень много общих с евреями черт, и главная – комплекс младшего брата, считающего себя старшим… Впрочем, куда еврею до бюрократа! Евреи распяли всего лишь одного Христа, бюрократы – великое множество. Бюрократы угрожают нормальному существованию всего человечества, мы же, евреи, в силу своего национального характера, только существованию самих себя…
Мы больше всего любим быть в центре событий и в результате периодически вынимаемся, изрядно потрепанные, из чужих драк. Пусть нас даже бьют – лишь бы не забывали…
Я лично давно считаю, что именно к бюрократам должна перейти от евреев роль народа-космополита и притеснителя народов. Да здравствует справедливость!

Итак, в 1972 году я стал студентом группы, в которой было порядка 80% довочек – немаловажно для юного ловеласа – с перспективой защиты диссертации в туманном будущем.
После поездки в колхоз начались занятия.
Кроме двух групп металловедения и группы физико-химиков, на нашем потоке учились «прокатчики», «литейщики» и «общие металлурги» – специальности, противоположные нам по половым признакам. Так что с среднем равновесие соблюдалось. Все парни вместе проходили военную подготовку, а в дальнейшем и лагеря.
В моей группе было всего 6 парней, но через год – два осталось и вовсе четверо: Агафонов и Шаль «отсеялись». Остались: Петька Кондаков – разносторонне талантливый и интеллигентный, Юрка Ветошкин – миляга-рабфаковец, старше нас на срок солдатчины, Витька Титов – спокойный, рослый и симпатичный, и я. Нас четверых связывали очень сердечные отношения. Кроме них, в шатаниях по общагам и распитию спиртного я нажил себе много приятелей.
Жизнь были прекрасна, полна приключений, как антиобщественных, так и про-… например, сотрудничество в факультетской сатирической стенгазете «Шлак» и в институтской многотиражке «Политехнические Кадры». Намечались несколько новых романов – и тут случилось непредвиденное: я встретил ее…
Она была самым красивым и экзотичным созданием из всех, когда-либо виденных мною: 48-килограммовая точеная фигурка, крайнее «мини», копна оранжевых волос и тучи поклонников вокруг. Упомянутая выше Лида, оказавшаяся с нею в одной группе, указала мне на нее. Приехала она из украинского местечка Монастырище, говорила на выученном русском, жила в общежитии, была чиста душой и непосредственна до глупости. Она могла при мне усесться кому-то на колени, могла заявить мне, что, пока мы гуляем, некто делает в ее комнате ее задание по начерталке, скрипя зубами от ее «простоты».

Но что самое невероятное: она была еврейка, первая еврейка в моей жизни. Более того, при первой же встрече она, глядя мне в глаза, заявила, что ее цель – уехать в Израиль, поэтому я должен решить, стоит ли нам… Было бы смешно отнестись к этому всерьез, однако пишу я эти строки именно в Израиле…
Теперь – короткое резюме. Прежде всего – поражающее своей свежестью откровение: для самого себя я – самое главное и самое лучшее. Чего уж кривить душой: даже для самого прожженного праведника он сам – средоточие всего, что он любит и что он знает, все его человеколюбивые и самоотверженные поступки – для себя, для своего «эго», для своей бессмертной души.
Однако реальную цену себе я знаю. Как я уже определил ранее, мой удел – серебряно-бронзовый ряд. Сколько раз казалось, что стоит чуть-чуть напрячься, сделать последний рывок… но на него всегда не хватало – нет, не способностей! Не хватало силы желания. Я не умею желать по-настоящему. Я живу в твердом убеждении – быть может, иллюзорном, но основательном – что мне все и всегда давалось и будет даваться легко, играючи. Может быть, потому инстинкт «последнего рывка» у меня недоразвит. А без этого инстинкта не видать пьедестала даже обладающему выдающимся мозгом, каменными мышцами и железной волей.
Плыву я себе по течению, изредка подгребая. А почему бы и нет, если устраивает меня и направление течения, и виды вдоль берега, и предметы, плывущие рядом. Мне интересно – и это главное. А если что не так – зажмурюсь, задержу дыхание, глядишь, спорное место позади…
Я вообще склонен к дисциплинированному, упорядоченному, мерно текущему, существованию, умею подчиняться. Меня всегда и вполне устраивали мои начальники и начальники начальников. Лишь бы не мешали болтать ногами в той самой воде, в которую, как известно, второй раз не окунуться…
Так что не удивительно, что, будучи маленьким, я хотел быть военным, а подростком мечтал даже о монастыре. Вот уж идеальный вариант дрейфа с безграничными возможностями созерцания. Останавливал только обет воздержания…

Праведником в общепринято узко понимаемом смысле: знак плюс ко всем мыслям-словам-поступкам, – я не являюсь. Мои свойства – как живые существа матери-природы: есть среди них травоядные и хищники, большие и малые, милые и отвратительные, полезные и вредные. И, как это водится в природе, все они уравновешены и связаны между собой многочисленными прямыми и косвенными связями. Выпадение звена может привести к непредсказуемым последствиям.
Лишь потоку жизни дано корректировать наши свойства, чувства и порывы, меняя скорости, углы и даже знаки. Это мне напоминает ситуацию, когда ты, едучи в привычном направлении, вдруг понимаешь, что находишься на встречной полосе – вернее, бывшей встречной еще вчера. Теперь она стала попутной, и ты можешь бесконечно воображать себе жуткие столкновения с прежним собой, ехавшим тебе навстречу неделю, месяц, год назад… Ты даже можешь вновь «причаститься» к тогдашним смертельным, а сегодня утратившим и цвет, и форму, переживаниям. Все уже позади, и жизнь продолжается. «Ах, мой милый Августин…» Дорожные работы…
Поэтому и не пытаюсь я строго судить (не говоря уже о «бороться») те свои свойства, которые кажутся мне или кому-либо другому вредными и ненужными, дабы не нарушить равновесия столь дорогой мне целостной системы, каковою являюсь я с бесценным грузом опыта и памяти, с живущими во мне всеми теми, кого я упомянул и о ком забыл упомянуть, да простится мне это…
За три дня радиоактивной обработки в изоляторе передо мной, как это принято говорить, пронеслась полу-документальная лента всей жизни. И я безумно рад, что решился воссоздать по готовому фильму первую часть его сценария – вернее, цепочку событий, по которой сценарий этот был написан. И я чрезвычайно счастлив, что не подвели меня ни память, сохранившая имена действовавших лиц, ни рука, записавшая все это перед переводом на язык компьютерных программ.
А продолжение, очень надеюсь, последует…


К чему играть с собою в прятки:
Уж не на третьем ты десятке,
Шестого уж свербит тавро.
Ты все еще, конечно, вечен,
Хоть давит кровь, балует печень,
И главным признаком – беспечен
Небезызвестный бес в ребро…
Уж иней в волосах не тает,
Уж темя розовым мерцает,
Карьера – прах ее… и вот
Ты в потаенную тетрадку
Кропаешь нервно счет остатку,
От самого себя украдкой
Закрывши душу на учет.
Родился я в пятидесятых —
Прохладных, ломаных, зажатых.
Хоть минуло уж десять лет,
Плоды Победы не созрели,
Не все награды подоспели,
Судить немногие посмели,
Кто сеял мрак и что есть свет…
Но многое уж отболело,
И солнце жаркое пригрело,
И – это главное: тогда
Ушел Хозяин – наст суровый,
Плотин полопались засовы
И в целину ту жизнью новой
Ворвалась талая вода.
Вода омыла Беломоры,
ГУЛАГа вьюжные просторы,
Пророков нам вернув босых.
И смыла с плеч крутых погоны,
И развернула эшелоны,
И на расстрельных перегонах
Живых оставила в живых.
Подмыты были вехи, вышки,
Тридцатилетнюю одышку
Вода с собою унесла.
Но всплыли новые герои
В костюмах старого покроя,
Несокрушимым тесным строем
Столпившись гипсом у весла.
И воцарился кто-то снова.
Дабы не пропадать оковам,
Нашлось решение опять:
Чтоб не дала система крену
И чтоб не допустить измены —
Перековать оковы в стену,
Народ свободой не стеснять…
Я свет увидел в Ленинграде.
Но этот город был мне даден
Лишь на три месяца, и вот
Отцу – погоны и расчеты,
И мать уволилась с работы,
Упаковала вещи, ноты…
Нам домом Северный стал флот.
Отец мой, самых честных правил,
Семью всего превыше ставил
И честность – только и всего…
Военврачом он был по званью,
Врачом от Бога по призванью
И Человеком по прозванью…
Как не хватает мне его!
И мама – врач. В ее натуре
Поэзия, клавиатура,
И к языкам, и к книгам страсть.
Под зиму жизни – заскучала
И вдохновение познала,
Том афоризмов вдруг издала
И акварелью увлеклась.
Североморск, сестры рожденье,
Полярными ночами бденья,
Матросы, летчики, пурга,
Отцовский кортик и фуражка,
«Тревожный» чемодан и фляжка,
Мундиры черные, как сажа,
И белые, как снег, снега.
Хоть был уже и космос рядом,
Все, как и прежде, жили стадом,
И оставались, как тогда,
Детьми Великих: Революций,
Индустриа… и Реконструкций,
Коллективи… и Конституций,
И Войн, и прочего труда.
Мы развлекались, как умели.
Прекрасно помню, что мы пели,
По грязи во дворах скользя:
Про Уругваи и про крики,
Четырехглазого заику,
Про Мурку и про Гоп со смыком,
Про «Ленина и Сталина обманывать нельзя».
Согласно той Октябрьской вере
Мы загонялись в пионеры,
Маршировали в комсомол.
Но мысль текла кухонным шепом,
О лидерах, чьи морды – жопы,
О страшных мельницах утопий,
Кровавый выдавших помол…
Вот парадокс: все понимая
И разным «голосам» внимая,
Не веря, верили: придет,
Наступит, счастием сияя,
Шаманским колпаком бряцая
И коммунизм провозглашая,
Обещанно-волшебный год!
Но все же стала жизнь богаче:
Кому – Москвич, кому-то дача,
Кому – Березки и Мерцы.
Уж появились диссиденты,
От сионизма дивиденды,
Слова ВААП, абстракт, аренда,
И Солженицын, и фарцы.
Поросшие быльем обиды
и с утюжками инвалиды…
Я навсегда запомнил их,
Тех хмуро-серых человечков
С подшипниками на дощечках,
С их «Голубым платком», «Колечком»,
Петров и Павлов всех пивных.
Жизнь офицера кочевая,
Страна от края и до края:
То крайний Север, то Урал.
Семья катилась по Союзу,
Как в биллиард: от борта в лузу.
Мне это не было в обузу,
Но постоянства я не знал.
Мне это не казалась странным:
Менять квартиры постоянно,
Менять и школы, и друзей…
Лишь домик деда в Беларуси,
Каникулы, девчонок русых,
И сочных яблок беловкусье
Считаю Родиной своей.
Дед был австрийцами контужен,
Он был глухим и не досужим,
Ему записки я писал.
Не верил в черта он и в бога,
Он мало спал, работал много,
Ко мне он подходил нестрого,
По вечерам меня он ждал.
Такие же, как я, мальчишки,
Днепр, танцы, карты, велик, книжки…
И каждым летом, и всегда
Кровать в сарае дед мне ставил,
А иногда две стопки ставил,
И ждал меня мой дед Израиль,
Израиль ждал уже тогда…
И мы росли, и мы пенились,
И слишком часто матерились,
Играли в храп и в дурачки.
Мы пили чистый спирт из кружки,
Пошли танцульки и подружки,
И уж Высоцкого с катушки
Писали ночью в три руки.
И вот – Челябинск. Остановка.
Своя квартира, обстановка,
Впервой горячая вода
Из крана. И шпана с Заречья.
Тяжелая ладонь на плечи,
И «те» места уж недалече,
Но мне не суждено «туда».
Мне в мир окном явились марки.
Каким же неземным подарком
Р. Холл – почтмейстер наделил
Детей страны Надежд Великих:
Все эти Ньяссы, Танганьики,
Маврикии и Коста-Рики…
Я с ними над землей парил.
Потом, о боги! – Маргарита…
Как жадно было все прожито,
Как сладко было в первый раз
Лететь к Воланду с Азазелло
Фотобумагой черно-белой,
Так, что душа прощалась с телом
И слезы стыли возле глаз.
Я вместе с тем не поневоле
Учусь в художественной школе.
Пленэр, палаток зыбкий кров —
Все приобщало нас к искусству:
Костер, светясь природы грустью,
Захлеб о музыке, о чувствах
И акварельность чистых снов.
Без дружбы жить на этом свете
Нельзя. И вот тех дней свидетель,
Портрет мой, так хранимый мной:
«Дарю я плод свого творенья
И шлю тебе благословенья,
Будь ты всегда лишь сам собой.
Серега, школьный кореш твой».
Тогда – и это ведь немало —
Меж нами не существовало
Национальности проблем.
Мы толковали о гитарах,
О водке, битлах, финках, шмарах,
Но в наших дружеских базарах
ТАКИХ не понимали тем.
Я помню, Вовка, друг мой милый,
Как обо мне тебя спросили,
Указывая из-за спин:
«Кто этот парень симпатичный?»
Вопрос законный и приличный…
Ответил ты вполне обычно:
«Да это ж Борька, наш грузин!»
Десятый класс давно за нами.
С моими школьными друзьями
Давно уже контактов нет,
С Серегой, Юркой и Кадетом.
Володька? Уж Володьки нету.
Кадет? Его почти что нету,
А может быть, и вовсе нет…
Чтоб не дал Бог с пути мне сбиться,
Я должен продолжать учиться.
Что выбрать? Мне – ни тех, ни тех…
Я во врачах себя не вижу,
В художниках себя не вижу,
И вот иду я, где поближе —
Иду учиться в Политех.
Учился я всегда в охотку
И был для кафедры находкой:
Я и художник, и поэт,
На лекциях и в стенгазете.
И на Металлофакультете
Девчонку рыжую я встретил…
Нам было по семнадцать лет.
То, что она мне заявила
При первой встрече – рассмешило
Меня тогда. Но я стерпел.
Ведь до того была желанна,
О ней мечтал я непрестанно,
Хотя и думать было странно,
Что, мол, Израиль – наш удел!
Пошли свидания в общаге,
Свиданья бурные в общаге,
Любовь проклюнулась птенцом.
Я зла не вижу в раннем браке
(Не кулаками ж после драки!…) —
И вот он я уже «во фраке»,
И вот уже мы под венцом…
Экзамены, зачеты, сроки,
Нечасто – частные уроки,
Пять лет сквозь пальцы, как вода…
Отчет, обзор литературы,
Потом – диплома корректура.
Не довелось в аспирантуру,
Да и не рвался я туда!
Затем – работа в институте,
Затем – развилки, перепутья
И скромный – скромный, но – навар.
Заигранная партитура…
Но родилась – рука не дура —
Та первая карикатура,
За нею – первый гонорар.
И «жил я славно в первой трети»,
И твердо знал я – бог свидетель —
Что никогда не буду стар.
Ни телом и ни по походке,
Ни в космос, ни для мореходки,
И ни для паренька в пилотке…
Но было и другое STAR.
Взойдя звездою в местной прессе,
И звездочкой в центральной прессе,
Я впитывал сироп похвал,
Телевизьонных информаций,
Порой (бывало!) и оваций.
От разноцветных публикаций
Почтовый ящик распухал.
До тридцати я был так молод…
Снедал меня по славе голод,
Я возраста не ощущал.
Вот тут-то родилася дочка,
Потом вторая: два цветочка.
И понял я, что жил – в рассрочку,
И счастья до тех пор не знал.
А званье гордое «мужчина» —
То статус, связанный не с чином,
Его не даст ни счет, ни сан.
Есть тьма критериев на свете:
Усы, жена, работа, дети…
Так без последнего, поверьте,
Ты не мужчина, ты – пацан!
И налетела перестройка,
И «Память» вскинулася бойко,
Дерьмо всплывало, ну а сталь…
Всерьез вели министры споры
Менять ли нефть на помидоры.
Списать пришлось понятий горы,
И многого безмерно жаль…
Тогда и понял я впервые,
Что должен жить в своей квартире
Народ, в особенности мой.
Упаковались чемоданы,
И шли мы, вывернув карманы.
Наш путь шел через третьи страны
В чужбину, в Азию-с, домой…


Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































