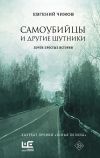Текст книги "Пламенеющий воздух"

Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Старик Морли и «Livery Stable Blues»
Профессор Морли на стареньком аэростате, с тяжелой корзиной и латанным-перелатанным куполом, неспешно поднимался вверх.
Кончался 1919 год. Стояла влажноватая, вполне обычная для западного побережья Соединенных Штатов осень, предвещавшая не слишком холодную, но снегообильную зиму.
Сам для себя Эдвард Уильямс Морли давно решил: это будет его последний полет.
Эфирный ветер, который он так усиленно искал, поймать никак не удавалось. Не удалось заполучить его глубоко в подвале, не удавалось засечь высоко в воздухе.
И все же эфирный ветер существовал!
Эдвард Уильямс Морли, бывший короткое время священником и, невзирая на уговоры отца (тоже священника-методиста), ради науки сан с себя сложивший, – хорошо это чувствовал.
Внизу повизгивал кларнетами и погромыхивал барабанами белый диксиленд. Случайно завернувший к Великим озерам «Ориджинал джаз диксиленд бэнд» исполнял одну из неповторимых своих вещиц – «Livery Stable Blues».
Кукарекали петухами кларнеты, ишаком покрикивал тромбон. «Конюшенный блюз» веселил и воодушевлял. Было приятно, радостно.
Однако звуки земные постепенно становились слабей: аэростат поднимался уверенно.
Четыре мощные медные горелки – одна в виде рассеченной надвое головы индейца и три в виде обычных факелов – приятно поблескивали в лучах закатного солнца. Корзину легко – как ту лубяную негритянскую колыбель – покачивало.
Внизу дугой выгнулся южный берег озера Эри. Чуть дальше – по реке Кайяхога – раскинулся неповторимый город Кливленд с превосходным Западным резервным университетом Кейза, в котором профессор Морли когда-то работал и который продолжал считать своим.
Напевая про себя тему из «Livery Stable Blues», профессор Морли прикрыл глаза. Милая сердцу ньюаркская конюшня представилась ему! Брыкливые ишачки, резвые, мокрые, только что приведенные с берега ньюаркского залива или, может, с реки Пассеик лошади, невесть зачем плутающие между столбов конюшни черные овцы, вскакивающие овцам на спину розовые петухи – все они ловко подражали музыке дикси.
Ослы поднимали копытца, кобылы, смешно задирая хвосты, роняли наземь крупные пахучие яблоки, розовые петухи били крыльями, овцы приятно блеяли…
Вдруг второй аэронавт, славянин Ефрем, тихонько дотронулся до плеча профессора Морли.
Эдвард Уильямс Морли раскрыл глаза. Славянин Ефрем, только недавно включившийся в поиски эфирного ветра и часто кидавшийся на любую сопутствующую науке мелочь, указывал куда-то на северо-восток. Мистер Морли одернул полосатый сюртук, выровнял края чуть сбившегося на бок кожаного, тяжелого, с металлическими вставками шлема, скинул на плечо очки на веревочке и только после этого глянул в указанном направлении.
Издалека, с северо-востока, на аэростат летел шар огня. Шар вертело вокруг собственной оси. В полете он испускал огненные стрелы или, точней, длинные огненные струйки.
Размер шара был велик. Диаметр никак не меньше сорока футов. Скорость движения не то чтобы очень высока, но вполне достаточна для того, чтобы через минуту-другую опалить купол аэростата, а потом – вместе с новеньким оборудованием и пассажирами – аэростат сжечь!
Профессор на миг снова сплющил веки. Он думал, видение исчезнет. Но огненный шар не исчез, а, резко сбросив скорость и словно бы забавляясь испугом мистера Морли и его ассистента, завис невдалеке.
Внезапно профессору показалось: шар – живой! Он дышит, пыхтит, даже улыбается…
То же самое, видно, почудилось и славянину Ефрему. Одной рукой он производил конвульсивные движения, а пальцы второй руки, сложив колечком и не разжимая его, перебрасывал из стороны в сторону, словно показывая: глаза, глаза!
Конечно, профессор и безо всякого ассистента хорошо видел: у шара наблюдается некое подобие огромных глаз.
Вдруг шар задымил и двинулся на аэростат.
«Все», – сказал себе полушепотом профессор Морли.
И в этот же миг увидел нечто намного худшее, чем вполне объяснимое передвижение атмосферных огней.
Разинув пасть, к огненному шару летел громадный воздушный ящер.
Слово «летел» здесь не вполне подходило. Эдвард Уильямс Морли, привыкший как ученый к точности, а как бывший конгрегационный священник – к евангельской образности, определил движущееся в пространстве видение так: громадная саламандра с высунутым языком, словно бы передразнивая свои собственные, известные любому ученому очертания, движется скачками на задних лапах! При этом было непонятно, к огненному шару или к тепловому аэростату она движется…
Саламандра была еще далеко, но уже становилось ясно: она не похожа на своих сородичей, изображаемых в альбомах живописи, имеет толстые, непомерно развитые лапы и короткий, наполовину оборванный или кем-то откушенный хвост. Поскольку и хвост, и лапы были частично залеплены острыми перистыми облаками, казалось: эти части тела на концах закручиваются, вихрятся. Хорошо была видна лишь перламутровая рыбья сияющая шкура. Шкура в чешуйках густо переливалась и сразу напомнила про огромные заводи и крокодильи болота великой реки Миссури, по которой профессор Морли любил путешествовать в молодости, проповедуя священные истины воде, холмам, лесам…
Но зато скачущая саламандра как две капли воды – словно ее вырезали из старинных карт звездного неба – походила на свою астрологическую прабабку. Тот же красноватый туманец в хвосте, те же горящие камешки звезд на животе, та же – не крокодилья, а вполне себе собачья, но при этом сильно удлиненная пасть!
Вдруг саламандра ускорила движение и навалилась на огненный шар. Шар, который размерами превосходил и саламандру, и аэростат в несколько раз, тут же потух, стал пеплом и осыпался вниз, на береговую линию ни с каким другим по чистоте и красоте не сравнимого озера Эри.
Тело саламандры из бирюзово-коричневого стало неожиданно пурпурно-красным. Кроме того, она слегка поменяла свой облик.
– О’кей, – профессор Морли попытался успокоить побелевшего как полотно славянина. – Это я объясняю так: миражные явления иногда могут сопутствовать эфирному ветру. О’кей, – профессор закашлялся. – Наше сознание часто создает чудовищ из туч, звезд, воды… Да хотя бы из конюшенных навозных куч!
Слова на высоте приходилось выкрикивать, а для того чтобы набрать побольше воздуху, между ними приходилось делать ненужные паузы. Заглотнув воздуху в очередной раз, Эдвард Уильямс Морли бодро прокричал:
– Сейчас следует ждать… распада… этого миража!
Пока профессор кричал, саламандра на бегу развернулась. Сронив с языка продолговатый сине-прозрачный пузырь слюны и подскакивая в раже, как тот баскетболист-креол, она стремительно понеслась на аэростат.
«Все верно, – промелькнуло в голове у мистера Морли, – еще древние знали… Саламандра холодом тела… призвана гасить огни. Сейчас погасит все четыре горелки… и тогда…»
Пока профессор разбирался с мыслями, саламандра изменилась еще раз.
Она вдруг ясно обозначила свой пол! Под блестками красной чешуи показались великолепные женские груди. А на темной собачьей морде проступили следы обильной бело-розовой пудры. Ноги саламандры сладко вытянулись, хвост сократился до размеров обычного копчика… Вслед за этим проглянул нежнейший, умеренно выпуклый, уже без всякой чешуи, зато приятно затянутый светлой кожей пупок…
«Небесный!.. – выкрикнул про себя профессор. – Пуп небесный!..»
Эдвард Уильямс Морли заставил себя опустить глаза. Славянин Ефрем сел на дно корзины и вжал голову в плечи.
Гулкий ломкий звук, подобный звуку падающего с высоты «Эмпайр стэйт билдинг», раскатанного в лист кровельного железа, цепляющего в полете каменные выступы, стальные балки и гремящего чем ниже, тем сильней, – на минуту оглушил аэронавтов.
Вслед за звуком раздался уже не кровельный – дробно-жестяной смех. И астрологическое чудище с явными женскими признаками, словно глумясь над научной добросовестностью профессора и его ассистента, изгибом спины, именно тем местом, где был недавно хвост (славянин Ефрем за чудищем вполглаза все-таки наблюдал), толкнуло корзину аэростата.
Посыпались скрепы, болты, одна из горелок погасла…
И все же ученый победил в мистере Морли обывателя: он поднял глаза, чтобы в последние секунды жизни увидеть и уже только для себя самого описать в научных выражениях чешуйчатую женщину-саламандру. А также те части тела, которыми это холоднокровное существо будет гасить три оставшиеся и пока весело гудящие горелки…
То, что мистер Морли увидел, заставило его вскрикнуть. Страх смерти отступил. Профессор неосторожно передвинулся к самому краю корзины и едва из нее не выпал.
Еще один, почти прозрачный, с легчайшим розовым отсветом вихрь необычайно плотного воздуха несся на саламандру!
Вихрь в мгновение ока охватил женщину-ящерицу с головы до пят.
Красновато-чешуйчатое, но все одно прекрасное женское тело стало чернеть. Сперва обуглились ноги, потом подернулось пеплом и лопнуло пузо, вывалились, сгорели и стали опадать угольками кишки. Лапы чудища на миг стали остро-прозрачными. Голова, чернея, дотлевала…
Жили у саламандры только глаза. И они – смеялись!
Но и глаза под натиском вихря вдруг налились изнутри неприятной зеленью и с треском лопнули. Зеленовато-коричневая жижа хлынула вниз…
И здесь произошло нечто странное: воздушный вихрь всосал в себя и останки саламандры, и огоньки давно рассыпавшегося огненного шара, поймал на лету падающие угольки кишок, подхватил все до единой чешуйки, все кожные наросты, коготки…
Ничего не осталось!
Только на мгновенье, словно для последнего запечатления, женское прекрасное чудище, как на дагерротипе, проступило черно-синими линиями сквозь бешено крутящийся вихрь.
Но сразу же – подобно вакуумному скоростному насосу, о котором мистер Морли мог только мечтать, – вихрь контуры саламандры в себя и всосал. А потом завернулся восьмеркой и, показав на миг вместо женщины-саламандры белокожего младенца в люльке, поигрывая легчайшей пеной на краях, унесся на юго-запад, в сторону Аппалачей…
«Это был вихрь эфира? – со страхом спросил себя мистер Морли – и как честный ученый и прямодушный священнослужитель сам себе ответил: – Да, он… Но ведь тут – посягательство на свободу!.. А если эфирному ветру что-то в Кливленде или в Западном резервном университете не понравится? Тогда – что? Все разрушить?»
Вопросы тут же сменились мыслью: «Эфирный вихрь есть усиление постоянного эфирного ветра. Только рискуя жизнью, только подобравшись к вихрям вплотную, можно наблюдать всплески эфира. А постоянный эфирный ветер наблюдать невозможно, нет!».
Впрочем, тревожные мысли были все же откинуты, потому что профессор вспомнил одну утешительную странность: саламандра во время короткой стычки с эфиром на миг разгневалась, стала грозной. А эфир – тот все время шутил, усмехался! Едва слышимая мелодия эфира, как та тема из «Livery Stable Bluеs», похохатывала, кукарекала, по-ослиному покрикивала. Получалось: эфир шутя саламандру из своего небесного террариума выпустил, шутя позволил ей загасить огненный шар. А потом сам же это женское чудище – и опять-таки посмеиваясь – развеществил.
Жизнь – шутя? Смерть – шутя?
В такое ответственный и серьезный мистер Морли поверить не мог.
Интересным показалось Эдварду Уильямсу Морли и то, что когда саламандра пожирала огонь, сделалось заметно холодней. А когда вихрь эфира пожирал саламандру – и вовсе холодно. Но холод не испугал, а страшно взбодрил профессора. Он вдруг почувствовал себя на двадцать, если не на тридцать лет моложе! Разогнулась спина. Ушла боль из плечевых суставов, из низов живота пропали ненужные складки. Глаза перестали ловить рябь и туман, взгляд очистился, стал острым, чувственным.
И главное, профессор Морли вспомнил одну прелестную и давно позабытую им женщину. Вспомнил, как мял и терзал ее губы, вспомнил и все другое: незабываемое, вечное…
Когда славянин Ефрем пришел в себя, никакого чешуйчатого ящера рядом не было. Не было и завихрений, окутывавших это существо. Только профессор Морли, вцепившись в края корзины, глядел вслед розоватому полупрозрачному облачку.
– Эфир? Это был вихрь эфира?
Мистер Морли на вопрос не ответил, зато дал приказ снижаться.
Славянин Ефрем установил рычаг, регулирующий силу пламени, почти горизонтально, и огонь в медной, рассеченной надвое голове индейца уменьшился. В двух других горелках тоже.
Аэростат плавно пошел вниз. Когда он приземлился, белый диксиленд уже не играл. Кое-кто из музыкантов, отдыхая, сидел на траве, другие выдергивали из тромбонов хорошо скругленные кулисы и медленно выливали из них слюну на еще сочную и зеленую кливлендскую траву. Остальные тщательно протирали трости кларнетов и саксофонов.
Диксиленд не играл, зато на пригорке пел темнокожий хор.
Праздничные афроамериканцы в золотых и синих одеждах яростно, но без единой фальшивой ноты выводили слова волшебного госпела. В этот госпел, в эту евангельскую музыку они вместо положенной хвалы Всевышнему ловко вплетали похвалу профессору Морли:
– О-у, Морли, Морли! О-у, мистер, мистер…
Никакого пепла от женоподобной саламандры ни рядом с афроамериканским хором, ни на праздничном пригорке, ни по дороге на Кливленд не было и в помине.
– Этот полет я запомню навсегда, – наставительно сказал профессор ассистенту Ефрему и разгладил утратившие в небесах прямоту и строгость усы. – А вам, юноша, следует в приличных выражениях этот полет описать. Только не пытайтесь врать. Не пытайтесь выдавать мираж за действительность! Я конечно, сообщу вам подробности своего виде́ния… Но не увлекайтесь поэтическими сравнениями. Научными оборотами пишите, научными! И вообще, запомните: видимых форм эфирный ветер иметь не может!
– А как же то, о чем вы, господин профессор, кричали? Когда пламя и ветер бушевали рядом? – славянин Ефрем с хитрецой улыбнулся.
– Разве я кричал?
– Вы кричали: «Проклятая ящерица! Я тебя поймаю! Я тебе разведу ноги как следует!..». А потом рокотали без остановки: «Проклятье, проклятье! Теперь теорию эфира придется переворачивать с ног на голову!..». А потом уже тише вскрикивали: «И разве только ее?.. Если эфир живой, если он решителен, как пионеры Америки, что тогда про него следует думать? Если эфир есть творец и уничтожитель реальных форм, – кто тогда я? Игра эфирных струй?.. Но я не желаю быть творением ветра, не желаю быть сделанным из воздуха!». Тут вы добавили несколько бранных русских слов.
– Вы, юноша, страшно неопытны. Путь свой в науке только начинаете. Не все, что мы видим, существует на самом деле. О’кей. Мы с вами забудем про мои выкрики. Подготовьте сдержанный отчет: высота, скорость, неудачные замеры… В общем, эфирный ветер не удалось обнаружить и на этот раз. И не пожирайте меня мистическими славянскими глазами. Знаю я вас! Чуть что – вместо науки сразу о сверхъестественном болтать начинаете… Лучше почаще ругайтесь… Как это у вас называется?
– Материться…
– Да, вот именно: материтесь. Это вам, русским, вообще славянам, прекрасно удается. Ругательства – ваш козырь. А остальное мы сделаем сами. Теперь проверьте: не поврежден ли малый интерферометр? Возвращайтесь к корзине и сию же минуту проверьте.
– Уже проверил, господин профессор. Все цело и невредимо. Как будто не огненный шар плыл рядом, а…
– А невредимо – и прекрасно. Вы, юноша, должны четко осознавать: интерферометр, изобретенный моим коллегой профессором Майкельсоном, – очень, очень чувствительный прибор! И чувствителен он в первую очередь к вибрациям. Вот потому-то, – мистер Морли широко улыбнулся – потому-то в начале своей карьеры профессор Майкельсон даже спускал один из первых громадных интерферометров в подвал знаменитой Потсдамской обсерватории. Это было у вас, в Европе… Но помехи – как и в нашем случае – были и там, вибрации были и там…
– Я не забыл, господин профессор, вы упоминали об этом.
– Терпение, мой друг, терпение. Упоминать обо всем в подходящее время – таков мой девиз. И вот: одна пара зеркал не давала возможности исследовать все как положено. Пара зеркал делала оптическую длину световых лучей – короткой, слишком короткой… Но я заболтался. Принесите-ка мне стакан бурбона из ресторанчика… Ну там, на холме, видите?.. Старый Морли глотнет разок-другой. И не надо, юноша, разбавлять бурбон водой!
Евангельская музыка черного хора вдруг мощно, на одном из слогов расширившись, начала стихать.
Славянин Ефрем ушел за бурбоном. А профессор Морли, затихая вместе с евангельской музыкой, все бубнил:
– Да, я старик, старик. Но под струями эфирного ветра – чувствую себя моложе и моложе. Угу-гуй, моя крошка! Я отведу тебя на конюшню! Там протру твой пупочек нежной замшей, а потом – прислоню тебя к сладко-позорному столбу… О «Livery Stable Blues»! О blues and soul…
Эфирозависимые, «губэшник» и проч.
Проснулся я поздно. За Волгой, на левой, Романовской стороне, глухо бухнул колокол. На правой, Борисоглебской, нежно отозвались колокольцы мусорщиков. И опять в моей новой, еще пахнущей еловыми стружками гостинице стало тихо, как под водой.
Пора было собираться на службу.
Что-то неясное, однако, не давало мне покоя.
Вдруг я понял: мой русский бунт, который я лелеял в себе все последние дни и недели и который любил, как сотку вискаря на ночь, – стал увядать, никнуть!
Это было ново. Я сел на кровати и задумался. Тут же показалось: чтобы усмирить бунт – я и согласился ловить ветер! Между моим бунтом и ловлей ветра была какая-то связь, но сразу ее уловить я не мог.
Времени на обдумыванье было мало. По-дурацки улыбаясь собственному – не окончательному, но половинчатостью своей очень даже приятному – умиротворению, двинул я на улицу.
По дороге попадались мне все больше пьянчуги и окутанные печалью женщины. Пьянь весело мотало из стороны в сторону. А женщины… Женщины были очаровательны и пугливы! Они мило, по-старорусски, прикрывали края губ платочками. А одна, повстречавшись со мной взглядом, даже натянула платок до самых глаз. Любо-дорого было смотреть!
Хотя скорей всего женщины кутались от ветра. Не слишком в тот день сильного, но сырого, настырного. И вообще: сентябрьской веселинки как не бывало! Все заволоклось сизой дымкой, стало болезненно-хмурым.
Изменение погоды отозвалось во мне колющей болью. Вдруг понял: я ненавижу наше общество – ханжеское и загребущее! Но вот людей по отдельности – тех иногда даже люблю. Мне небезразличны людские страдания. Хотя эти страдания часто и вызывают у меня чувство гадливости…
Тихо бунтуемый несвоевременными мыслями и втайне ими наслаждаясь, в своем праздничном, привезенном специально для встреч с романовскими овцеводами костюме пробежался я по малолюдным улицам и уже через десять минут входил в контору «Ромэфира».
Кузнечик Коля был чем-то озабочен, даже расстроен.
Чуть подволакивая невидимым зеленым хвостом, прикрытым уныло сложенными прозрачными крылышками, он перескакивал от стола к окнам.
Разговор со мной Коля начал с повторения пройденного: снова разъяснил должностные обязанности.
– Первое и основное… – Коля на минуту задумался.
Тут я еще раз выслушал наставления про то, что должен ежечасно снимать показания с приборов, регистрирующих скорость ветра. Ветра простого и ветра эфирного.
Про главный прибор обнаружения ветра – интерферометр – Коля говорил с почтением, но и легкой ненавистью, как о высоко оплачиваемой и высоко взлетевшей даме-чиновнице. При этом называл даму почтительно: «Интера Ферапонтовна».
Про прибор второстепенный говорилось с легким пренебрежением, словно речь шла о помощнике председателя Волжской артели девелоперов. Называл Коля второстепенный прибор панибратски – «эфиркой».
– «Эфирка» – дело десятое, – учил башковитый Коля, – это еще когда он контур эфира вычертит. А вот Интера Ферапонтовна! Глаз с нее, взяточницы, не спускать! Но главней этих двух – «Апейрон-13». Этот не улавливает, этот – преобразует и воздействует! Его еще только недавно распаковали и мне даже притрагиваться к нему страшно. А вам – и совсем необязательно…
Я посмотрел на Колю с обожанием.
Коля в ответ скромно уронил большеглазую голову вниз.
Я изобразил на лице научно-познавательный восторг и показал жест «виктория».
Коля на «викторию» слегка поморщился и снова принялся отрабатывать прыжки кузнечика.
– Еще одно и страшно важное! Вы должны… – Коля еще раз задумался.
Я должен был:
а) спускаться с холма, а потом подниматься на него;
б) смотреть в оба – вдруг над метеостанцией мелькнет что-то вроде осенней грозы;
в) не упустить момент, когда Интера Ферапонтовна даст явный сбой;
г) слушать все указания Лели и Женчика и беспрекословно их выполнять;
д) Трифона – Трифоном не называть! А только Трифон Петровичем;
е) в долгие беседы с Трифоном не пускаться;
ё) а если такие беседы последуют, немедленно звонить Коле или, на худой конец, заму по науке господину Пенкрату.
– А то Трифон Петрович у нас большой выдумщик. Как бы он вас в авантюру какую не вовлек. А вы бы сдуру в нее не вляпались. Поэтому – никаких бесед! Вы не для авантюр, вы для великого дела нужны нам!..
Записав показания, я обязан был спускаться с холма и внимательно, в строго указанных местах, осматривать воду. При повторном восхождении мне предписывалось отмечать малейшие изменения в северо-восточной части неба, какие только замечу.
За Волгой я еще не был. Поэтому поездки на строго охраняемую, по словам Коли, метеостанцию – ждал с нетерпением.
– Всего четыре раза за день туда-сюда и сгоняете. Ерунда! Разминка для уставшего таза и гимнастика для глаз! Кстати, метеостанцией мы зовем наше детище для краткости. Полное название: «Станция эфирометеослежения», а чуть короче – «Эфирометеостанция», – красиво закруглил речь Коля и стал звонить Трифон Петровичу.
Трифон не отвечал.
– Трифон Петрович – главный специалист проекта, – бодро начал Коля, но вдруг прыгать вокруг стола перестал и голос понизил. – Только вот с Трифоном у нас трудности, с Трифоном у нас беда… Я не должен был говорить. Вы человек новый. Но… Трифон Петрович в последнее время…
Здесь вошел Дроссель, и Коля свой дерзостный шепот прервал.
Дроссель молча протянул сухую ладонь вперед, получил от Коли какую-то бумагу и так же молча ушел, а Коля отвел меня от окна подальше и заговорил с болезненной страстью:
– Что бы ни случилось, наблюдений не прерывайте! Что бы Трифон ни отмочил – ведите записи! Это моя личная и настойчивая просьба. Надо дождаться возвращения Селимчика, и тогда он попросит вас об одном одолжении… А записи станут подтверждением вашего тесного вовлечения в проект… Заодно учтите: Дроссель – «губэшник».
– Не понял?
– Ну по губам он раньше угадывал! В известном ведомстве служил. Понимаете? Так что вы рот ладошкой прикрывайте… Вообще-то Дроссель не злой. И не так чтобы часто доносит. Просто его соблазняет сама возможность вывести всех нас на чистую воду. Да-да! Деньги и звания ему не нужны. Здесь он светлей херувима. Зато нужно ему – изобличать и ловить! И потом медленно растирать в порошок… Он может о ваших словах и поступках никому и не сообщать, но сам-то вопьется проволокой… Поэтому при Дросселе про Трифона – ни вслух, ни шепотом! Да, вот еще… Дроссель не верит в эфирный ветер. А я – верю. Сильней Селима, сильней Ниточки, сильней даже, чем Трифон! Я верю, и вы поверите. И, надеюсь, поможете нам. Потому что нет в мире ничего…
Здесь на Колиных ресницах затрепыхалась слеза, и он опять, как большеглазый, но не такой уж ловкий кузнечик, куда-то упрыгал. Наверное, в туалет: умываться, оправляться.
Я поплелся к Леле. Ее комната располагалась в конце коридора у лестницы. Я надеялся возобновить вчерашние двусмысленные разговоры и после них предложить Леле сходить еще раз в кино, а может, и в ресторан. Не все ведь одни «Справки» по вечерам размалевывать!
Однако на Лелином месте сидела другая девушка. Моложе и прекрасней. Девушка была белокурой, коротко стриженной, со слабеньким румянцем на скулах и неправдоподобно яркими, пылающими темным огнем глазами. Нос ее был так мал, что на лице почти не выделялся. Но это полу-отсутствие девушку ничуть не портило. Даже прибавляло ей притягательности.
Оглядев меня с головы до пят, девушка вдруг сказала:
– Дайте мне денег в долг.
Я вынул из кармана и молча протянул ей пятьсот рублей.
– Этого мало, – заявила девушка, – дайте еще. Но если, конечно, у вас больше нету… Как-нибудь обойдусь и пятью сотнями.
Сдержанно поклонившись, я вынул и положил на стол вдобавок к пятистам еще тысячу.
Тут девушка вскочила на ноги, оббежала стол и сунула эти полторы тысячи в нагрудный карман моего пиджака.
– А вы, оказывается, ничего. А говорили – жадный старик! И не скелет вовсе… Я вас испытывала. Тут про вас уже наговорили всякого.
– Врете, наверно. Меня здесь толком никто не знает.
– Это как сказать. Планы-то с вами большие связывают. Правда, мне про эти планы особо не сообщают. А звать меня Женчик. Так с первого дня здесь прозвали… Зарплату мы здесь, – вдруг прерывисто вздохнув, добавила девушка, – чепуховую получаем. Правда, выдают все-таки. Но это потому, что Дроссель наш Путина как огня боится. Он думает, Путин возвратился, чтобы всех сажать. А кое-кого и кастрировать. Но дело, конечно, не в зарплате. Нам на главный эксперимент, на замеры в стратосфере и в космосе – денег не хватает! Ну, опять я про деньги… Поехали – за Волгу. На пароме! Там сейчас хорошо, свежо…
– А Леля? – я постарался придать голосу оттенок равнодушия.
– Леля давно там. У нее ранняя, очень ранняя работа. Росу она собирает. Соберет и в лабораторию… Хватайте портфель – и за мной!
* * *
По узкой лестнице со стороны реки Вицула, Струп и Пикаш поднимались в город.
Шли, кряхтя и поругиваясь. Вицула – в пижаме. Двое других – в трико, в майках и поверх них в расстегнутых черных ветровках. За шею Струпа зацепился и широко болтался из стороны в сторону шелковый зеленый шарф. Волжского холодка поднимающиеся не чувствовали.
– Че, как вчера?
– Не, не выйдет. Уже знают. Как пить дать – все попрятали.
– Поищем – нароем!
– Фиг ты чего просто так, Струп, нароешь.
– Дык мы Вицулу нашего ученого на базар за дурью отправим.
– Мне дури привозной не надо! Нашей, романовской отравы хочу…
– Дык скоро поднесут тебе, Пикаш, понюшку… Успевай только ноздри раздувать!
Выглянуло солнце. Мы с Женчиком стояли за деревьями, у верхнего конца деревянной лестницы, и все хорошо видели и слышали. А поднимающиеся – те нас не видели.
– Это эфирозависимые! – Женчик отступила за дерево, – они меня знают. И если поймают… Бежим дворами!
Мы кинулись наутек. Я на ходу оглянулся.
«Эфиозависимые» ловить нас и не думали.
Сперва я молча, на бегу, негодовал. Однако скакать по обрывистым задворкам то вверх, то вниз становилось все тяжелей. Я свистел и хрипел легкими и наконец, не выдержав, крикнул далеко опередившей меня спутнице:
– Женчик! Мы им по барабану! Да они на нас-с…
Тут я закашлялся. Женчик остановилась.
– Это они делают вид, что по барабану. А сами только и думают… Вы туда, туда гляньте!
Женчик подбежала ко мне и подтолкнула уже к другой лестнице, тоже уступами сбегавшей к Волге.
Чуть в стороне и внизу увидал я мужчину и женщину.
Было далековато, но можно было заметить: женщина, как и вчерашний мальчик-овчар, прогуливалась в калошах на босу ногу. А вот стоявший рядом с ней гривистый (причем грива – ярко-рыжая) мужик, тот был одет как на праздник: распахнутый, но ничуть не мятый синий плащ, в руках шляпа, и вдобавок брюки в полоску…
Женщина и мужчина, ломая шеи, кого-то вверху высматривали. Потом мужчина уронил шляпу, за ней нагнулся, и задирать голову вверх перестал.
– Это им эфирозависимые про нас разболтали. Баба тоже хочет эфиром разжиться… Мы тут эфир концентрированный для парфюмерных нужд выпускать наладились. Селимчик придумал! Небольшое побочное производство… Но выжить позволяет. А и крепкий же!.. Нюхнешь и готово: поплыл на всех парусах. В духи отечественные этот эфир добавлять станем. Лучше французских будут! Только вот мужик этот рыжий… Дайте-ка гляну внимательней… Нет, не знаю, новый какой-то…
Гривистого мужика, к своему удивлению, узнал я.
Неделю назад он ехал со мной из Москвы в ярославском поезде-экспрессе. Как раз по гриве, по характерно выгнутой спине и мерному верблюжьему переступу ног я его и узнал. Только тогда удобно устроился в сорокаместном вагоне, как он, клоня голову и на ходу по-верблюжьи покачиваясь, вошел, сел и лицо газеткой прикрыл. Так всю дорогу мордой в газете и просидел!
Тут Женчик толкнула меня локотком, мигнула, вынула из сумочки и показала по очереди два стальных миниатюрных баллончика безо всякой маркировки. Было, однако, хорошо видно: баллончики прямо с конвейера.
– Вот они, родимые. Запахи сегодня дегустировать будем… А по тем троим и по этой бабе давно наркология плачет! Вот только этот, с гривой… Какой-то он подозрительный. Грива, что ли, слишком роскошная…
– Черт с ней, с гривой! Решили поймать – так поймают. И баллончики отберут. Поэтому предлагаю…
– Сегодня – точно не поймают. У нас внизу, в слободке – моторка. На ней доберемся. А на завтра мы для эфирозависимых сюрприз приготовили. Капкан называется!.. Мне ведь баллончики только на три дня выдали. Потом снова на завод их, на испытания…
– Плохо, моста через Волгу нет. А то б…
– Мост будет! – Женчик как-то слишком восторженно рассмеялась.
Она рассмеялась, а я призадумался. В голову влезла неприятная мыслишка: что, если и спутница моя – эфирозависимая?
– …ладно, бежим скорей! – толкала и толкала в спину коротко стриженная девушка.
– Дайте еще постоять. Отдышусь хоть… А эти эфирозависимые – они кто?
– Трое раньше у нас на метеостанции работали. Пили, конечно, и нюхали… А баба… Ее эфирный вихрь краем задел. Весной это было. Чуть погодя мужиков уволили, а баба сама в отделение неврологии запросилась. Психушки-то у нас в городе нет. Коля ей и помог. Коля наш только с виду мальчик-кузнечик. А так – сильнее Коли зверя нет!
– Ну и как же эти эфирозависимые теперь?
– Мы своих не бросаем. Нашли им работу. Так нет. Эфиру им подавай… И не только парфюмерного!.. Вам по секрету, как любимцу руководства: мы тут не только эфир парфюмерный выпускать наладились. Настоящий эфир пробуем синтезировать! Пускай он искусственный, пускай непроверенный. И все-таки – это аналог эфира мирового! Сибиряки нам сильно помогли. Из Академгородка, из Красноярска…
– Вон оно как…
– Но ведь такого «непарфюмерного» эфира у нас – и пол-баллончика не наберется. И хранят этот новый газ, как зеницу ока. Никто кроме Трифона и Коли его в глаза не видел, не нюхал, не обонял! А этим… Кто-то из лаборантов про настоящий эфир им проболтался… Может, Столбов. Может, сам Пенкрат… Ну эта эфирозависимая сволочь и вообразила: кто-то настоящего эфиру нюхнуть им даст. Слух-то идет! Мол, что-то новое и необыкновенное тут у нас завелось…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?